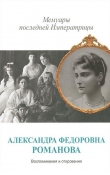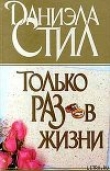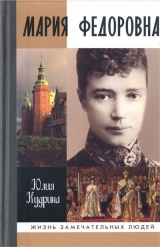
Текст книги "Мария Федоровна"
Автор книги: Юлия Кудрина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Во время эпидемий тифа, холеры и цинги, начинавшихся в результате неурожая, в районы, пораженные эпидемиями, были направлены специальные передвижные санитарные отряды, в состав которых входили более семисот сестер милосердия.
В 1899 году в Санкт-Петербурге был создан Комитет Красного Креста по подаче первой помощи пострадавшим от несчастных случаев, были открыты первые станции, ставшие прообразом современной службы «скорой помощи».
Мария Федоровна, еще будучи цесаревной, приняла под свое попечительство учрежденное в 1872 году в Петербурге благотворительное «Общество подания помощи при кораблекрушениях», переименованное позже в «Общество спасения на водах». Это было первое предприятие такого рода в России. Количество различного рода происшествий на воде, в том числе на побережьях Балтийского, Белого, Черного и Каспийского морей, а также на реках и озерах, по официальным данным начала 1870-х годов, ежегодно составляло 5–7 тысяч.
«Близко сердцу моему будет то добро, которое возникающим ныне предприятием будет приносимо человечеству в минуты отчаянной борьбы его со стихией», – сказала Мария Федоровна, принимая на себя руководство обществом.
К 1875 году, с марта по сентябрь, были открыты семь спасательных станций на Балтийском море, по одной на Черном (в Таганроге) и на Каспийском (на Апшеронском полуострове). Три станции были созданы на озерах и реках, в частности в Ярославле, в Екатеринославской губернии, в Петрозаводске. Две спасательные лодки-станции в разгар летних сезонов постоянно дежурили в Киеве на Днепре.
Особое внимание было уделено водам Балтийского моря, где для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи экипажам и пассажирам курсировали корабли: «Цесаревич Александр», «Великий князь Константин», боты «Великая княгиня Александра Иосифовна», «Великая княгиня Александра Петровна».
В те годы впервые на спасательных станциях в России стали применяться спасательные принадлежности – круги, спасательные пояса, палки с петлей и другие. За десять лет существования общества (1872–1883) было организовано 1079 спасательных пунктов и спасено 6800 человек. На каналах и реках Петербурга было учреждено 114 спасательных станций.
Из своего личного бюджета Мария Федоровна с 1874-го и в последующие 44 года ежегодно вносила добровольный членский взнос Российскому обществу спасения на водах в размере четырехсот рублей.
Императрица покровительствовала также Женскому патриотическому обществу, Обществу покровительства животным и многим другим.
Из личных средств императрицы Марии Федоровны оказывалась денежная помощь и благотворительным организациям Дании. В архивах сохранились описи, свидетельствующие о размерах этой помощи. Среди подобных организаций были: Приют святой Дагмары, женское благотворительное общество в Копенгагене, общество «Нудела», занимающееся раздачей лекарств бедным, институт диаконис, действовавший при датских церквях и осуществлявший помощь нуждающейся части населения.
Мария Федоровна на протяжении всей своей жизни была шефом Кавалергардского и лейб-гвардии Кирасирского 4-го (впоследствии 2-го), лейб-драгунского Псковского и 32-го лейб-драгунского (впоследствии 11-го Уланского) Чугуевского Ея Императорского Величества полков и Гвардейского экипажа.
Маршал Финляндии Густав Маннергейм, бывший в молодости кавалергардом, вспоминал: «Иногда в зимнее время офицеры кавалергардского полка должны был нести караул в Зимнем дворце. В эти минуты мне казалось, что я прикасаюсь к частичке истории России. Подобные чувства вызывала и историческая военная форма, которую мы должны были носить: мундир из белого сукна с посеребренным воротником с галунами, плотно облегающие лосины, блестящие кожаные сапоги… Поверх мундира надевался красный вицмундир с Андреевскими звездами, вышитыми спереди и сзади. Наряд довершала каска, украшенная двуглавым императорским орлом, которого мы, офицеры, называли мирным именем „голубь“.
Зимний дворец предоставлял офицерам-кавалергардам и более приятное впечатление… раз в году шеф полка императрица Мария Федоровна вместе со своим супругом императором Александром III принимала у себя всех офицеров полка…»
Христианская вера в царской семье
В жизни императора Александра III и императрицы Марии Федоровны религия занимала особое место. Мария Федоровна глубоко прониклась русской православной религией и культурой уже в первые годы замужества. Живя в России, она усвоила дух и обычаи страны. Ее первый жених, великий князь Николай Александрович, в первые месяцы знакомства в письме к отцу написал: «Прошу Бога, чтобы она (Дагмар. – Ю. К.)привязалась к новому своему Отечеству и полюбила его так же горячо, как мы любим нашу милую Родину… Всякий любит свое отечество, но мы, русские, любим его по-своему, теплее и глубже, потому что с этим связано высокое религиозное чувство, которого нет у иностранцев и которым мы справедливо гордимся…»
Высокое религиозное чувство великому князю Николаю Александровичу, так же как и его брату великому князю Александру Александровичу, было привито их матерью – императрицей Марией Александровной. Александр в письмах к жене не раз отмечал, что главное влияние в вопросе духовного и нравственного воспитания на него оказала его мать: «Мама́ постоянно нами занималась, приготовляла к исповеди и говению; своим примером и глубокою христианскою верою приучила нас любить и понимать Христианскую веру, как она сама ее понимала. Благодаря Мама́ мы, все братья и Мари, сделались и остались истинными христианами и полюбили веру и церковь. Сколько бывало разговоров самых разнообразных, задушевных: всегда Мама́ выслушивала спокойно, давала время все высказать и всегда находила, что ответить, успокоить, побранить, одобрить и всегда с возвышенной христианской точки зрения… Всем, всем я обязан Мама́ – и моим характером и тем, что есть!»
Во всем происходящем как Александр Александрович, так и Мария Федоровна видели прежде всего Промысел Божий. «Во всем, что делается на Земле, – писал из Болгарии цесаревич, – есть воля Божия. Господь, без сомнения, ведет судьбы народов к лучшему, а не к худшему, если они, конечно, не заслуживают полного Его гнева. Поэтому да будет воля Господня над Россией, и что ей следует исполнить, и что ей делать, будет указано Самим Господом. Аминь».
Молитва, как очищение души и утверждение лучших благородных помыслов, была постоянным спутником жизни императорской четы.«…Ты не можешь себе представить, – писал цесаревич 30 июня 1879 года во время очередной разлуки с Марией Федоровной, – что я чувствовал, видя эти милые комнаты, где еще так недавно мы жили так счастливо все вместе. Мне вдруг сделалось так грустно, так было все пусто кругом меня, я взошел в спальню и там на коленях горячо молился перед образами за тебя, моя душка, и за милых детей и просил моих дорогих Ан-Папа́ и Ан-Мама́, чтобы они не забывали нас в своих молитвах, как до сих пор нас не забывали и благословляли!..»
Будучи глубоко религиозным человеком, цесаревич уделял большое внимание религиозному воспитанию и необходимости постоянного общения с Богом. В письмах жене он часто затрагивал эту тему. В мае 1877 года, вскоре после начала Русско-турецкой войны, он писал Марии Федоровне из Румынии: «Скажи от меня Ники и Георгию, чтобы они молились за меня; молитва детей всегда приносит счастье родителям, и Господь услышит и примет ее…»
Императрица Мария Федоровна, приняв православие, относилась к религии и религиозным обрядам очень свято и старалась передать это отношение своим детям. В одном из писем мужу из Германии, рассказывая о свадьбе дочери ландграфа Гессенского Елизаветы, она писала: «Невеста была красива и совершенно не смущалась. Мне кажется, что она очень довольна, что покидает отцовский дом. Я пришла бы в отчаяние, если бы мне пришлось выходить замуж таким образом. В этом зале у меня не возникло никаких религиозных чувств. Да, клятва была красивой, но никаких молитв, больше ничего. Я бы после такой церемонии не почувствовала бы и не поверила бы, что вышла замуж».
Религиозные праздники – Рождество и Пасха, бывшие в то время главными праздниками на Руси, торжественно праздновались царской семьей. Праздники объединяли всех русских людей, обращавшихся в эти дни в молитве к Богу.
«Сегодня утром в 11 часов была Заупокойная обедня в крепости (Петропавловском соборе. – Ю. К.).И я горячо молился вместе с тобой у дорогих могил. Чудная была служба, я так люблю Пасхальную службу и Христос Воскресе и прочее пасхальное пение. Погода тоже сегодня отличная, ясная и теплая».
Александр III часто говорил на религиозные темы, в письмах рассказывал о своих впечатлениях от встреч со священнослужителями и верующими. 14 мая 1884 года из Гатчины он сообщал жене: «Утро как всегда и доклады возобновлены. Был с прощанием митрополит Платон, он уезжает к себе в Киев на все лето и очень сожалел, что не мог проститься с тобой. Он подарил мне в воспоминание коронации маленькую губку, которой он обтирал места после миропомазания; губка помешена в серебряный футляр очень милой работы, в виде кубка с крышкой. Это меня очень тронуло со стороны почтенного и милого старика, что он подумал обо мне».
В российских архивах сохранилась записка отца Иоанна Янышева, протоиерея Русской церкви в Висбадене, которая была специально составлена для Дагмар, когда она в 1866 году собиралась в Россию. Записка носит название «Об основных различиях православной и лютеранской церкви».
В царствование Александра III в стране было открыто двадцать пять тысяч церковно-приходских школ и пять тысяч церквей и часовен. Были открыты русские церкви и за рубежом. Как отмечали современники, царь был глубоко религиозно терпимым человеком. Лица, занимавшие при дворе высокие посты, часто были неправославной веры. Так, гофмаршал двора граф Бенкендорф был католиком, а министр двора барон Фредерикс – лютеранином.
«Принес Жаконе (корреспондент французской газеты. – Ю. К.)вырезку из „Times“ от 15 ноября (1889 года – Ю. К.), – читаем мы в дневниках жены генерала от инфантерии, члена Совета министров, министра внутренних дел Е. В. Богдановича, – где пишут, что Государь дал три месяца непрошенного отпуска Победоносцеву. Поводом к этой немилости послужило религиозное гонение так долго бывшего всемогущим прокурора Святейшего синода. Оказывается, что во время пребывания Царя в Копенгагене он получил памфлет Дальтона (протестантский пастор. – Ю. К.),где он пишет, каким гонениям подверглись балтийские лютеране по приказанию Победоносцева. Говорят, он был глубоко возмущен рассказами, каким страданиям подвергаются лютеранские пасторы, высказал это в разговоре с датским двором, и его убеждали там, чтобы гуманнее обращаться со всеми, кто не принадлежит к православной русской церкви. Государь в ту минуту ничего не обещал, но, по-видимому, остался под впечатлением того, что слышал…»
По воспоминаниям великой княгини Ольги Александровны, Рождество и Пасха были самыми памятными днями в году, «это были счастливые семейные торжества». Готовились к Рождеству заранее: развешивали образа в Храме, выбирали подарки для гостей. Понятие «семья» включало не только императора, императрицу и их детей, но также великое множество родственников. К ней принадлежали тысячи слуг, лакеев, придворной челяди, солдат, моряков, членов придворного штата и все, кто имел право доступа во дворец. И всем им полагалось дарить подарки.
В сочельник в 6 часов вечера начинали звонить колокола гатчинской дворцовой церкви, созывая верующих к вечерне. После службы устраивался семейный обед.
Праздничные столы накрывались, как правило, в Арсенальном зале. После обеда все «с нетерпением ждали, пока император не позвонит в колокольчик. И тут, забыв про этикет и всякую чинность, все бросались к дверям банкетного зала. Двери распахивались настежь, и мы оказывались в волшебном царстве. Весь зал был уставлен рождественскими елками, сверкающими разноцветными свечами и увешанными позолоченными и посеребренными фруктами и елочными украшениями. Ничего удивительного! Шесть елок предназначались для семьи, и гораздо больше – для родственников и придворного штата. Возле каждой елки стоял маленький столик, покрытый белой скатертью и уставленный подарками». Кругом царила суматоха и толкотня, но, как вспоминает великая княгиня Ольга Александровна, даже императрица Мария Федоровна терпеливо переносила беспорядок, царивший повсюду.
«После веселых минут, проведенных в банкетном зале, пили чай, пели традиционные песни. Елки убирали через три дня. Этим занимались сами дети. В банкетный зал приходили слуги вместе со своими семьями, а царские дети, вооруженные ножницами, взбирались на стремянки и снимали с елей все до последнего украшения. Все изящные, похожие на тюльпаны, подсвечники и великолепные украшения, многие из которых были изготовлены Боленом и Пето, раздавались слугам. До чего же они были счастливы, до чего же были счастливы и мы, доставив им такую радость».
Рождественские подарки обходились императорской семье довольно дорого. В списках, составленных в канцелярии министра императорского двора, числились как родственники (русские и зарубежные), так и вся прислуга, солдаты и матросы, служившие при дворе. Это было несколько тысяч имен. На всех карточках, прикрепленных к подаркам, стояли собственные подписи императорской четы.
Царские дети получали в качестве подарков книги, игрушки, садовые инструменты, родственники и близкие друзья – драгоценности, а все остальные – изделия из серебра, фарфора или стекла.
Великая княгиня Ольга Александровна с большой теплотой вспоминала те далекие рождественские праздники в Гатчине. «Подарок, который я всегда дарила Папа́, – вспоминала она, – был изделием моих собственных рук: это были мягкие красные туфли, вышитые белыми крестиками. Мне было так приятно видеть их на нем».
Пасха была самым важным религиозным праздником. «Ее праздновали, – вспоминала великая княгиня Ольга Александровна, – особенно радостно, потому что ей предшествовали семь недель строгого воздержания – не только от употребления в пищу мяса, масла, сыра и молока, но и от всяческих развлечений… Не устраивались ни балы, ни концерты, ни свадьбы. Период этот назывался Великий пост, что очень точно определяло его значение».
Полковник В. К. Олленгрэн, друг детства Николая II, мать которого была фрейлиной Марии Федоровны, в своих воспоминаниях рассказывает, как, будучи детьми, он с Ники накануне пасхальных дней в Гатчине вместе с дворцовой девушкой Аннушкой вместе красили пасхальные яйца.
«Вся мамина квартира пропахла луком, так что Ники даже осведомился: „Чего это так в глаза стреляет?“ Но когда он увидел, как обыкновенное белое яйцо, опущенное в миску, делается сначала бурым, а потом – красным, удивлению его не было границ. Аннушка, добрая девка, снизошла к нашим мольбам, засучила нам троим рукава, завесила грудь каждому какими-то старыми фартуками и научила искусству краски. И когда изумленный Ники увидел, как опущенное им в миску яичко выкрасилось, он покраснел от радости и изумления и воскликнул: „Это я подарю мамочке!“…
…Во время христосования отец Ники вдруг потянул носом и спросил: „Что-то ты, брат, луком пахнешь, а?“ И тут заметил его неоттертые руки. „А ну ты, Жорж? Ты, Володя?“ Понюхал всех. От всех несло луком. „В чем дело?“ Мать со слезами объяснила происшествие. Александр Александрович расхохотался на весь дворец. „Так вы малярами стали? Молодцы! А где же ваша работа?“ Мы бросились в опочивальню и принесли свои узелки. „Вот это папе, это маме, это – дедушке“. Александр Александрович развел руками. „Вот это – молодцы, это – молодцы! Хвалю. Лучше всякого завода. Кто научил?“ – „Аннушка“. – „Шаль Аннушке! И пятьдесят рублей денег. А вам по двугривенному. Сколько лет живу на свете – не знал, что из лука можно гнать краску!“ И через несколько минут после его ухода нам принесли по новенькому двугривенному».
Начиная с Вербного воскресенья дети посещали церковь утром и вечером. Некоторое послабление дисциплины приносила Великая суббота… Заутреня, торжественная субботняя служба, являлась наиболее важной. Все присутствовавшие на ней были одеты как для важного дворцового приема. Служба длилась в течение трех часов.
«Я не помню, чтобы мы чувствовали усталость, зато хорошо помню, с каким нетерпением мы ждали, затаив дыхание, первый торжествующий возглас „Христос Воскресе“, который затем подхватывали императорские хоры…
После возгласа „Христос Воскресе!“, на который присутствующие отвечали „Воистину Воскресе!“, разом исчезали заботы и тревоги, разочарования и беды. У всех стоящих в храме – в руках зажженные свечи. Всех охватывает радостное чувство. Долгий пост окончен, и царские дети бегут в банкетный зал, где ждут их всякие вкусные вещи, к которым им запрещено было притрагиваться с самой Масленицы. Начинается разговенье. По пути мы ежеминутно останавливались, чтобы похристосоваться с дворецкими, лакеями, солдатами, служанками и всеми, кто нам встречался», – вспоминала Ольга Александровна.
Александр III в своих письмах жене всегда делился своими впечатлениями от церковных служб. Особенно нравились ему пасхальные службы.
Светлое Христово Воскресенье было тяжелым трудовым днем для императора и императрицы и всей царской семьи. С утра в одном из самых прекрасных залов Большого Гатчинского дворца устраивался большой прием. К императору и императрице длинной вереницей подходили для христосования все обитатели Гатчинского дворца, и каждый получал свое пасхальное яйцо, изготовленное из фарфора, малахита или яшмы. Как правило, христосование продолжалось несколько дней, в нем принимали участие дворцовая комнатная прислуга, камер– и гоф-фурьеры, скороходы, «арабы», чины императорской охоты и конюшенного ведомства, городовые, ловчие, сторожа, садовники, матросы и многие другие. Царские дети охотно христосовались со всеми. «Особенно, – вспоминала великая княгиня Ольга Александровна, – мне нравилось стоять рядом с Папа́, когда наступала очередь христосоваться с детьми – певчими из церковного хора. Некоторые из них были совсем крошками, и лакеям приходилось их поднимать и ставить на стул. Не мог же мой отец наклоняться по нескольку раз в минуту, чтобы поцеловать малышей».
Христосование, важная часть пасхальных празднеств, всегда строго соблюдалось. В письмах царя к Николаю Александровичу не раз говорилось о пасхальных ритуалах. Из письма цесаревича Николая Александровича императору Александру III на Пасху 1885 года: «Мой милый, милый Папа́. Все яйца, которые ты мне поручил дать известным лицам, розданы; но все-таки там еще нужно 2 больших яйца и 6 малых. Я могу наверно сказать, что ничего пока не перепутал».
28 марта 1885 года император писал цесаревичу: «Спасибо тебе, милый Ники, за твое письмо и отчет о христосовании с Гатчинскими жителями. Завидую страшно вам, что вы наслаждаетесь в милой Гатчине. Сегодня в 2 часа я христосовался с Павловским караулом, который стоял в Аничкове в ночь на Пасху, а потом был смотр новобранцам на обоих дворах Аничкова, который продолжался 1 ½ часа. Всего новобранцев было 4979 человек». «Посылаю тебе, милый Ники, еще 11 яиц больших, малых у меня больше нет. Не понимаю, как мы так дурно считали, что не хватило всем; значит яиц было не 51, а 43, иначе вышло бы верно», – писал Александр III сыну в другом письме.
Пасхальные традиции чтили в царской семье и после ухода из жизни императора Александра III. Из дневника императрицы за 1915 год: «Прекрасный Пасхальный день! Приняла 426 человек, всем раздавала яйца. Моим дамам и господам я дала маленькие подарки с моим вензелем».
С 1885 года в царской семье традиционными пасхальными подарками стали пасхальные яйца, выполненные ювелиром К. Фаберже. Первым таким подарком было пасхальное яйцо «Курочка», подаренное Александром III Марии Федоровне на Пасху в 1885 году. В яйце находился сюрприз в виде пестрой курочки, внутри которой были помещены миниатюрная корона и сделанное из рубина яичко. Яйцо было изготовлено из золота и украшено белой эмалью. За этот удивительный подарок К. Фаберже получил от государя почетное звание императорского ювелира. В том же году ему было присвоено звание поставщика императорского двора. Последним пасхальным подарком Александра III Марии Федоровне, выполненным в мастерской К. Фаберже мастером М. Перчиным в 1884 году, явилось яйцо «Ренессанс» – прекрасный образец русского ювелирного искусства.
В Гатчине всегда торжественно отмечались и другие церковные праздники. Так, в 1881 году, как свидетельствуют источники, был торжественно отмечен праздник Богоявления. Крестным ходом верующие прошли на «Иордань» – место водосвятия под открытым небом – к Серебряному озеру. По пути к озеру шпалерами были выставлены войска. В том же году, согласно источникам, праздник Преполовения (середина между Пасхой и Пятидесятницей) совпал с днем рождения наследника престола Николая Александровича (6 мая по старому стилю). На Серебряном озере в Гатчине, напротив грота Эхо, по этому случаю был отслужен водосвятный молебен.
Каждый год в Гатчине торжественно отмечался день перенесения христианских святынь с острова Мальта. История этих, как их называют, «мальтийских святынь», которые были представлены рукой святого Иоанна Предтечи, Филермской иконой и частью Святого Животворящего Креста Господня, восходит к временам императора Павла I.
После утверждения в 1845 году Николаем I нового градостроительного плана Гатчины, которая с 1840 года была штаб-квартирой императора во время ежегодных военных маневров, началось строительство нового храма. Архитектором его был Роман Иванович Кузьмин (1810–1867). Собор получил имя небесного покровителя основателя Гатчины святого апостола Павла. Он был заложен 17 октября 1846 года, освящен митрополитом Никанором (Клементьевским) 29 июля 1852 года. На строительство были отпущены деньги из государственной казны. Собор Святого апостола Павла стал с тех пор жемчужиной Гатчины. Для церемонии освящения Павловского собора в Гатчину из Санкт-Петербурга из церкви Зимнего дворца были доставлены «мальтийские святыни».
Осенью 1852 года храм посетил император Николай I. По его указанию храм Святого Павла становится местом ежегодных празднеств.
Накануне 11 октября святыни доставлялись из Зимнего дворца в гатчинскую дворцовую церковь. Здесь совершалось всенощное бдение, а в самый день праздника – ранняя литургия. Затем крестным ходом святыни переносились на поклонение в Павловский собор. Поклониться святыням верующие приходили со всех окрестных сельских приходов, было много богомольцев из Петербурга, а также из российских губерний. Святыни оставались в Павловском соборе до праздника Казанской Божьей Матери, а затем их снова увозили в Санкт-Петербург.
9 мая в Гатчине также ежегодно отмечался праздник лейб-гвардии Кирасирского полка. С 1733 года шефами Кирасирского полка по традиции были российские императрицы, в том числе и императрица Мария Федоровна.
Осенью 1883 года Гатчину посетил патриарх Иерусалимский Никодим в сопровождении Святогорской депутации. Состоялся прием у государя, а затем высокая депутация была принята императрицей Марией Федоровной и наследником Николаем.
Глубоко почиталась в царской семье икона Богоматери Феодоровской, так как с ней было связано такое важное историческое событие, как избрание на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова. В те времена в Ипатьевский монастырь близ Костромы, где жил тогда юный Михаил с матерью, старицей Марфой, из Москвы прибыло посольство с Владимирской иконой Божьей Матери и иконой московских чудотворцев. Костромское духовенство явилось с Феодоровской иконой к Марфе, которая не хотела отпускать сына, и велело покориться ради Богоматери. Марфа упала на колени перед иконой и молвила: «Да будет воля Твоя, Владычица! В Твои руки передаю сына моего. Наставь его на путь истинный, на благо себе и Отечеству!» Так был избран первый царь из династии Романовых, и с тех пор образ Феодоровской иконы был особо почитаем русским царствующим домом.
Празднование в честь иконы совершалось дважды: 16 (29) августа – в день ее явления князю Василию Костромскому и 14 (27) марта – в память провозглашения на царство Михаила Федоровича Романова.
Посещая церковь, Александр III, по свидетельству С. Д. Шереметева, «…становился так, что его заслонял занавес перегородки. Но со стороны его было видно. Стоял он сосредоточенно. Никогда ни с кем не разговаривая, становился на колени, когда пели „Отче наш“ и диакон возглашал: „Со страхом Божьим!“, и священник: „Всегда ныне и присно“. Неизменно крестился большим крестом, когда диакон читал прошение: „Заступи, спаси и помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию“. Умилителен был день причастия, когда Государь со всею семьею, со всем домом и прислугою, с кучерами, с старыми солдатами и с народом подходил к Св. Тайнам. Это бывало в церкви Аничкова дворца. В Гатчине помню я, как он каждое воскресенье отдавал просфору дежурному вестовому.
Как дорожил он службою Страстной седьмицы и как любил вообще обрядность, символизм нашей православной церкви, красоту которой понимал, видя в ней глубокую и возвышенную поэзию…».
Александр III и Мария Федоровна, будучи музыкальными натурами, очень любили церковную музыку, особенно Бортнянского и Львова. «Херувимскую» Львова царь заказал для пения во время коронации.
По распоряжению царя маленьким певчим церкви впервые был предоставлен Английский дворец в Петергофе. Царская чета часто навещала юных певчих, заботилась о их благополучии, дарила подарки. «Он (Александр III. – Ю. К.), – пишет в своих воспоминаниях С. Д. Шереметев, – представил впервые маленьким певчим Английский дворец в Петергофе, нередко навещал их, заботился об их гигиене, разговаривал с мальчиками, посылал их купаться или ловить рыбу, поощрял их за пение и давал подарки».
Посещение святых мест Александр III считал важным и необходимым. 11 июля 1891 года он писал сыну во время его поездки на Восток: «Когда будешь на обратном пути в Москве, то устрой так, чтобы можно было бы тебе поехать на несколько часов в Троицкую Серг[иевскую] Лавру, это я нахожу весьма желательным и достойно закончит твое долгое и утомительное путешествие».
Все письма императрицы содержат обращения к Богу, у которого она постоянно просит благословения семье, мужу, детям: «Сегодня все мои мысли находятся исключительно рядом с тобой. С самыми нежными любовью и молитвами я прошу, чтобы Господь посылал тебе Свое Благословение всегда и во всем, освещая твой путь и помогая тебе самую трудную цель сделать более легкой, мой дорогой и любимый Саша»; «Обнимаю тебя от всего сердца, мой любимый Саша, и прошу Бога благословить тебя и дорогих детей. Твоя на всю жизнь. Твоя верная и преданная Минни», – писала она мужу.
«…15 мая 1894 г. Да озарит тебя Господь своим благословением и будет помогать тебе всегда и во всем. Пусть Он даст тебе силы и здоровье, чтобы ты смог еще много-много лет осуществлять то большое дело, к которому Он тебя призвал, во имя процветания и славы нашей дорогой России и счастья нас всех и прежде всего твоего. Такова моя усердная молитва, с которой я каждый день обращаюсь к милосердному Богу».
Рассказывая о своем пребывании у сына Георгия в Абастумане, Мария Федоровна замечала: «Вчера утром мы не выходили на прогулку, потому что в маленькой прелестной церкви, наполненной воспоминаниями, была обедня. Я была счастлива быть вместе с Георгием, ведь девять месяцев мы не были с ним вместе на обедне, и мне было так приятно, что не пришлось упоминать его имени в молитве о сыновьях, которых нет рядом, потому что один из них стоял рядом со мной. Я поблагодарила Всевышнего за то, что он мне доставил такую радость».
Когда Мария Федоровна посещала родную Данию и вместе со своими родственниками приходила в Слоткиркен – дворцовую лютеранскую церковь, находившуюся у Кристиансборга, она вынуждена была оставаться позади, когда ее родные шли к алтарю, так как, приняв православие, уже не могла участвовать в церковной церемонии «вхождение в алтарь». Об этом, в частности, свидетельствует запись в ее дневнике, датированная 16 марта 1902 года: «В первую половину дня пришла ко мне Софи Бенкендорф. К часу дня мы поехали в Слоткиркен, где Папа́ и вся семья пошли к алтарю, а я и Мария сидели сзади, что было всегда трудно. Все было как всегда торжественно и прекрасно».
Все дети царской четы с ранних лет посещали церковь, хорошо знали молитвы и все церковные ритуалы. Как свидетельствовал полковник В. К. Олленгрэн,
«в Ники было что-то от ученика духовного училища: он любил зажигать и расставлять свечи перед иконами и тщательно следил за их сгоранием… Заветным его желанием было облачиться в золотой стихарик, стоять около священника посредине церкви и во время елеопомазания держать священный стаканчик. Ники недурно знал чин служб, был музыкален и умел тактично и корректно подтягивать хору. У него была музыкальная память, и в спальной очень часто мы повторяли и „Хвалите“ с басовыми раскатами, и „Аллилуйя“, и особенно – „Ангельские силы на гробе Твоем“. Если я начинал врать в своей вторе, Ники с регентской суровостью, не покидая тона, всегда сурово говорил: „Не туда едешь!“ …Он так любил изображение Божией Матери, эту нежность руки, объявшей Младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь… В Пятницу был вынос Плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники, он на весь день делался скорбным и подаатенным и все просил [мою] маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазенки его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: „Эх, не было меня тогда там, я бы показал им!“ И ночью, оставшись втроем в опочивальне, мы разрабатывали планы спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти Его и не спас».
Иностранные гости, попадавшие в Россию, отмечали, что русские церкви с их завораживающим колокольным звоном производят чарующее впечатление. Известный норвежский писатель Кнут Гамсун писал: «В Москве четыреста пятьдесят церквей и часовен, и, когда на всех колокольнях звонят колокола, кажется, будто над этим миллионным городом содрогается воздух. С Кремлевского холма открывается великолепный вид. Я и представить себе не мог, что на земле есть такой город: куда ни глянь, повсюду зеленые, красные и золотые шпили и купола. Это золото и небесная синь затмевают все, что могло нарисовать мое воображение. Мы стоим у памятника императору Александру II и, опершись о перила, смотрим окрест, нам сейчас не до разговоров, и глаза наши невольно увлажняются».