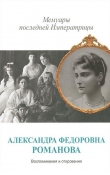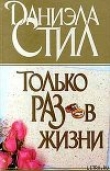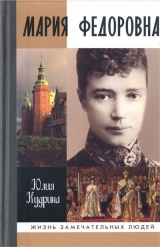
Текст книги "Мария Федоровна"
Автор книги: Юлия Кудрина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
«Ты не можешь себе представить, как твое письмо меня обрадовало, зная, как тебе трудно в это время писать, но я так много страдала и измучилась, что я чувствую, что я постарела за это короткое время по крайней мере на 10 лет. Слава Богу, что последние дни все-таки немного спокойнее стало в Петербурге и что тебе немножко легче стало на душе, мой бедный Ники. Это же ужас, через какие страдания ты прошел, в особенности не знать, на что решиться, – все это чувствовало мое сердце, и я страдала за тебя. Я понимала, что ты не можешь мне телеграфировать, но тоска для меня здесь без вестей была просто убийственной. От Извольского (посланник России в Дании. – Ю. К.),по крайней мере, я узнала все подробности обо всех этих ужасных днях; трудно поверить, что все это произошло в России! В конце концов, ты не мог поступить иначе. Бог помог тебе выйти из этого ужасного и более чем мучительного положения, и я уверена, что при твоей глубокой вере Он будет и дальше помогать тебе и поддерживать тебя в твоих благих намерениях. Он читает в сердцах и видит, с каким терпением и смирением ты несешь тяжелый крест, возложенный Им на тебя. Витте также заслуживает большого сожаления со всеми его ужасными затруднениями, в особенности потому, что он их не ожидал. Ты должен теперь выказать ему доверие и предоставить ему действовать по его программе…»
«Стыдно и больно за бедную Русь переживать на глазах всего мира подобный кризис…»
Николай II надеялся, что с назначением С. Ю. Витте на пост премьер-министра и изданием манифеста он решит задачи, направленные на успокоение и умиротворение умов. Однако ситуация в стране развивалась иначе. «В первые дни после Манифеста, – писал царь матери 27 октября, – нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла.
Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов… Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки (речь идет о еврейских погромах. – Ю. К.)были организованы полицией, как всегда – старая знакомая басня!.. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа, и когда она окружала дома, в которых заперлись революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто выходил».
Лев Толстой, выступавший в те годы с критикой многих правительственных актов, как свидетельствовал Д. П. Маковицкий (Голос минувшего. М., 1923. № 3), скажет: «Не верю, что полиция подстрекает народ на погромы. Это и о Кишиневе, и о Баку говорили… Это грубое выражение воли народа… Народ видит насилие революционной молодежи и противодействует».
«Я получаю много телеграмм отовсюду, – писал Николай II матери, – очень трогательного свойства, с благодарностью за дарование свободы, но с ясным указанием на то, что желают сохранения самодержавия. Почему они молчали раньше – добрые люди?
Всю эту неделю я прощался с министрами и предлагал новым занять их места. Об этих переменах Витте меня просил раньше, но у него не все кандидаты соглашались пойти. Вообще он не ожидал, что ему будет трудно на этом месте.
Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на скорое успокоение. Мне не нравится его манера разговаривать с разными людьми крайнего направления, причем на другой же день все беседы попадают в газеты и, конечно, навранными. Я ему говорил об этом, и, надеюсь, он перестанет…»
Императрица Александра Федоровна в одном из своих писем сестре Виктории в январе 1905 года писала:
«…Ты понимаешь, какое трудное время мы переживаем. Поистине время тяжких испытаний. Моему бедному Ники приходится нести тяжкий крест, но ему не на кого опереться, никто не может ему по-настоящему помочь. У него было столько неприятного и разочарований, и все-таки он по-прежнему полон отваги и веры в Провидение. Он так много и так упорно трудится, но ему недостает настоящих людей… Плохие всегда под рукой, остальные же, из ложной скромности, держатся в тени. Мы пытаемся найти новых людей, но это сложно. На коленях молю Господа умудрить меня, чтобы я смогла помочь супругу в его тяжком труде. Ломаю голову, как найти подходящего человека, и не могу; меня охватывает чувство отчаяния. Один слишком слаб, второй слишком либерален, третий слишком ограничен и т. д. У нас есть два очень умных человека, но оба более чем опасны и не лояльны… Реформы можно претворять очень постепенно, с величайшей осторожностью и предвидением результатов. Теперь мы галопом мчимся вперед и не можем вернуться к прежней поступи… Дела плохи, и ужасно непатриотично соваться со своими революционными идеями в то время, когда идет война».
«У меня каждую неделю раз заседает Совет министров, – сообщал Николай II матери в очередном письме. – Говорят много, но делают мало. Все боятся действовать смело, мне приходится всегда заставлять их и самого Витте быть решительнее. Никто у нас не привык брать на себя, и все ждут приказаний, которые затем не любят исполнять. Ты мне пишешь, милая Мама́, чтобы я оказывал доверие Витте. Могу тебя уверить, что с моей стороны делается все возможное, чтобы облегчить его трудное положение. И это он чувствует. Но не могу скрыть от тебя некоторого разочарования в Витте. Все думали, что он страшно энергичный и деспотичный человек и что он примется сразу за водворение порядка прежде всего.
Он сам мне говорил еще в Петергофе, что как только Манифест 17 ок[тября] будет издан, правительство не только может, но должно решительно проводить реформы и не допускать насилий и беспорядков. А вышло как будто наоборот – повсюду пошли манифестации, затем еврейские погромы и, наконец, уничтожение имений помещиков.
У хороших и честных губернаторов везде все спокойно; но многие ничего не предпринимали, а некоторые даже сами ходили впереди толпы с красными флагами. Такие, конечно, уже сменены. В Петербурге менее всего видно смелости власти, и это именно производит странное впечатление какой-то боязни и нерешительности, как будто правительство не смеет открыто сказать, что можно и чего нельзя делать. С Витте я постоянно говорю об этом, но я вижу, что он не уверен еще в себе».
2 ноября началась вторая забастовка на железных дорогах близ Петербурга, усиливались волнения среди крестьян. Ежедневно из различных губерний поступали сообщения о поджогах, насилиях, погромах и убийствах.
События в России между тем принимали очень серьезный оборот. «Крестьянские беспорядки продолжаются, в одних местах они кончаются, а в новых местностях начинаются, их трудно остановить, потому что не хватает войск или казаков, чтобы поспевать всюду», – писал царь матери. В ноябре началось восстание в Севастополе на крейсере «Очаков». «Но что хуже всего, это новый бунт в Севастополе в морских командах на берегу и некоторых частях гарнизона. До того больно и стыдно становится, что словами нельзя выразить.
Вчера, по крайней мере, ген[ерал] Меллер-Закомельский энергично покончил с мятежом; морские казармы взяты Брестским полком, и крейсер „Очаков“ сдался после стрельбы с „Ростислава“ и артиллерии на берегу, сколько убитых и раненых, я еще не знаю. Подумать страшно, что все это свои люди!»
Революционный террор усиливался. 22 ноября был убит генерал-адъютант В. В. Сахаров, посланный для подавления крестьянских беспорядков в Саратовской губернии. Убийцей была женщина, эсерка Биценко, которая, по словам Николая II, три раза выстрелила в Сахарова, сидя с другой стороны письменного стола в доме Столыпина. «Какой ужас убийство бедного толстяка Сахарова в Саратове! – отвечала Мария Федоровна. – Я долго не хотела этому поверить. Это ужасно: генерал-адъютант, посланный тобою!»
Находясь в Дании, императрица остро переживала происходящее в России. В это время у нее обострилась ее старая болезнь люмбаго. Беспокоило ее и состояние здоровья отца, которому тогда было уже почти 88 лет. Письма и телеграммы приходили из России в Данию нерегулярно. Плохо работал, а временами просто не работал телеграф.
«Я продолжаю получать массу телеграмм каждый день изнутри России, но из-за границы ничего не приходит. Сибирский телеграф не действует… Понимаю, что тебе вдали от России все кажется еще серьезнее и хуже, но не беспокойся о нас, милая Мама́.
Конечно, мне нелегко, но Господь Бог дает силы трудиться и спокойствие духа, что самое главное. Именно это спокойствие душевное, к сожалению, отсутствует у многих русских людей, поэтому угрозы и запугивание кучки анархистов так сильно действуют на них.
Без того у нас вообще мало людей с гражданским мужеством, как ты знаешь, ну а теперь его почти ни у кого не видно. Как я писал тебе последний раз, настроение совершенно переменилось. Все прежние легкомысленные либералы, всегда критиковавшие каждую меру правительства, теперь кричат, что надо действовать решительно. Когда на днях было арестовано около 250 главных руководителей Комитета рабочих и других партий, все этому обрадовались (имеется в виду, по всей видимости, арест Петроградского Совета рабочих депутатов, произведенный полицией 3(16) декабря. – Ю. К.).Затем 12 газет было запрещено, и издатели привлечены к суду за разные пакости, которые они писали, – опять все единодушно находили, что так нужно было давно поступить! Все это, конечно, дает Витте нравственную силу продолжать действовать как следует!
У меня на этой неделе идут серьезные и утомительные совещания по вопросу о выборах в Государственную] Думу. Ее будущая судьба зависит от разрешения этого важнейшего вопроса».
Наступило 2 декабря – день именин Николая II, и Мария Федоровна, которая всегда в этот день поздравляла сына лично, впервые была далеко от него.
«От души поздравляю тебя и шлю самые горячие благопожелания, – писала она сыну в поздравительном письме. – Дай Бог тебе всего хорошего и помощи в эту страшно трудную минуту! Ты понимаешь, как мне грустно и тяжело не быть с тобою именно в этот день и вообще в это время, т[ак] к[ак] издали все еще мучительнее, просто выразить невозможно, ни одной минуты сердце не может быть спокойно, так страдаю за тебя и с тобою за Россию и за всех, что даже писать трудно… Вот безобразие эти забастовки, полное разорение для страны и для всех! Не чувствуется ни патриотизма, ни власти, это просто ужас. Только Бог один может из этого хаоса вывести и спасти! Может быть, с Гос[ударственной] Думы начнется лучшее время, все надеются на нее, дай Бог!»
Императрица-мать рвалась в Россию, она чувствовала необходимость своего присутствия и хотела приехать к Рождеству, однако это оказалось невозможным. «Милая Мама́, все мы – Аликс, Миша, Ольга, Петр и я, – писал Николай II матери, – очень просим тебя пока отменить твой приезд. Варшавская железная дорога не безопасна. На днях два эскадрона твоих кирасир отправлялись в Лифляндскую губернию; через несколько минут после ухода поезд их остановился в поле – оказалось, что локомотив тащил на себе веревку, на конце которой был привязан динамитный патрон, как раз под серединой поезда. Если бы машинист не заметил этого, случилось бы огромное несчастье!..
Грустно нам невыразимо без тебя, дорогая Мама́, и за тебя, но мы тебя умоляем со всеми преданными друзьями не приезжать сейчас! Риск слишком велик!»
Через несколько дней в Москве началось вооруженное восстание. Оно стало самым драматическим эпизодом, потрясшим страну. Современники и историки по-разному оценивали эти события: одни считали его преступным, антиправительственным мятежом, другие – героическим подвигом московских рабочих.
За несколько дней до его начала Николай II принял представителей монархических организаций, которые требовали от царя отменить Манифест и подтвердить незыблемость царской власти.
«Манифест, данный Мною 17 октября, есть полное и убежденное выражение Моей непреклонной и непреложной воли и акт, не подлежащий изменению», – ответил Николай II. Вскоре Москва была парализована, и царь в очередном письме матери в Данию передавал свои чувства и настроения, «изливал душу» по поводу происходящих событий: «Как ни тяжело и больно то, что происходит в Москве, но мне кажется, что это к лучшему. Нарыв долго увеличивался, причинял большие страдания и вот, наконец, лопнул. В первую ночь восстания из Москвы сообщили, что число убитых и раненых доходит до 10 000 чел.; теперь, после шести дней, оказывается, что потери не превышают 3 тыс. В войсках, слава Богу, немного убитых и раненых. Гренадеры ведут себя молодцами после глупейшего бунта в Ростовском полку, но начальство очень вяло, а главное, Малахов очень стар. Дубасов надеется, что с прибытием двух свежих полков быстро раздавит революцию. Дай Бог!
…Жаль, что это не было сделано раньше, теперь масса имений разорено, некоторые помещики взяты с семействами в плен, а все, кто могли, бежали сюда или в Германию!
…Латыши совершенно с ума сошли. Они прогнали все власти, выбрали себе каких-то уполномоченных и вообще хозяйничают свободно не только в уездах, но и в небольших городах… Вооружение у этих подлецов отличное – английское и швейцарское. Морская граница наша длинная, и охранять ее от ввоза оружия крайне трудно, хотя сведения о том, что это готовилось, были еще летом, и Трепов, я помню, доносил о них.
Стыдно и больно за бедную Русь переживать на глазах всего мира подобный кризис, но на то, видимо, воля Божья, и надо перетерпеть все бедствия до конца».
Размах выступлений ширился, и чтобы вывести страну из хаоса, восстановить стабильность и порядок, царь вынужден был пойти на крайние меры.«…Энергичный образ действий Дубасова и войск в Москве произвел в России самое ободряющее впечатление, – писал он матери. – Конечно, все скверные элементы пали духом и на Северном Кавказе, и на юге России, также и в сибирских городах…
В Прибалтийских губерниях восстание все продолжается. Орлов и Рихтер и другие действуют отлично. Много банд уничтожено, дома их и имущество сжигаются, на террор нужно отвечать террором, теперь сам Витте это понял».
Разочарование в Витте как в политике, так и в человеке нарастало. Это видно из писем Николая II матери от 15 декабря 1905 года и 12 января 1906 года: «Витте после московских событий резко изменился: теперь он хочет всех вешать и расстреливать». И далее: «Я никогда не видал такого хамелеона или человека, меняющего свои убеждения, как он. Благодаря этому свойству характера, почти никто больше ему не верит, он окончательно потопил самого себя в глазах всех…»
За шесть месяцев нахождения у власти Витте не только не удалось навести в стране порядок, но и подготовить к открытию будущей Думы хотя бы один законопроект. По его мнению, Дума сама должна была заняться законотворчеством.
Мария Федоровна позитивно оценивала идею созыва Думы, так как интуитивно понимала, что именно в этом может заключаться выход из политического кризиса. 16 января 1906 года она писала сыну: «Дай Бог, чтобы это затишье продолжалось по крайней мере до окончания выборов и до начала Думы… Если бы раньше были энергичнее и показали бы больше твердости и власти, многого удалось бы избежать». И прибавляла: «Я не понимаю Витте, почему он потерял так много времени».
Марию Федоровну очень волновало, как будет разрешен вопрос о кабинетных и удельных землях, который будировался рядом политических партий. «Нужно, чтобы все знали, – замечала она, – уже теперь, что до этого никто не смеет даже думать коснуться, так как это личные и частные права Императора и его семьи. Было бы величайшей и непоправимой исторической ошибкой уступить здесь хоть одну копейку, это вопрос принципа, все будущее от этого зависит. Невежество публики в этом вопросе так велико, что никто не знает начала и происхождения этих земель и капиталов, которые составляют частное достояние императора и не могут быть тронуты, ни даже стать предметом обсуждения: это никого не касается, но нужно, чтобы все были в этом убеждены… На всякий случай, – добавляла она, – посылаю тебе книжки, где все это написано; вероятно, ты уже все это знаешь, но это такой важный вопрос, что об этом не могу молчать».
Террор революционеров продолжался. В январе 1906 года ими было совершено 80 убийств, в феврале – 64, в марте – 50, в апреле – 56, в мае – 122, в июне – 126. Выборы в Думу проходили в трудной обстановке. Хотя наметились признаки некоторого успокоения, все-таки продолжались активные выступления сторонников и противников самодержавия, консервативных и либеральных трибунов. Большевики накануне выборов призывали к бойкоту Думы, надеясь, что удастся организовать народное восстание для свержения царя. Съезд конституционно-демократической партии во главе с ее лидером П. Милюковым выступил с резолюцией: «Накануне открытия Первой Государственной Думы правительство решило бросить русскому народу новый вызов. Государственную Думу, средоточие надежд исстрадавшейся страны, пытаются низвести на роль прислужницы бюрократического правительства; никакие преграды, создаваемые правительством, не удержат народных избранников от исполнения задач, которые возложил на них народ».
Позже, уже в эмиграции, П. Струве, видный общественный деятель, редактор журнала «Освобождение» – главного рупора либеральных сил, признавая и свои ошибки, и ошибки либеральной оппозиции того периода, писал: «Начиная с декабря 1905 года, с момента московского вооруженного восстания, как бы ни оценивать политику правительства 1905–1914 годов, – реальная опасность свободе и правовому порядку грозила в России уже не справа, а слева. К сожалению, вся русская оппозиция, с конституционно-демократической партией во главе, не понимала этого простого и ясного соотношения. Этим определялась не только ошибочная политика, которую вели, но и неправильный духовный и душевный тон, который после 17 октября 1905 года брали силы русской либеральной демократии в отношении царского правительства вообще и П. А. Столыпина в частности».
Открытие Государственной думы
Торжественное открытие Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в Тронном зале Зимнего дворца.
Все члены царской семьи прибыли в праздничной одежде. Царицы – в белых русских сарафанах и жемчужных кокошниках, царь в мундире Преображенского полка.
Тогдашний министр финансов В. Н. Коковцов, присутствовавший на церемонии, вспоминал: «С правой стороны зала расположились военные в мундирах, члены Государственного Совета и Царская свита, с левой стороны – члены Думы, многие из которых были в праздничном платье. Остальные, что стояли ближе к тронному месту, были, словно нарочно, одеты в рабочие блузы и ситцевые косоворотки, а за ними – стояла толпа крестьян… некоторые в национальной одежде, и множество священников в рясах».
Император Николай II подошел к трону и сел. Ему подали текст тронной речи, которую он стоя громко зачитал, четко выговаривая все слова:
«С пламенной верой в светлое будущее России, я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные работы предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас». Далее Государь выразил надежду, что депутаты отдадут «все свои силы на самоотверженное служение Отечеству, для выяснения нужд столь близкого моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права».
На лицах депутатов была написана враждебность.«…Церемония в Тронном зале с сановниками в расшитых золотом мундирах и при орденах наполнила сердца депутатов завистью и ненавистью, – вспоминал начальник канцелярии Министерства императорского двора генерал-лейтенант А. А. Мосолов. – У меня сложилось впечатление, что депутаты не способны сотрудничать с правительством, они производили впечатление людей, ведущих междоусобную борьбу за власть.
Что касается Царя, то ему не приходило в голову, что этих несколько сотен человек надо принимать как законных представителей народа, который до сих пор встречал его так восторженно. Мы сразу же почувствовали, что Его Величество не допускает и мысли, что эта Дума, эти депутаты смогут помочь ему в выполнении обязанностей Государя».
Всеми членами царствующего дома, включая и Марию Федоровну, открытие Государственной думы было воспринято «как похороны самодержавия». По свидетельству В. Н. Коковцова, императрица-мать долго не могла успокоиться от того впечатления, которое произвела на нее толпа новых людей, впервые заполнившая дворцовые залы.«…Они смотрели на нас, – говорила она, – как на своих врагов, и я не могла отвести глаз от некоторых типов – настолько их лица дышали какой-то ненавистью против нас всех».
Выслушав Коковцова о перспективах работы правительства с таким составом Думы, Мария Федоровна заявила: «…Все это меня страшно пугает, и я спрашиваю себя, удастся ли нам избегнуть новых революционных вспышек, есть ли у нас достаточно сил, чтобы справиться с ними, как справились с московским восстанием, и для этого – тот ли человек Горемыкин, который может понадобиться в такую минуту…»
8 июня 1906 года в Думе выступил новый министр внутренних дел П. А. Столыпин, в прошлом саратовский губернатор. Он сказал: «Власть не может считаться целью. Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно произвол и самовластье, нельзя не считать опасным безволие правительства. Не нужно забывать, что бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. Правительство – аппарат власти, опирающейся на законы, отсюда ясно, что министр должен и будет требовать от чинов министерства осмотрительности, осторожности и справедливости, но и твердого исполнения своего долга и закона».
20 июня после опубликования заявления правительства о неприкосновенности частной собственности на землю, после того, как стало известно о желании думского большинства принять законопроект о насильственном перераспределении земли, ситуация накалилась, и 9 июля царь распустил Думу. Летом 1906 года Столыпин занял пост премьера.
«Я очень устал головою, хотя телом здоров, – писал Николай II матери 21 июля. – Приходится видеть много народу; между прочим, вчера я принимал Львова (Саратовской губ.) и Гучкова. Столыпин им предлагал места министерские, но оба отказались. Также и Самарин, которого я видел два раза, – он тоже не желает принять место обер-прокурора! У них собственное мнение выше патриотизма вместе с ненужной скромностью и боязнью скомпрометироваться. Придется и без них обойтись…»
В августе 1906 года было предпринято первое покушение на П. А. Столыпина, осуществленное эсеркой З. В. Коноплянниковой, – взрыв его дачи на Аптекарском острове в Петербурге: 36 человек убиты, многие ранены, в том числе дети Столыпина. Среди убитых был генерал-майор Г. А. Мин, командир лейб-гвардии Семеновского полка, стоявший во главе сил, подавивших восстание в Москве. Мария Федоровна, приехавшая с его похорон, писала сыну 16 августа: «Не могу тебе передать, какую скорбь я испытала, узнав о смерти нашего храброго и чудного Мина! Я так надеялась, что Бог не позволит тронуть этого человека, обладавшего такой трогательной и глубокой верой. Я ездила вчера в Петербург, чтобы встретить его на вокзале, где я смогла присутствовать на литии. Было невыносимо тяжело смотреть на его бедную старую мать, жену и дочь в их ужасном горе. Когда же окончатся все эти ужасы преступлений и возмутительных убийств! Мы никогда не будем иметь отдыха и покоя в России, пока не будут истреблены все эти чудовища. Благодаренье Богу, что бедным маленьким Столыпиным стало лучше, и какое чудо, что Столыпин уцелел! Но какое страдание для несчастных родителей видеть подобные мучения своих собственных детей, – и есть множество других невинных жертв. Это до такой степени чудовищно и возмутительно, что у меня нет слов выразить все, что я чувствую». После взрыва царь предложил Столыпину апартаменты в охраняемом Зимнем дворце.
Террористические акты и убийства генералов, губернаторов, градоначальников, судейских чиновников, прокуроров, жандармов, городовых и даже кучеров следовали теперь одно за другим. За один 1906 год были убиты 768 и ранены 820 представителей власти.
19 августа, опираясь на статью 87, правительство внесло подготовленный еще Витте закон о военно-полевых судах. Это касалось губерний, объявленных на военном положении или находившихся в положении чрезвычайной охраны (их было 82).
Грань между политическими и уголовными убийствами почти полностью стиралась. Шайки грабителей похищали крупные суммы денег в банках, заявляя, что это для «нужд революции».
Политический террор в России между тем набирал силу, несмотря на попытки царя и правительства покончить с ним.
«С тех пор, что ты уехала, – писал Николай II матери 30 августа, – мы сидели здесь, почти запертые в Александрии, такой стыд и позор говорить об этом!
После убийства бедного Мина, ободренные этим успехом для них, мерзавцы анархисты приехали в Петергоф, чтобы охотиться на меня, Николашу, Трепова и толстого кн. Орлова. Вчера, к счастью, самых главных арестовали, что нужно было сделать ввиду парада сегодня утром.
Но ты понимаешь мои чувства, милая Мама́, не имеешь возможности ни ездить верхом, ни выезжать за ворота куда бы то ни было. И это у себя дома, в спокойном всегда Петергофе!! Я краснею писать тебе об этом и от стыда за нашу родину, и от негодования, что такая вещь могла случиться у самого Петербурга!»
Царь с семьей уезжает вскоре в Финляндию, а по возвращении, 27 сентября, сообщает Марии Федоровне:
«К счастью, атмосфера совсем не та, какая она была месяц тому назад… Со времени нашего приезда я уже видел Столыпина, который раз приезжал в Бьерке. Слава Богу, его впечатления вообще хорошие; мои тоже. Замечается отрезвление, реакция в сторону порядка и порицание всем желающим смуты. Конечно, будут повторяться отдельные случаи нападений анархистов, но это было и раньше, да оно и ничего не достигает.
Полевые суды и строгие наказания за грабежи, разбои и убийства, конечно, принесут свою пользу. Это тяжело, но необходимо и уже производит нужный эффект. Лишь бы все власти исполняли свой долг честно и не страшась ничего. В этом условии залог успеха.
Какой срам производят в Гельсингфорсе все наши Долгорукие, Шаховские и компания. Все над ними смеются в России!
И из Англии лезет какая-то шутовская депутация с адресом Муромцеву и им всем. Дядя Bertie (английский король Эдуард VII. – Ю. К.)и английское правительство дали нам знать, что они очень сожалеют, что ничего не могут сделать, чтобы помешать им приехать. Знаменитая свобода! Как они были бы недовольны, если бы от нас поехала депутация к ирландцам и пожелала там успехов в борьбе против правительства».
Речь в Думе нового премьер-министра П. А. Столыпина, сторонника самодержавного строя, с подробным изложением программы государственной деятельности произвела большое впечатление в России. «Когда в нескольких верстах от столицы и царской резиденции, – говорил он, – волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше, когда начал царить ужас и террор – тогда правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыв, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, – или действовать и отстоять то, что ей было вверено».
Нападки оппозиции, рассчитанные на то, чтобы вызвать у правительства «паралич воли и мысли», по его мнению, сводятся к двум словам: «руки вверх». На эти два слова правительство «с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить двумя словами: не запугаете».
«Мы хотим верить Господу, что вы прекратите кровавое безумство, что вы скажете то слово, которое заставит всех нас встать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение.
Покуда это слово не будет сказано, покуда государство будет находиться в опасности, оно обязано будет принимать самые строгие, самые исключительные законы для того, чтобы оградить себя от распада».
Восемь месяцев, полученные П. А. Столыпиным в результате роспуска Думы, были использованы им для исполнения, по словам В. А. Маклакова, «главной задачи – подготовки тех законопроектов, которые должны были обновить русскую жизнь, превратить Россию в правовое государство и тем самым подрезать революции корни».
11 октября 1906 года царь, сообщая матери о происходящих в России событиях, дает высокую оценку действиям Столыпина:
«Но вообще, слава Богу, все идет к лучшему и к успокоению. Это всем ясно, и все это чувствуют! Только это и слышишь от приезжих из деревни. Как давно мы этого не слыхали. Как приятно знать, что на местах люди ожили, потому что почувствовали честную и крепкую власть, которая старается оградить их от мерзавцев и анархистов! Ты, наверное, читаешь в газетах многочисленные телеграммы Столыпину со всех сторон России. Они все дышат доверием к нему и крепкою верою в светлое будущее! А в этой уверенности, с помощью Божией, залог приближающегося успокоения России и начало правильного улучшения жизни внутри государства.
Но при всем том необходимо быть готовым ко всяким случайностям и неприятностям, сразу после бури большое море не может успокоиться. Вполне возможны еще пакостные покушения на разных лиц. Я все еще боюсь за доброго Столыпина. Вследствие этого он живет с семейством в Зимнем и приходит с докладами в Петергоф на пароходе.
Я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю. Старик Горемыкин дал мне добрый совет, указавши только на него! И за это спасибо ему…»
Мать отвечает сыну 14 октября:
«Слава Богу, что вы все здоровы и что ты опять можешь верхом ездить свободно и охотиться. Это все-таки показывает, что обстоятельства немного лучше стали. Ах, когда же, наконец, у нас все это пройдет и мы опять могли бы жить спокойно, как все приличные люди! Почти обидно видеть, как здесь хорошо и смирно живут, каждый знает, что ему делать, исполняет свой долг добросовестно и не делает пакости другим».
26 октября: «Дай Бог, чтобы у нас это спокойствие продолжалось бы, лишь бы все власти исполняли свой долг честно и хорошо и не страшась ничего. С тех пор, как начали проявлять твердость, дело уже обстоит лучше и можно пожалеть, что было упущено так много времени. Скольких несчастий можно было бы избегнуть!»