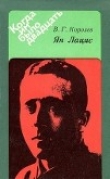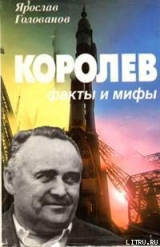
Текст книги "Королев: факты и мифы"
Автор книги: Ярослав Голованов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 89 страниц)
Королёв: факты и мифы
Наш главный девиз – беречь людей. Дай-то нам Бог сил и умения достигать этого всегда, что, впрочем, противно закону познания жизни. И все же я верю в лучшее, хотя все мои усилия, мой разум и опыт направлены на то, чтобы предупредить, предугадать как раз худшее, что подстерегает нас на каждом шагу в неизведанное.
Сергей Королев

КРЫЛЬЯ
Тем сотням и тысячам, которых в сообщениях ТАСС называли просто «учеными, инженерами, техниками и рабочими»;
тем, которые отправляли «Луны» к Луне, «Венеры» к Венере и задраивали люки за безвестными летчиками, чьи имена через несколько минут повторял весь мир;
тем, которые жили среди нас, но которых мы не знали, потому что они не рассказывали о своей работе и не носили свои ордена;
тем, которые, штурмуя космос, оставались на Земле
1
Вот почему архивы роя,
Я разобрал в досужий час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ.
Александр Пушкин
«Однако ж мне положительно не везет... С Екатеринославом получилось некрасиво, но я желал только справедливости... И Мария Николаевна ведет себя престранно. Право, не знаю, у кого достанет терпения испытать ее равнодушие. Я не мальчик, наконец. И намерения мои ей отлично известны. Надобно решительно объясниться, и немедля. Нынче уже май, а в августе – прощай! Да, решено. Буду сегодня же говорить с ней...» – так бодрил себя Павел Яковлевич Королев, быстро шагая по Гоголевской, главной улице Нежина.
Гоголевскую тут по привычке называли Мостовой, потому что, прежде чем заложили ее булыжником, была она вся покрыта деревянными шпалами, о которых поминал в «Мертвых душах» Николай Васильевич Гоголь, описывая мостовую плюшкинского села. Шла эта улица через весь город, мимо женской гимназии Кушакевича, мимо сквера с памятником, к собору, к рыночной площади. Тут, на углу Мостовой и Стефано-Яворской, как раз и помещалась бакалейная лавка Москаленко. Николай Яковлевич, хозяин, был человек степенный, молчаливый, на иных лавочников – шустрых, суетливых – вовсе не похожий. По паспорту значился он «козаком Нежинского полка» и вид имел доподлинно казачий: широк и в плечах, и в талии, а вислым, тронутым серебром усам его могли позавидовать исконные запорожцы. В большом доме греческой постройки, крышу которого из лавки нельзя было разглядеть за могучими кронами гоголевского сквера, но расположенном совсем рядом, помещалось многочисленное семейство Москаленко: Мария Матвеевна – жена, Юрий и Василий – сыновья, Маруся и Анна – дочки. Это еще не считая прислуги. Самого хозяина застать дома было трудно, дни его протекали в лавке, среди сахарных голов, кулей с мукой, пакетов с чаем, крупами и конфетами. Близость храма не позволяла Николаю Яковлевичу торговать вином, и, если случалось покупателю спросить бутылку хересу или мадеры, он гонял хлопчика-услужающего в домашний погреб.
Дом держался на жене. Мария Матвеевна была тоже запорожских казачих кровей, из рода Фурса, женщина добрая, ласковая, но при этом энергичная и волевая. Ее на все хватало: и детей наставить, и хозяйством управлять, и соления готовить, да такие, что известны были и шли нарасхват не только в соседних уездах, но и в далеких губерниях, в Либаве, Вильне, Риге и даже в самом Санкт-Петербурге! Однажды, воротясь из столицы, Мария Матвеевна в большой радости сообщила, что некая влиятельная особа – едва ли не князь – приняла от нее бочонок отборных огурчиков, за что непременно обещано было выхлопотать Москаленкам звание «поставщиков двора Его Императорского Величества». Короче, в славе отменных нежинских огурчиков ее трудов немало. И если уж говорить по правде, главные-то доходы давали именно соления эти, бочки, что уставились по всеми двору, а не лавка Николая Яковлевича. Одно только название – лавка. Вот у Дьяченко это лавка! Первейший на весь Нежин магазин. Однако Москаленко не завидовали соседу. И дом их, пусть скромен, без затей новомодных, без праздных пиров, но чист, опрятен, а случись гости – всегда найдется, чем попотчевать.
В последнее время гости бывали каждое воскресенье. Музыка, танцы, игры, одно слово – молодежь. Старшенький, Юрий, уже студент Историко-филологического института, бывшего лицея графа Безбородко, и Маруся уже совсем невеста, от женихов отбоя нет. Вот ведь и сегодня Королев придет непременно...
Да, Королев решил прийти сегодня обязательно, хотя к веселью был не расположен.
Дурное настроение Павла Яковлевича вызвано было несколькими причинами. Одна из них – назначение. Нынче летом институт графа Безбородко оканчивали 13 студентов. Тринадцать мест было и в списке, присланном из Петербурга, из Министерства народного просвещения. Каждый волен выбирать. Данилов выбрал Екатеринослав11
Екатеринослав – ныне Днепропетровск.
[Закрыть]. А может быть, Королев тоже желает Екатеринослав?! Отчего Данилову протекция? Разве он в первых учениках? Королев отправился к директору оспаривать место. За Данилова вступился Сперантский, профессор русской литературы. Да и как ему не вступиться, коли Данилов у него в фаворе: сборник издал – «Песни села Андреевки Нежинского уезда». Эка невидаль, – триста крестьянских песен! Королев прямо сказал тогда Данилову:
– Надобно стремиться создать что-нибудь серьезное, солидное...
Уязвил.
Впрочем, не так уж и хотелось Павлу Яковлевичу в Екатеринослав. Да и велика ли разница: Екатеринослав или Екатеринодар22
Екатеринодар – ныне Краснодар.
[Закрыть], который он выбрал в конце концов? Переживания его шли вовсе не от выбора этого, а от болезненно обостренного самолюбия. Всякий раз, когда случалась какая-нибудь, пусть даже вовсе пустячная, не чета назначению, история, где можно было усмотреть, а чаще даже не усмотреть, а домыслить умаление чести, злые желваки начинали ходить под смуглой кожей его лица. Все мерещилось ему попреком низкому его происхождению.
Павел Королев, сын отставного писаря, бессрочно отпускного унтер-офицера из Могилева, ставшего банковским служащим, многолюдный дом родительский покинул после завершения своего образования в Могилевской духовной семинарии, в которой состоял также и надзирателем. Служба по духовному ведомству не обещала ему ничего интересного, ограничивая пищу для его ума, острого и критичного. Он решил поступить в нежинский Историко-филологический институт и зачислен был в августе 1901 года казеннокоштным студентом. Казеннокоштные с давних, еще догоголевских, времен содержались на полном пансионе и, кроме мыла, ни на какие нужды денег могли не тратить. Своекоштные, вольноприходящие, естественно, были побогаче. Кстати, уже тут чувствовал Павел Яковлевич первую между ними грань, И хотя ни разу не ходил Королев к папироснику Борцу, ссужавшему студентам деньги под большие проценты, все-таки даже среди казеннокоштных был он небогат и страдал от этого.
Зато в науках никому не уступал. Все годы ходил в лучших учениках и курс по словесному отделению окончил лишь с единственной тройкой по истории римской литературы. 18 июля 1905 года ему был вручен аттестат с долгожданной строчкой:
«Получает звание учителя гимназии».
Павлу Яковлевичу шел двадцать девятый год, возраст степенный, – он давно уже помышлял об устройстве будущей своей жизни и в последнее время в размышлениях своих неизменно возвращался к черноглазой Марусе, сестре Юрия Москаленко, нынче поступившего на первый курс, барышне редкой красоты. Уже два года бывал он в ее доме и не раз имел случай выказать ей свое внимание. Но она словно и не замечала его. Иногда взглянет так дерзко, смерит его с головы до пят и засмеется. Однажды зимой на катке Павел Яковлевич даже пробовал объясниться, но Маруся убежала. И хотя родители ее относились к Павлу Яковлевичу в высшей степени благосклонно, все равно в ее присутствии чувствовал себя подчас как-то напряженно, часто оборачивался вдруг: ему казалось, кто-то тайно смеется над ним за его спиной...
Сегодня тут все было, как обычно: стихи, песни, и вот уже захрипел вальс в широкой граммофонной трубе. Музыка нынче мешала ему. Да и все это веселье тоже.
Сегодня острее, чем обычно, почувствовал он, что перерос эту компанию, что ему скучно средь вечно веселящихся барышень и их улыбчивых кавалеров. Вот Доль, студент, тоже словесник, уже взял виолончель, а Мария Матвеевна достала свою скрипку. «Странно, – подумал Павел Яковлевич, – где же это она научилась играть на скрипке?» Василий, младший брат Маруси, аккомпанировал им на пианино. В столовой слышался красивый баритон Юрия:
Пробежав по струнам,
Золотым певунам,
Не жалею ни груди, ни глотки:
И сияй, и светлей,
Наш родимый лицей,
Знаменитый лицей Безбордки!
«По первому году все влюблены в институт. Погоди, через год-два уж не запоешь о „любимом лицее“. – Юное молодечество и неиссякаемая энергия Юрия раздражали Павла Яковлевича. – С ним опять этот Алеша, офицерик, кажется, неравнодушен к Марусе», – подумал Павел Яковлевич.
Завидев Королева, Юрий закричал:
– Вот кто нас рассудит! Считаете ли вы, Павел Яковлевич, что Цусимское сражение есть не только военное, как думает наш поручик, но и политическое поражение? Я убежден, что волнения в столицах тому подтверждение...
Королеву было, право, не до Цусимы.
– Увольте, господа, – он поднял вверх руки.
– Павел Яковлевич не имеет охоты прослыть неблагонадежным, – вскользь бросил поручик, улыбнувшись одними губами.
Королев быстро обернулся. Опять заходили на лице его желваки.
– После этаких баталий, как Цусимское сражение, милостивый государь, я сам готов раздавать прокламации! – с расстановкой, глядя прямо в глаза поручику, твердо сказал Королев и, круто повернувшись, быстро прошел в гостиную.
Не остыв еще от вспышки, направился к Марии Николаевне. Она сразу заметила какую-то упрямую решимость в его быстрой фигуре, в том, как неловко обошел он танцующую сестренку Нюшу, и, глядя в его серые, широко расставленные глаза, смотревшие на нее в упор, поняла, что разговора, которого она давно избегала, нынче уж не избежать.
– Мне надобно говорить с вами, Мария Николаевна, – сказал он глухо, но твердо.
На предложение Павла Яковлевича Королева стать его женой Мария Николаевна ответила решительным отказом. Право же, у нее и в мыслях не было выходить замуж! Едва две недели минуло, как окончила она гимназию и решила к осени отправиться в Петербург, на Высшие женские курсы, изучать французский язык.
Однако все обернулось иначе.
После объяснения с Марией Николаевной Королев отправился к ее родителям. Николай Яковлевич выслушал его внимательно, Мария Матвеевна всплакнула чуток для порядка. Перекрестила. Поцеловала в лоб. Предложение было принято. Собрался семейный совет, целая гостиная набилась, все дядьки и тетки Москаленки, Лазаренки, Фурса – вся родня. Решение вышло единодушное: ни в какой Петербург Марусю не пускать. Подумать только, Петербург! В этакую даль отпускать одну! Да и где она жить там станет? А столоваться? Знакомых, родни нет никого. Стало быть, пансион искать? Не ровен час какой-нибудь шалопай голову скрутит. Да и что за нужда в этих курсах? Вон докторша окончила курсы. И что? Каждый день голых мужиков в больнице смотрит. Нет, курсы – это пустое, не пускать ни в коем случае! Замуж пора. Вот женихов полон дом... Опять заговорили о Королеве. Мария Николаевна убежала в слезах.
С уговорами не спешили, но настроены мать и тетки были решительно. Марии Матвеевне сыграть свадьбу хотелось куда больше, чем дочери. Давно уже мечтала она об этом, не раз чудилось ей желтое трепетание свечей, дрожащие в поднятых руках венцы, белый дым фаты, благолепие ровных голосов хора – все представляла она до мелочей, внутренне готовилась к этому торжеству и теперь не могла сдержать своего нетерпения.
– Ну и что некрасив? – успокаивала она дочь. – Вон поручик красив, а что толку? Один вист на уме. Перекати-поле. Нынче бригада здесь, а завтра неизвестно где. Павел Яковлевич человек солидный, образованный. И любит тебя...
И тетки точили изо дня в день. Мария Николаевна держалась два месяца. Однажды вечером отец вошел к ней, погладил по голове:
– Ну что ж, Маруся, может, мама права... Выходи за Павла Яковлевича. Слюбитесь. Будет муж, будет семья, пойдет жизнь...
– Ну, если и ты, папа... – она ткнулась лицом в его плечо.
Как бывший казеннокоштный студент, которому по окончании института надлежало в течение трех лет выплачивать за пансион деньги, Павел Яковлевич Королев обязан был подавать прошение с просьбой разрешить ему вступить в брак. Просьба сия была удовлетворена 3 дня августа 1905 года.
В книге бракосочетавшихся в Соборно-Николаевской церкви города Нежина отмечено вступление в брак преподавателя Екатеринодарской гимназии Павла Яковлевича Королева, 28 лет, и дочери купца Марии Николаевны Москаленко, 17 лет. Венчаны в Николаевском соборе священником Георгием Спасским. Поручители по жениху: брат Иван Яковлевич Королев и чиновник Могилевского губернского присутствия Иван Адамович Волосиков – муж сестры Павла Яковлевича Марии. Поручители по невесте: казак Михаиле Матвеевич Фурса и учитель Василий Матвеевич Фурса – родные дядьки невесты. 15 дня августа 1905 года.
Через день после венчания молодой супруг отбыл вместе с женой в город Екатеринодар согласно назначению преподавателем русского языка в мужскую гимназию.
Николай Яковлевич Москаленко – дед С. П. Королева со стороны матери

Мария Матвеевна Москаленко (урожденная Фурса) – бабушка С. П. Королева со стороны матери

В доме Москаленко. Нежин, приблизительно 1909-1911 гг.
Co скрипкой – Мария Матвеевна, бабушка Сережи Королева.
У стены – его дядя Юрий Николаевич

Павел Яковлевич Королев

Мария Николаевна Королева

2
Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.
Иван Тургенев
В Екатеринодаре Королевы пробыли одну зиму. Надуманное нежелание ехать в этот город переросло у Павла Яковлевича в неприязнь, он упорно стремился отсюда и к лету добился перевода в Житомир, преподавателем русского языка и словесности в первую мужскую гимназию. Житомир вряд ли был лучше Екатеринодара, но Королев несколько успокоился оттого, что настойчивость его возымела результат.
Неподалеку от гимназии, на Дмитриевской улице, сняли квартиру. Осенью, когда начались занятия, Павел Яковлевич пропадал в гимназии. Появились новые знакомства, и многие вечера проводил он за разговорами о японской войне, Толстом, спиритизме, эмансипации, – разговорами подчас горячими, весьма либерального толка, ах, сколько таких, замечательных, благородных, яростно пустопорожних обожаемых русской провинцией разговоров велось тогда повсюду! Там курили, ей это было вредно: беременна. Тянулись длинные вечера унылой мокрой осени. Ставни в доме закрывали рано. Мария Николаевна оставляла свет только в гостиной. Сидела одна, читала или думала о своей жизни...
Не ладилось у них в семье. Тут, уже в Житомире, поняла она окончательно, что не любит и никогда не полюбит своего мужа. Да, он умный, образованный, хороший человек, да, он внимателен к ней, хотя и ревнив безмерно. Но что из того, если все в нем не нравилось ей: и походка, и глаза, и манера забрасывать со лба волосы, и жесткие прямые усы. Немил он ей был. Ни понять, ни объяснить нельзя это: немил. Все, все хорошо, только нет любви, а значит, все, все плохо. «На чем же держится моя семья?» – спрашивала она себя и не находила ответа. Все надежды связывала она теперь с рождением ребенка, ждала его с нетерпением и страхом.
Перед самым новым 1907 годом, в ночь на 31 декабря33
Здесь и далее все даты по летосчислению того времени.
[Закрыть] родился мальчик. Крестили в Софийской церкви. Павел Яковлевич сам пригласил крестных: учителя Базилевича и соседку – жену другого преподавателя Титову. В метрическую книгу Волынской духовной консистории записали: Сергей. Так появился на белом свете Сережа Королев, толстенький, вихрастый крикун. Бабушка Мария Матвеевна смеялась:
– Шаляпин родился!
Скоро, вдоволь насмотревшись на внука, счастливая бабушка уехала в Нежин. Мария Николаевна осталась опять одна.
Ее надежды не оправдались: ничего не изменилось в их семье после рождения Сережи, разве что Павел Яковлевич стал еще более подозрителен и ревнив. Она обрадовалась, когда он сообщил о своем намерении переехать в Киев. Как ни пугало ее переселение с грудным младенцем, но Киев все-таки ближе к своим...
В Киеве ждала их печальная весть: в Могилеве умер Яков Петрович, отец Павла Яковлевича. Семья Королевых была очень большая: 12 душ детей. К этому времени, однако, в живых осталось лишь шестеро: Александр, Павел, Мария, Иван, Надежда и Вера. И хотя старшим был Александр, после смерти Якова Петровича все сразу оглянулись на Павла, молча избрали его главою семейства, ждали его участливости. Александр и Иван, – оба тоже учителя, люди, как говорится, при деле, от забот этих сразу постарались отодвинуться. Что же делать? Нелегко прокормить на жалованье учителя словесности гимназии мадам Бейтель жену, сына, мать и двух сестренок. Он знал, что такое бедность. Только-только, казалось, начал выбиваться в люди, и вот... Снова, снова вяжут его по рукам и по ногам, снова вбивают в нищету...
После переезда могилевцев в Киев Павел Яковлевич снял две квартиры во флигелях на Тургеневской улице, принадлежащих Ольге Терентьевне Петрухиной. Домна Николаевна и близняшки – Надя и Вера – жили в трех комнатах на втором этаже одного флигеля. Семья Павла Яковлевича – в соседнем, на первом этаже.
Мать мужа, Домна Николаевна, любила невестку, много помогала ей, не отходила от маленького внука. Золовки-двойняшки, напротив, невзлюбили ее сразу, язвили, дразнили, ябедничали по любому поводу. Им было по 12 лет, – в эти годы девчонки превращаются иногда в маленьких злых ведьм.
Стоило Марии Матвеевне заехать из Нежина в гости к дочери, как они учиняли обыск в квартире: не оставила ли она где-нибудь золотой червонец. Бесконечный унизительный контроль над каждой статьей семейного бюджета, над любым визитом, разговором, любым шагом вне дома, все эти колкие мелочи, каждая – пустяк, а все вместе – это очень тяжко, делали жизнь Марии Николаевны невыносимой. В ней все более и более укреплялось желание оставить семью мужа, разом покончить со своею несвободою, начать новую, самостоятельную жизнь, пусть даже более трудную, но имеющую какой-то смысл для нее, какую-то перспективу, будущее светлое продолжение.
Павел Яковлевич день ото дня мрачнел и ожесточался. И понять его можно было: постоянная толчея в крохотной двухкомнатной квартирке, робкие намеки, что деньги опять кончаются, визг и драки сестер-двойняшек, плач сына, жена, сидящая с книгой в руках.
– Книга – это прекрасно! – желчно говорил он. – Но не лучше было бы погулять с ребенком?
– Но я только что пришла...
Он отворачивался, сдерживая вспышку беспричинного гнева, за которую потом самому же будет неловко.
– Ты совсем улыбаться разучился, – робко, словно извиняясь, сказала однажды Мария Николаевна мужу.
«Зачем я здесь? – думала она. – Почему я живу в этой семье? Что удерживает меня подле этого, в общем, чужого мне человека?»
Уже не раз заводила она разговор с Павлом Яковлевичем о Высших женских курсах. Он был категорически против. Мария Николаевна написала отцу. Старик Москаленко уже чувствовал, что со свадьбой Маруси они поторопились. Жаль было дочку. В письме из Нежина Мария Николаевна нашла 50 рублей – вступительный взнос на курсы. Отец писал, что будет платить за ее учебу. Между строк сквозило осуждение Павла Яковлевича.
Курсы только подлили масла в тлеющий огонь семейной распри. Семья разваливалась на глазах. Впрочем, развалилась она уже давно, просто не было у них смелости поверить в это.
Наконец она решилась. Сережу отнесла к знакомым, а сама уехала к сестре:
Нюша уже училась на курсах. Через два дня из Лодзи приехал брат Юрий и отвез Сережу к деду, в Нежин. Павел Яковлевич был вне себя. Подал заявление в Нежинский суд, чтобы немедля отдали ему сына. Суд отказал. Пришел мириться. Просил, умолял, вдруг срывался на крик. Однажды вбежал к ней совершенно вне себя, с белыми глазами, грозил, требовал, чтобы она вернулась.
– Пойми и запомни, – сказала она тихо, почти ласково, – я никогда не вернусь. Она почувствовала себя необыкновенно счастливой. Это был самый светлый ее день после свадьбы...
Маленький черноглазый мальчик сидел на ступеньках дедовского дома и улыбался солнечным зайчикам, прыгнувшим из весенних луж на уже сухое и теплое дерево крыльца. Он улыбался, он не знал, что у него уже нет отца.
Жизнь Павла Яковлевича после развода как-то скомкалась, – очевидно, он любил мать Сережи. Через некоторое время он женился на молоденькой Машеньке Кваша – подруге своей сестры. Обе они работали счетоводами-статистиками в управлении Юго-Западной железной дороги.
Знающие семью Королева тех лет отмечают строгий, резкий характер Павла Яковлевича. Улыбался редко. Много нервно курил. С женой был ровно сух, называл по имени-отчеству: Мария Харитоновна. В 1925 году у них родился сын Николай. Работал тогда Павел Яковлевич преподавателем русского языка на Всеукраинских политехнических курсах для инвалидов. Вскоре он тяжело заболел. Лечился, но безуспешно. Умер П.Я. Королев 10 ноября 1929 года от туберкулеза горла и похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.
Рассказывали, что перед смертью он писал Сергею, – хотел увидеть взрослого сына, но Мария Николаевна, сохранившая на всю жизнь стойкую неприязнь к первому мужу, не передала сыну этого письма. Так ли, не так, узнать теперь вряд ли возможно: участников этой грустной истории давно уже нет в живых. Известно только, что в 1929 году в Киев Сергей Павлович не ездил. И, наверное, в сердце его была и всю жизнь тихо болела маленькая ранка, которая не заживает у сыновей, не помнивших отцов.
Сводный брат Сергея Павловича, о существовании которого он не знал, окончил в Киеве семилетку, а когда началась война, учился в ремонтно-механическом техникуме. Вскоре после оккупации немцами Киева в сентябре 1941 года его вывезли на работу в Германию.
Мария Харитоновна поехала вместе с сыном, устроилась судомойкой на заводе, где работал Николай. После покушения на Гитлера в июле 1944 года, когда по всей Германии катилась волна диких репрессий, Николай Павлович Королев был расстрелян за саботаж. А Мария Харитоновна после войны вернулась на родину. Она умерла в Киеве в 1962 году.
Когда маленький Сережа готовился поступать в приготовительный класс, он написал сочинение «Дедушка». Совсем коротенькое: «Дедушка мой был давний охотник. Жил он в своем доме. Там был огромный двор и большой сад. Двор весь зарос травой. Около ворот была собака». Все. Вот в этом доме, на траве этого двора и прошло его одинокое, странное детство.
Единственный маленький человечек в большом доме, он был и его повелителем, и его рабом. Его любили все: дед и бабка, дядьки и тетки, и приказчик деда-парень лет восемнадцати, который по дому числился за дворника, и Варвара – правая рука бабки по всем хозяйственным делам, и сестры ее: кухарка Анюта и горничная Ксеня, и молоденькая учительница женской гимназии Лидия Маврикиевна, и старушка Гринфельд – ее мать, которые квартировали у Москаленко. Все его любили, но он был обделен родительской любовью как раз тогда, когда она нужнее всего человеку. Он был всегда опрятно одет, всегда сыт, всегда одинок, и почти всегда грустен. Все ухаживали за ним, и в то же время никому до него не было дела. Больше всего любил он залезать на высокую крышу погреба слева от вечно замкнутой калитки и следить глазами, как по улице к базарной площади медленно тянутся запряженные ленивыми волами подводы. Его никогда не пускали за калитку – таков был приказ Марии Николаевны: она боялась, что Павел Яковлевич в ярости своей может выкрасть Сережу. Мальчик не знал, как живут люди за забором. Нет, знал кое-что. Знал, например, что за одним забором жила богатая семья Рыжковых, там не было детей, там всегда было тихо. За другим забором помещалась гостиница «Ливадия», там вечная суета, движение, но там тоже никогда не звучали детские голоса. После киевской сутолоки Сережа поначалу скучал в тишине большого дома, а потом обвык и перестал томиться одиночеством. Он не скучал даже тогда, когда уходили все и запирали его одного в молчаливых комнатах. А когда учительница Лидия Маврикиевна приходила из гимназии, он кричал ей из дальней комнаты: «Это вы, Лидия Маврикиевна? Я рад, что вы пришли!» – но не выходил, продолжал играть. Часами просиживал он перед большим ящиком с кубиками, который привез ему из Лодзи дядя Юра, и в спальне деда поднимался целый город с высоким собором, большими домами с колоннами, лавками и мостами. Зимой он катался во дворе на салазках или усердно лепил больших снежных баб с угольными глазами и носом-морковкой. Лепил всегда один. В эти часы он никогда не капризничал, ему не было скучно так играть, потому что он не знал, как бывает весело, не знал, что существуют обычные радости детских игр. Много лет спустя, уже студентом, он скажет с грустью: «Детства у меня, собственно говоря, не было...»
Правда, в первый год своей жизни в Нежине Сережа был с мамой. Мария Николаевна понимала, что с курсами придется немного повременить: мальчик еще совсем маленький. Потом мама уехала, а он остался. Теперь мама приезжала только по субботам. О, это было настоящим праздником! Калитка распахивалась настежь, и они шли гулять. Летом они уходили далеко-далеко, в такие дали, которые были не видны даже с крыши погреба, – к реке, на базарную площадь, потом шли в гоголевский сквер, мама сидела на скамейке, а он носился по аллеям и вокруг старинных фонарей подле памятника и качался на тяжелых цепях ограды, косясь на грустное бронзовое лицо человека с большим тонким носом...
Как же это было замечательно, когда приезжала мама!
К вечеру они садились с ней на широкое с колоннами крыльцо, и она читала ему разные книжки про скатерть-самобранку, и ковер-самолет, и озорного Конька-Горбунка. Мама читала, пока не наплывали сумерки. Над вишнями дедовского сада поднималась огромная желтая луна. Вот уже бабушка зовет их пить чай в столовую. Теперь все – и сад, и луна – весь мир оставался за закрытыми ставнями, на столе что-то тихо бормотал самовар, жарко поблескивающий в желтом свете большой керосиновой лампы, – как любил он эти субботние чаепития с мамой!
Мария Николаевна, сама еще так недавно вышедшая из отрочества, увлекалась героями Купера и Майн Рида и, как могла, воспитывала в сыне мужество и смелость. Она специально посылала его в дальние темные комнаты, в ночной сад за каким-нибудь пустяком, и он, робея и оглядываясь, шел, побеждая в себе страх.
А еще Сережа любил дядю Василия. Дядя слыл добряком и действительно любил племянника. Он катал Сережу на велосипеде, играл с ним в крокет, показывал хитроумнейшую штуку – фотоаппарат и даже один раз разрешил нажать блестящую пуговку на конце тросика. В фотоаппарате сухо щелкнуло. Старший дядя – Юрий, тот, что привез кубики из Лодзи, – тоже был живой, веселый, но в крокет не играл.
Он быстро взрослел в этом большом доме с его заботами, тревогами. За столом иногда поминали не забытый еще Порт-Артур, и однажды Сережа вбежал в комнату с радостным воплем, размахивая игрушечной саблей:
– Бабушка! Победа! Я всем японцам срубил головы! Пошли скорей!
В саду на дорожке вокруг обезглавленной клумбы валялись красные бутоны пионов...
На смену кубикам пришли солдатики. Сережа быстро научился читать, никто и не заметил, как и когда он научился. В пять лет он уже писал печатными буквами и читал книжки. Самый ранний из сохранившихся автографов датирован 1912 годом. Подарил дядьке свою фотографию и вывел на обороте: «Дорогому Васюне от Сережи». Дата накарябана, словно в зеркальном отображении. Эту странную особенность детского письма изучали многие ученые-психологи, и только несколько лет спустя после смерти Сергея Павловича американец Фрэнк Веллютино доказал, что глубинные корни ее – в слабом развитии речи. Сережа, действительно, мало разговаривал в Нежине, не с кем ему было особенно поговорить. Но, несмотря на изоляцию от других детей и замкнутый образ жизни, он не был «букой», увальнем, медлительным тугодумом, напротив – отличался подвижностью, шустростью даже, только была в нем какая-то недетская уравновешенность, которая словно тормозила всякие бурные изъявления его натуры. Мария Николаевна попросила Лиду Гринфельд, учительницу, позаниматься с мальчиком, подготовить его в первый класс гимназии. Он учился охотно, особенно любил арифметику, хорошо решал устно короткие задачки, заучивал басни, стишки и любил пересказывать рассказики из «Задушевного слова». Когда Лидия Маврикиевна читала басни, слушал не шелохнувшись. Потом спрашивал: «Кто такой куманек?» Она объясняла. «А что значит вещуньина?» Теперь все ясно. Он успокаивался...
Пожалуй, самым ярким событием его нежинского бытия явился полет Уточкина летом 1910 года.
– Уточкин! Послезавтра Уточкин полетит в Нежине! – бабушка стояла на пороге, раскрасневшаяся от волнения.
Прославленный авиатор был в зените своей славы: ему едва исполнилось 35 лет, и не было в России человека, который не знал бы этого высокого рыжего здоровяка, властителя неба.
Ярмарочную площадь подмели для благородной публики солдаты 44-й артбригады, квартировавшей в городе, расставили за канатами скамьи, место на которых стоило неслыханно дорого – рубль! Рубль в Нежине – это воз слив! Праздничные хлопоты начались уже с утра, когда привезли с вокзала биплан. Только около трех часов, когда вся площадь уже была окружена плотной толпой безбилетников, занявших даже крыши соседних домов и примостившихся на деревьях, появился сам Сергей Исаевич, весь скрипящий в черной добротной коже – куртка, галифе, гетры, шлем, даже очки на лбу скрипели, – прохаживался возле аэроплана, позволяя фотографировать себя и снимать на «синема».
Сережа Королев пришел на площадь с дедушкой и бабушкой. Надо сказать, что именно бабушка была большой охотницей до всяких технических новаций, не боялась паровоза, а в Либаве со знакомым офицером осматривала субмарину и даже спускалась в чрево подводной лодки. Оживление бабушки в связи с предстоящим полетом не трогало пятилетнего Сережу. Сидя на плечах деда, он не понимал, о чем, собственно, говорят, не понимал, что такое «полет». Летали птицы, жуки, бабочки, но как могла летать машина?!
И вот он увидел: рыжий человек сел в плетеное кресло своей машины, механик, стоящий впереди, резко рванул вниз короткую, похожую на весло деревяшку, машина страшно затарахтела, затряслась, словно сердясь и негодуя, десятка два солдат держали ее за крылья и за хвост, успокаивали. – Это полет? – тихо спросил он деда, но тот не слышал. Желтое облако пыли потянулось к канотье и зонтикам обладателей рублевых билетов...