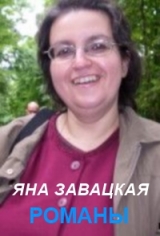
Текст книги "Невидимый мир (СИ)"
Автор книги: Яна Завацкая
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
– Меня всегда волновало... что они чувствовали...
– Страшно подумать, – сказал Кельм, – я бы не стал об этом писать. Это слишком страшно.
Но ты напишешь. Кому же, как не тебе, писать о таком... Это надо как-то осмысливать. Ты сможешь.
– Мне тоже страшно, – сказала Ивик, – и я не знаю, правы ли они были... Ведь послушай, Кельм. Ведь все... любой, абсолютно любой человек любит в первую очередь своих близких. Детей. Семью. Родину. А здесь... Это что же надо было убить в себе, чтобы так...И такое решение. Да, я знаю, признали, что они были правы. Что надо было уничтожить Дейтрос. Спасти Триму. Но... мне надо написать эту книгу, чтобы самой понять – что они были правы. Или не были... не знаю. И... какими они были. Кель, ты знаешь – они имели право решать.
– Очень уж разные люди, – откликнулся Кельм, – один вот так... а другой предает только ради того, чтобы жить более комфортно. Иногда думаешь – удивительно, как люди могут быть такими разными.
Ивик вдруг повернулась, нажала сенсор радиоприемника. Там начиналась как раз музыка.
– Люблю, – полушепотом сказала она. Негромкие фортепианные аккорды. Негромкий мужской голос.
Темная ночь. Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают...
Они оба замерли – Ивик и Кельм. Слушали. Они оба знали эту песню, как и многие другие.
Ивик подпела еле слышным голосом.
...Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Радостно мне. Я спокоен в смертельном бою.
Знаю встретишь с любовью меня,
Что б со мной ни случилось...
Смерть не страшна,
С ней не раз мы встречались в степи
Вот и теперь
Надо мною она кружится...
Музыка затихла. По радио заорали что-то оглушительно-бодрое. Ивик поспешно выключила голос.
– И поэтому знаю, со мной ничего не случится, – тихо повторил Кельм. Ивик прерывисто вздохнула. Достала посуду из буфета.
– Какие они были... дейтрийские.. послушай, Кель! Это же чудо просто, правда? Эти песни – им уж восемьдесят лет. Семьдесят, шестьдесят... А они все живы, их слушают... и ничего лучшего они написать не смогли. И наверное, не смогут. Потому что... для того, чтобы так писать – надо так жить. Надо этим жить. Надо понимать. Это только гэйн может понять...
– Ив, у них же не гэйны... не военные это пишут. Военные у них этим не занимаются.
– Да, и все равно. Понимаешь – надо так жить. Чувствовать. Наверное, не обязательно быть именно гэйном... в смысле, именно воевать. Да и потом, Кель, гэйны же не всегда воевали только. В старом Дейтросе... давным-давно, когда еще и Дарайи-то не было. А здесь... ведь тогда только и было вот так, тогда только и был огонь – а где он теперь? Есть, но еле теплится. В немногих.
Ивик, конечно, не могла надеть бархатное, темно-алое, как ему мечталось. Не положено. Она бы многое отдала за то, чтобы сейчас надеть платье или юбку – но на Триме у нее даже не было ни одного платья с собой.
Она все равно была хороша. В практичной своей рубашечке поло, с расстегнутым воротником, трогательно открывающим яремную ямку. В пятнисто-серых удобных штанах. И темные пряди ложатся на воротник. Свечи отражаются в темных глазах. До смешного тонкие запястья. Пальцы на грифе гитары. Гитара, переделенная под клори – две дополнительные струны, а форма корпуса – ну что ж форма.
Кельм подпер щеку рукой. Ивик смотрела ему в глаза. Неясное тепло струилось между ними.
– Вроде и не новый год, – сказала она, – здесь как-то не так ощущается, как у нас, правда?
– По крайней мере, сейчас мы не стареем на год...
– Но все равно хорошо, да?
– Да. Очень. Ну пой еще, что же ты? Спой мне. Ты же мне еще ни разу не пела...
– У нас никогда времени не было...
– А теперь есть.
Она склонила голову. Темные пряди закрыли лицо. Мелодия заполнила комнату. Тишина, мелодия, и за стенкой – приглушенные крики и бормотание телевизора.
«Мир в четыре руки» – «Ты играешь, а я танцую»***
Смех, разговоры, объятия, поцелуи,
Рассвет над водой и силуэты птичьи.
«Как тебе отыгрыш?» – «Спайка ОК. Технично».
Я не из этой сказки,
Ты не из этой сказки,
Наши флаги на самом деле другой окраски,
У нас имена другие, у нас не такие лица...
Когда все пройдет, мы не будем друг другу сниться.
Твои черты текут, как течет вода,
Проступают лица – того, что не видела никогда,
И того, что мне уже не увидеть больше...
И я не знаю, чей лик мне нежней и горше.
Я не из этой сказки,
Ты не из этой сказки,
Наши флаги на самом деле другой окраски,
У нас имена другие, у нас не такие лица...
Когда все пройдет, мы не будем друг другу сниться.
***Амаринн
Ивик замолчала, ушла в импровизацию. Струны звенели. Лицо ее горело, она не думала, что будет – так, что весь тот горячечный бред, который она сочиняла эти годы – ему – все это можно будет спеть... и он будет слушать. И глаза его будут блестеть.
– Какой у тебя голос красивый, – тихо сказал он.
– Давай выпьем немного... Здесь принято провожать старый год...
Руки встретились в полутьме. Бокалы дзинькнули.
– Знаешь, я так рад... так счастлив. Что тебя встретил.
– Я тоже, – ответила она.
– Еще целых полчаса до Нового Года...
Ивик посмотрела на монитор. Там все было благополучно.
– Спой еще.
Она пела еще. Все свое, заветное, что берегла для него... не стесняясь дейтрийского языка – кто здесь услышит? Соседи заняты своим. Пела про последние листья осени. Про зеркало. Про путь в небеса. Потом они еще раз выпили вина, красного испанского из Наварры.
– Кажется, положено пить шампанское...
– Это когда уже бьют часы. Это в двенадцать.
Она снова запела.
А знаешь, так просто – упасть, как в ладони, в траву...
Она пела, и почти уже без боли вспоминалась Шем. За эти годы песня стала известной в Дейтросе. Наверное, Кельм ее даже слышал... Хорошо, что от Шем осталась хоть эта песня. Ивик вспоминала жесткий взгляд из-под чуть нахмуренных бровей, смуглое плечо... Ничего этого уже нет, а песня – вот она. Земное бессмертие гэйна.
Ему бы забыть
О сраженьях, о правде, о зле.
Ему бы качать
Колыбель с тихой песней ночами.
И с тёплой улыбкой
Неспешно идти по земле,
Любуясь закатами,
Всходами и родниками.
Вдруг Кельм начал петь вместе с ней. Очень тихо. Словно касаясь голосом невидимой двери и спрашивая – можно? Потом голос его окреп, стал сильнее, и голос Ивик тонкой ниткой вился вокруг него. Это было – как в Медиане. Сердце взлетало куда-то вверх, Ивик не видела окружающего, не понимала, ничего более не существовало вокруг, только два голоса, ее и Кельма, только они двое и эта странная ночь...
Так просто – в траву...
И – забыться, забыть, не беречь
Усталую землю,
Объятую снова кострами
Пожарищ и смут.
Над Землёй – облака, облака...
Бездонное небо раскинулось.
Падаю в небо.
И снова рождается
Вера в себя. И строка.
И воля подняться
И встретиться взглядом с рассветом...
Они допели. Ивик выдохнула. Поспешно посмотрела на монитор. Взяла бокал и молча допила вино.
– Я не думала... не знала, что ты умеешь...
– Я тоже учился играть на клори. Я умел это раньше, – объяснил он. Ивик бросила взгляд на его левую руку. Кельм пошевелил покалеченными пальцами.
– Можно было, наверное, научиться и так, – сказал он, – если бы очень хотелось. Если бы нужно было. Не хватает всего пяти фаланг. Но ведь я не музыкант, понимаешь? Для меня это всегда было второстепенно. Я не стал учиться.
– Они просто отобрали у тебя это...
– Да. И петь... ты знаешь, я ж это первый раз. Я с тех пор так и не... Слушай, Ивик, что ты сделала со мной?
Она смотрела в глаза Кельма.
– Что ты сделал со мной? Если бы ты знал, как много во мне изменилось... если бы ты знал, что я уже несколько лет... – она замолчала. Какая-то грань. Грань, за которую нельзя переходить – и может быть, они уже давно ее перешли. Как тут понять?
... что я уже несколько лет живу только тобой. Что ты – вроде сердца, вроде смысла моей жизни, без того безрадостной и ненужной. Дети, Марк... да, все это хорошо, но все это отнимает жизнь, по капле высасывает, а ты – ты даешь.
– Смотри, уже новый год...
Они встали. За стеной по телевизору били куранты. На мониторе земной год отсчитывал последние секунды. Желание, подумала Ивик. Надо загадать желание... Она смотрела в блестящие глаза Кельма. Что еще желать-то можно... Мысль лихорадочно заметалась. По сути, ничего пожелать и нельзя. Все, что можно – у нее уже и так есть... "Чтобы он был жив", – подумала Ивик, – "чтобы жив и здоров, чтобы с ним ничего не случилось". Это было похоже на молитву. Господи, подумала Ивик, пожалуйста – чтобы ему было хорошо. Дзинькнули бокалы. Вино было легкое, слегка терпкое. Рука Кельма вдруг легла ей на плечи. "Все", подумала Ивик, понимая, что действительно – все. Но оторваться сейчас – оттолкнуть – как? Они оказались слишком близко... рядом. Губы. Они сомкнулись, и теперь были уже совсем-совсем вместе, не так даже, как в Медиане, а совсем... и на волне счастья Ивик вспомнила взгляд Марка. "Я тебя так люблю". Все равно что ударить ребенка... Ивик не оторвалась, просто видно как-то изменилось движение губ, что-то сдвинулось, и Кельм отпустил ее. Просто прижал к себе. Просто прижал, и так они стояли несколько секунд, и это были секунды последней земной горечи, так приговоренный к смерти растягивает последние мгновения жизни перед свиданием с холодным железом, а потом Кельм прошептал, отпуская ее.
– Монитор... надо смотреть. Идем.
Кельм легко поднялся со своего диванчика, недавно купленного. Ивик еще спала. Он подошел к ней. Присел на корточки рядом. Смотрел тихо, не дыша. Темная прядь упала на лицо. Он поднял ее двумя пальцами – чтобы не разбудить – отвел в сторону.
Быстро поднялся.
Ванная. Кухня. Остатки вчерашнего салата. Они легли уже в два часа ночи. Ели, разговаривали. Еще пели. Кельм чуть улыбнулся. Волшебная ночь. И чувство, будто родился заново. В дейтрийский Новый Год – так считается – каждый становится на год старше. Общий день рождения (помнится, Кельма очень удивляло, что на Земле дни рождения отмечают индивидуально для каждого). И сейчас будто новое рождение. Что-то изменилось. Сдвинулось... Ее темные блестящие глаза, ее тепло, поцелуй.
Кельм надел бронежилет. Сунул в кобуру не земной ПМ, а дейтрийский "Дефф". Он хотел действовать наверняка. "Дефф" намного надежнее.
... да, изменилось. Да, теперь уже настала ясность, что-то произошло. Кельм вышел на лестницу, стал спускаться бегом, не дожидаясь лифта.
... Она, конечно, не станет разводиться. Дети. В том-то и дело, что Ивик не сволочь, способная бросить детей или даже причинить им боль. Да и мужа своего она любит. Наверное, действительно, хороший человек. Не очень ей, вероятно, подходящий, но хороший. И пусть. И хорошо, что она не станет разводиться. И может быть, вообще даже хорошо, что у нее все уже сложилось, есть семья. Потому что, усмехнулся Кельм, ты, что ли, способен создать ей хорошую счастливую семью? Давай уж посмотрим правде в глаза...
Все эти годы о нем говорили за глаза – монстр, ненормальный, ради работы готов принести в жертву все и вся. Так ведь так оно и есть.
Гэйну нужен тыл, так часто говорят. В семье должен быть этот тыл. Конечно, он мало у кого есть на самом-то деле. Когда оба супруга – гэйны, получается, конечно, маленькое боевое братство, но не тыл в семье. Когда один из супругов из другой касты – чаще всего получается и вовсе ерунда... Вместо тыла – нудное тягучее болото с претензиями, с полным непониманием. Но Ивик, видимо, повезло. У нее есть семейное счастье. Покой. Любовь. У нее есть этот тыл.
А что было бы у нее со мной? Кошмар, честно ответил себе Кельм. Он вскочил на свой скутер, понесся сквозь светлеющие улицы, по серой снежной жиже.
...как ночью палили. Все эти фейерверки... Кельма это всегда раздражало. Отдаленно похоже на хороший дарайский прорыв на Тверди и артподготовку... неужели кого-то может радовать такой грохот?
Улицы были почти пусты. Первое января, утро – страна спит.
... я все равно не дал бы ей счастья, и с детьми ничего не известно, вряд ли у меня могут быть дети. Так что пусть живет так... Ну а здесь, на Триме...
Нам уже не пятнадцать лет. Да что там, квиссаны и в пятнадцать уже перестают всерьез воспринимать какие-то там церковные запреты. Другой вопрос, что в квенсене за степенью близости отношений тщательно следят, и нарушителям бы не поздоровилось. А мы взрослые люди. Мало ли что бывает в жизни... бывает всякое. И что такое эта брачная клятва? Кельм давно уже перестал это понимать. Он дал такую клятву однажды, в молодости – и оказалось, что это блеф, что его страшно и гнусно обманули. Он дал ее еще раз, Велене – и она тоже обманула его. Все это не имело никакого значения. Все это слова.
Он знал одно – что Ивик он будет любить до конца своей жизни. Такого, пожалуй, еще и не было, никогда. Это было – настоящее. Ее он будет любить. Защищать. Будет верным. Пока смерть не разлучит нас. Только смерть...
Что еще может иметь значение? Какие там запреты... какая мораль?
Он взбежал по широкой парадной лестнице.
Несколько секунд – уйти в Медиану, взять азимут, отключить предохранитель "Деффа" и сунуть заряженный пистолет на место, вернуться по горячему следу – уже за дверями квартиры, за дверью угловой комнаты. Попал правильно, отлично.
Василий, будущий семинарист и редактор православного журнала "Светоч", крепко спал. Вчера он все-таки, несмотря на пост, позволил себе отметить праздник в нужной ему компании... Кельм аккуратно достал левой рукой шлинг.
Василий открыл глаза.
Через секунду он рванулся – но было поздно, Кельм уже схватил его за плечо, переходя вместе с ним в Медиану. Легко взмахнул шлингом.
Охраны никакой не было. И правильно – против гэйна слишком много людей понадобится. Вася – слишком мелкая сошка, кто же ему такую охрану выделит...
Он корчился на серой почве Медианы, в майке и синих семейных трусах, из которых торчали длинные, тощие волосатые ноги. Золотые петли шлинга не давали ему пошевельнуться. Кельм подошел ближе, носком ботинка брезгливо толкнул подбородок, так что Вася развернул к нему лицо, красное, в крупных каплях пота...
Кельм не удалял облачное тело. Просто зафиксировал дарайца. Большинство, впадая в паралич после удаления облачка, не могут говорить, а Кельм собирался немного с пленным пообщаться. Васина челюсть мелко дрожала. Кельм протянул правую ладонь вперед, задумчиво посмотрел на нее, потом на Васю. В глазах дарайца плеснулся ужас. Но остатки гордости все еще позволяли ему молчать.
Ничего, кроме гадливости. Ничего. А ведь этот тип мучил Ивик... лапал своими мерзкими граблями. Бил ее ногами. Еще и вангалов натравил. Ивик права, вангалов даже жаль, они не соображают, что делают. А этот-то... И еще ведь идейно себя, видимо, оправдывает. Но никакой ненависти Кельм к нему не испытывал. Одно только отвращение. Бить не хотелось – больше всего хотелось повернуться и уйти.
Кельм вздохнул. Склонился к Васе.
– Твое имя? Должность? Задание?
То ли в его голосе было что-то ободрительно-обещающее, то ли Вася и вовсе не собирался бороться, но заговорил он сразу.
– Серрак Веней, вир-гарт, контрстратегия... я должен был предупреждать ваше... дейтрийское воздействие второго порядка...
– Ты охотился за Штопором. За куратором Штопора.
– Д-да.
Вася уже весь трясся – не то от страха, не то замерз. Кельм взглянул на часы. Десять минут. Это максимум, который у него есть. Он не собирался повторять Васину ошибку. Через десять минут уже могут появиться дорши.
– Что ты делал еще?
– Выполнял... разные поручения...
– Внедрение в православную церковь – кто приказал?
– Никто... я это... по собственному убеждению...
– Может быть, ты верующий? – насмешливо поинтересовался Кельм.
– Да, – вдруг сказал дараец, – да! Я... я не мог там... вы знаете, у нас запрещена христианская церковь, и я...
Кельм с удивлением смотрел на него, соображая. Возможно ли это? Ивик бы лучше поняла, черт их разберет. А вдруг он и правда – верующий?
Конечно, это ничего не меняет. Он все равно умрет.
– Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, -забормотал вдруг Серрак Веней, – И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век...
Надо было торопиться. У Кельма еще оставались вопросы. И все же он не прервал Василия. Дождался последнего "аминь", а затем спросил:
– Кто твой командир? Каким образом ты связывался с ним?
Василий пугливо покосился на него. Кельм снова протянул над ним правую ладонь. На ладони заплясал голубой огонек. Василий дернулся, расширив глаза от страха. И заговорил. Кельм заранее позаботился о записывающей аппаратуре, и слушал внимательно и с удовлетворением. Минуты через три он знал все, что можно было узнать от Василия. Поднялся. Оценивающе взглянул на связанного дарайца, прикидывая... Тот вдруг застонал и дернулся, насколько позволял шлинг.
– Брат... брат, не убивай меня! Я тоже верую... я христианин, как и ты!
– Не всякий говорящий Мне "Господи, Господи", войдет в Царство Небесное, – сказал Кельм спокойно, – помнишь женщину, над которой ты издевался недавно? Помнишь ее? После этой грязи – как ты смеешь произносить имя Христово, подонок?
Лже-Василий молчал, с ужасом глядя на него.
– Повторяй, дерьмо, – сказал Кельм, – Господи Иисус, Сын божий, помилуй меня грешного...
Василий повторил. Он бы сейчас сказал все, что угодно. Он очень не хотел умирать. А Кельм говорил по наитию. Он не помнил точно, что там надо говорить в таких случаях. Перешел на дейтрийский – по-дарайски он этих вещей и вовсе сказать не мог. Василий знал дейтрийский, послушно повторял за ним. Прости меня, Господи, грешного. Помилуй. Прости великие прегрешения мои и спаси меня Твоей святой Кровью, пролитой за меня... Кельм перекрестил связанного дарайца.
– Да будет с тобой милость Божья, – сказал он и в тот же миг ударил.
Вир-гарт Серрак Веней, лже-Василий, умер мгновенно, созданный Кельмом серый острый диск перерезал ему шею, хлестнула алая кровь. Кельм отскочил в сторону, не собираясь пачкаться и стал аккуратно уничтожать тело потоком плазмы, льющейся из обеих ладоней.
От тела Василия осталась лишь горстка черного пепла. Кельм постоял рядом в некотором ошеломлении. Н-да, месть получилась какой-то неправильной. Не о том мечталось. Ну да ладно. Кельм отошел подальше, трансформировался в свой технооблик, маленький самолет-истребитель и понесся к ближайшим Вратам.
Ивик тупо глядела в экран. Роман что-то не шел. Застопорился. Бывает. Может быть, просто усталость – она много писала, потом эта счастливая, сумбурная новогодняя ночь. У трансляторов все спокойно. Она взглянула на окно Штопора и отвела глаза. Штопор недавно завел очередную подружку. В данный момент они на матрасе, на полу в его комнате пробовали какую-то сногсшибательную позу. Господи, как все просто у людей.
Ивик тронула пальцем губы. Они помнили поцелуй...
Как было бы с ним хорошо... какое это было бы счастье...
Господи, какая же это похоть? Священники всегда предупреждают о похоти. Но разве она сейчас чувствует что-то похожее? Если уж что-то похожее и бывает, то скорее с Марком – когда просит тело, когда бьется кровь и набухает что-то внутри, когда так хочется... да просто удовлетворения. Да, с Марком это часто. К нему тянет. Попросту, физически тянет.
А сейчас, с Кельмом... просто хочется быть с ним, до конца, врасти, срастись, быть единым целым... чтобы уже только смерть могла нас разлучить... Мы ведь – одно. Мы должны быть одним.
Это плохо, да, Господи?
Перестань, сказала себе Ивик. Дело же не в этом.
"...это ведь среди гэйнов вообще норма. Особенно у разведчиков, кто дома подолгу не живет. Да по мне знаешь... лишь бы было шито-крыто. Лишь бы тут мне сцены не устраивал....
.. ты как была наивной дурочкой, так и осталась....
...Надо немножко посвободнее жить! Ну скажи, какой вред был бы Марку, если бы ты нашла на Триме кого-нибудь?
... ну попереживал бы. И смирился. И сам бы кого-нибудь тут нашел... Он же, Ивик, понимает прекрасно, что он тебе не пара. Что вы слишком разные. И не понимаете друг друга. А любит... если любит – смирится. Ну кто ты, и кто он, если честно? Он что, этого не понимает? Он будет благодарен, что ты его вообще не бросаешь!"
Большие телячьи глаза Марка. "Я так тебя люблю. Ты такая хорошая".
Все равно, что ударить ребенка. Или убить. Ты ведь научилась убивать в свое время, а сначала тоже казалось невозможным. А теперь ты и глазом не моргнешь – удар, и нет человека. Вот и здесь так же – ну и что, он попереживает и смирится с этим... да...
Ивик покосилась на экран, где разгоряченная девчонка выгнулась дугой в экстазе над замершим голым Штопором... Ведь все так живут, абсолютно все. И не только на Триме. И гэйны многие так... наверное. Она не знала наверняка, но – вполне возможно.
Только это как-то не вязалось с тем, что было. У нее и Кельма. Все эти разумные соображения. Или это – или то. Вот ведь в чем дело... как только начинаешь соглашаться, что да, "все же так", и "он смирится", так сразу все исчезает куда-то... его взгляд... его руки. Его негромкий, в душу проникающий голос. Само счастье быть с ним.
Ерунда какая-то...
Ивик насторожилась. Ага, это Жене пришло новое письмо от Дамиэля. Женя, кстати, сегодня неплохо продвинулась с романом. Делать нечего, с ногой в гипсе из дома не выйдешь, остается читать и писать на ноутбуке. М-да... Жестоко, но эффективно. А письмо от Дамиэля мы почитаем. Интересно все же, кто это... Кельм пока ничего не говорил, хотя кажется, уже расследовал там что-то.
Ивик читала письмо. Она увлеклась.
"...ты понимаешь, что такой мир, как Красный, может существовать только при условии предельного напряжения всех сил. Нормальные человеческие потребности в нем не удовлетворяются, они считаются даже неприличными, все должны жить на пределе своих возможностей... воевать, строить дороги, города, прокладывать новые трассы, искать какие-нибудь ископаемые, до одурения сидеть в лабораториях, ночевать на работе. Сплошной энтузиазм. К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься... Только при таких условиях может существовать Красный мир. Позволь людям немного расслабиться, сделать что-то для себя, для своей семьи, подумать об отдыхе и кайфе – Красный мир рассыплется. Так вот и Совок в свое время рухнул. Перетянули резинку.
Как оно было в совке? При Сталине, пока каждому грозил расстрел, все и пахали, как проклятые. Не обязательно даже из страха. Может, был и энтузиазм. А потом, когда коммунисты хватку ослабили, люди стали жить для себя – появилось и возмущение – почему мы живем не как на Западе, почему у нас убожество такое...
А рядом с Красным миром – Серебряный, где люди живут не в пример лучше, где армия профессиональная, а все остальные наслаждаются жизнью. Вот и подумай, как удержать людей от желания бежать, от желания вообще разрушить этот режим и зажить по-человечески...
Расстрелы, репрессии? Там их хватает. Но одним страхом действовать невозможно. Рано или поздно, как в Совке, прорвется возмущение. А Красный мир существует уже столетия – как?
А очень просто.
Ты читала Гумилева. Помнишь про пассионарность? В обществе всегда есть определенный процент пассионариев, когда он увеличивается – общество рвется в неведомые дали, уменьшается – люди живут как люди. Так вот, в Красном мире постоянно поддерживается высокий процент пассионариев. Высокая пассионарность.
Но рано или поздно люди размножаются, и пассионарность снижается. Герои, которые рвутся в неведомые дали, растворяются среди обычных людей, которые хотят жить по-человечески.
И вот Совет, правящий Красным миром, с каждым годом отмечал растущую опасность. Пассионарность падала. Герои и героизм набили оскомину. Люди хотели просто жить. Идеологическая накачка – дескать, мы все добудем, поймем и откроем, холодный полюс и свод голубой – была очень мощной, но всем уже на это было плевать. Люди жили для себя и семьи, развлекались, строили дачи, копили барахло... А для Красного мира это была полная погибель. Для всей их идеологии. Весь смысл жизни пропадает, если люди просто живут по-человечески.
А что с этим делать – никто не знал. Потому что с этим, с желанием просто жить по-человечески, на самом деле ничего сделать нельзя.
Но власти Красного мира придумали.
Это было преступление, перед которым меркнут любые преступления того же сталинского режима.
Они уничтожили свой мир.
То есть все было обставлено так, что это якобы была диверсия и агрессия Серебряного мира. То есть злых врагов. Но на самом деле это был заговор верхушки самого Красного Мира. Это они решили уничтожить себя самих. Свой народ. Народ, который их больше не устраивал.
Как я и говорил, Красный мир вел очень широкую экспансию. Миссионеры, военные, научные экспедиции... Постоянно за пределами страны работало очень много людей. Десятки тысяч.
Вот они и выжили, когда Красный мир был уничтожен с помощью оружия массового поражения. Очень мощное оружие, на Земле такого нет. Связано с временнЫм сдвигом. На это и был расчет – выживут только пассионарии. Те, кто оказался за пределами – они же почти все такие, денег им не платили, значит, все ради славы либо ради идей. Живущие ради идей, а не ради семьи и нормальной человеческой жизни. Они все выжили. Остальные погибли.
Мир был уничтожен ради сохранения пассионарности. Понятно, это представили как действие врага, так что Серебряный мир уже не мог отказаться от обвинения и вынужден был его принять. В глазах немногих выживших Серебряный мир превращался в страшного врага. Виновника гибели целой планеты.
Они не знали правды... Не знали и не могли узнать того, что Красный мир был уничтожен только ради сохранения пассионарности, ради того, чтобы он не превратился в мещанское, как они считали, болото..."
Ивик откинулась в кресле.
Машинально потрогала пульс – сердце колотилось бешено и гулко.
Откуда она знает, что это – правда? Откуда это чувство?
Она прикрыла глаза – под веками плясали молнии.
День Памяти. Она в ряду других детей пяти, шести лет – в вирсене. На экране – кадры из Старого Дейтроса. "В этот день дарайцы уничтожили наш мир. Погибли миллиарды людей – пап и мам, бабушек и дедушек, подростков, маленьких детей, младенцев...".
Маленький мальчик, ее одногруппник, громко, сбивчиво декламирует со сцены: "Песня молнией разящей пробивается сквозь дым. Светлый Дейтрос, землю нашу мы врагу не отдадим..." (и в воображении – дым, молнии, яркий свет, грозные, могучие воины, закрывшие собой родную землю...)
Начальная военная подготовка. Класс марширует строем. Налево. Направо. Разобрать и собрать автомат – на скорость. Надеть противогаз. Военная игра – Ивик всегда отставала в таких играх, была скорее обузой... до того, конечно, как попала в квенсен.
Алая лента, стекающая с плеча... ты зачислена в касту гэйн.
Алый шелк скользит по губам... "Клянусь Богом-Отцом всемогущим..." Присяга гэйна.
Оглушительный грохот впереди – первый бой. Чена рвет на куски снарядом. Кровавые спекшиеся куски.
Бой в Медиане – неожиданная легкость победы, дорши гибнут десятками, сотнями под дейтрийскими ударами, обращаются в бегство...
Квенсен. Постоянное ощущение голода, холода, не хочется вставать, не хочется жить, ничего не хочется. Просто надо. Надо. Невыносимо. Зубрежка. Тренировки каждый день, все болит, это привычное, нормальное состояние. Ледяная вода в умывальной.
Взгляд директора, Керша иль Роя, словно заледеневший. Страшный свист в воздухе и удары. Невыносимая боль. За что? В чем она виновата? Керш – рядом, у монитора. "Ты видишь теперь?" – "Дейтрос... он такой маленький", – "Вот именно". Пришедшее чувство обреченности – да, очень тяжело, но все это надо вытерпеть, вынести, потому что иначе погибнет Дейтрос. Он очень мал. Его уничтожили, и его приходится создавать с нуля и защищать от многократно превосходящих сил противника... Шендак, да почему этот противник до сих пор не уничтожил нас?
Или... или он никогда не хотел нас уничтожать?
И не применял темпорального винта?
"Клосс", висящий на стене в коридоре. Марк, неловко, неумело разбирающий оружие. "Да не так... смотри, это же просто".
Миари учит стихотворение: "Враг не пройдет – это знает каждый! Каждый дейтрин стоит на страже". Каждый дейтрин. Маленькая черноглазая Миари. Только что рожденный младенец. Мама с ее смешными заботами об "устройстве". Круглолицый уютный Марк, строитель-отделочник. Бабушка у подъезда на лавочке. Каждый дейтрин.
Наверное, это правильно.
Ивик давно к этому привыкла. И даже гордилась тем, что она-то – в первой линии обороны. Да, она всегда гордилась этим – быть гэйной... С того момента, как алая лента скользнула на плечо.
Но если дарайцы никогда не уничтожали Дейтрос – то меняется очень многое. Может быть, даже все... Если они и не собирались уничтожать Триму.
Если Рейта и Кларен иль Шанти вовсе не спасали Триму, а выполняли, может быть, сами не зная того, приказ Хессета... или еще какой-то тайной власти, может быть, власти хойта, стоящей за Хессетом. Если они спасали какой-то там "дух пассионарности". Что ж, очень логично. Оглушающий, почти смертельный удар – и новая версия Дейтроса. С Ивик в свое время тоже так поступили, как только у нее появились неудобные вопросы... Ее били так, что она едва не умерла. Что ей было уже все равно, ей было не до вопросов, ни единой мысли в голове, только бы не было так больно. А потом, после этого объяснили дейтрийскую версию мира. Керш, несомненно, верил в то, что говорил. Мало того, он говорил правду – Дейтрос и в самом деле очень мал, и если не напрягать все силы, ему не выжить. А для напряжения всех сил нужен большой процент пассионариев... А он обеспечен гибелью Старого Дейтроса... Та же самая ситуация – ударить так, чтобы уничтожить всех неугодных Хессету, всех простых довольных жизнью мещан, а оставшимся объяснить, зачем нужно теперь напрягаться и забыть о себе и о человеческой жизни...
Шендак, как все логично складывается.
Ивик остановившимся темным взглядом смотрела в монитор. Неужели это правда?
– Привет, ласточка, – Кельм радостный, ледяной, морозный, присел рядом с ней на корточки. Ивик обернулась к нему.
– Ты чего грустная? Знаешь что? Я убил Васю.







