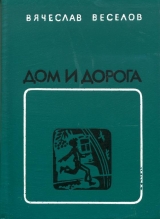
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Штурман отложил циркуль с линейкой и взялся за телефоны. Высокие звуки одинокого фортепьяно вызвали в нем представление о пространстве, прохладном воздухе осеннего парка, где на открытой эстраде играл пианист.
Штурман достал папиросу, старательно размял ее сухими пальцами, закурил.
Как он сказал тогда, этот парень? «Давай, старина, давай!» Прижав к груди бумажный пакет с апельсинами, штурман боролся с тяжелой дверью, когда услышал над головой: «Давай, старина!» Дверь поддалась, и кто-то высокий, в гремящем плаще шагнул мимо него. Штурман узнал молодого летчика из соседнего отряда. Тот уходил быстро, не оглядываясь, застегивая на ходу плащ. Он не признал штурмана, или не захотел признать, или никогда не замечал раньше.
Штурман не обиделся, просто с привычной озадаченностью, уже забыв этого парня, опять подумал о молодых летчиках. Что они за люди? Ему хотелось знать, например, что думают они о нем, когда он маленький и худой, с потертым портфелем идет к своему самолету.
Он все чаще стал размышлять о молодых пилотах, обнаружив однажды, как мало осталось рядом старых друзей. Жизнь менялась на глазах, он не мог не замечать этого, но как-то внезапно многое стало другим, то есть в какой-то совершенно определенный день он увидел, что вокруг незнакомые молодые лица, новые люди, и он их не понимает. Нет, особых претензий у него к ним не было. Прекрасные, в общем, ребята. Его только неприятно удивляла невозмутимость, почти безразличие, с каким они принимали и новые машины, и новые рейсы. Они редко заговаривали о работе и одинаково легко выслушивали хвалу и хулу.
Так рассуждая, он привычно переходил к мыслям о сыне. Способный, дельный инженер и вдруг ушел из конструкторского бюро, связался с гонщиками на скутерах (или как там они еще называются эти маленькие юркие суденышки), стал комментировать состязания, разъезжать по городам. Понятно, кто-то должен комментировать гонки, но как можно было без всяких колебаний бросить работу, словно и не стоили ничего ни годы учебы, ни знания, ни опыт. Теперь дома только и слышалось «редан», «водомет», «кольцевая трасса», «суммарная масса корпуса». Комната сына была увешана фотографиями его новых друзей-чемпионов – довольные, счастливые парни в шлемах и прорезиненных жилетах... Да нет, все как будто складывалось неплохо: новой работой сын был доволен, а его брак, такой вроде бы несерьезный, случайный, неожиданно оказался прочным. Штурмана лишь тревожила легкость, непонятная ему снисходительность, с какой невестка и сын относились друг к другу. Вот он звонил, она брала трубку. «Это ты, подруга? – спрашивал сын. – Обедаешь?» – «Да, – отвечала она, – сидим с отцом». – «Привет родителю. Знаешь, я тебя сегодня, наверное, не увижу... Да, опять в Ленинград. Надолго? На недельку, должно быть». – «Чистые рубашки в шкафу», – говорила она. «Ладно, – говорил он. – Вернусь, позвоню». – «До скорого», – говорила она.
Конечно, думал штурман, мы были строже в словах, в каждой мелочи. Да ведь и время было какое... Конечно, все дело в бойкой нынешней жизни. Но легче от этих объяснений не становилось. Сын все больше отдалялся от него, и все чаще замечал он в знакомых глазах равнодушие. И не только к себе...
Ему приходилось вести занятия с молодыми штурманами. Они вежливо слушали, были исполнительны, аккуратны. Профессиональную выучку, точность, расчет они демонстрировали, слов нет, но никто из них, как ему казалось, не вкладывал в дело всей души. Старый штурман чувствовал себя обкраденным, видя, что в его ремесле уже нет никакой исключительности, что ни на нем, ни на его коллегах более не лежит печать избранности и что сегодня любой парень из толпы пассажиров мог бы оказаться за штурвалом. Впрочем, чего же обижаться, думал штурман. Жизнь... Какая уж тут обида.
Он вспомнил ушедших на покой друзей, а потом – первых летчиков, каких знал. Он еще застал этих полярных асов, летавших на легких машинах по трассам, где единственным ориентиром была изба охотника, какого-нибудь Кеньки Петушка, вспомнил их, грузных, немногословных, в длиннополых кожаных регланах и флотских фуражках. Пожелтевшие фотографии хранили дыхание этих людей на морозном воздухе, дыхание, которое растаяло на посадочных площадках и тундровых аэродромах когда-то страшно давно. Их было в те времена немного. Встречаясь на далеких аэродромах, они шумно и весело приветствовали друг друга. А нынче сядешь где-нибудь на Чукотке, рядом самолет зачехляют, посмотрят на тебя вполглаза, дескать, еще кто-то прилетел – и все. Одни из немногих, те, первые, были хранителями высокого и редкого искусства. Каждый полет раньше был событием, самолетовождение требовало тогда смелости и сноровки иного рода, чем теперь, в нем больше было от искусства, больше было свободы и риска. А как они знали самолеты! Они говорили о их повадках, словно что-то живое было в плоскостях, винтах, стойках шасси и чего вдруг лишились новые мощные машины, равнодушно пожирающие пространство.
Штурман приложил телефоны к уху. Была другая музыка, было что-то тихое, слабое, щемящее...
Да, вся жизнь на этих трассах – ледовая разведка, проводка караванов, полярные экспедиции – самолеты, самолеты, самолеты... Где-то на задах мастерских они доживали свой век, а на Чукотке, в тундре лежала его «Каталина» – неуклюжая летающая лодка с отвислым брюхом. У него сжималось сердце, когда они проходили над ней.
Штурман с улыбкой подумал, что не знал, в сущности, того, что понимают под авиацией молодые и впечатлительные люди – вдохновенного опьянения высотой и гордости покорителя стихий. Ему было незнакомо «чувство машины», уверенность, что она подвластна твоим мускулам и твоей воле. Да и скоростей он не знал, хотя сейчас их тяжелая машина шла со скоростью, какая в пору его первых полетов показалась бы немыслимой даже для истребителей. Он всю жизнь летал на тихоходных, как правило, до отказа нагруженных транспортных самолетах, работягах с заплатами на облупившихся фюзеляжах. Штурман вспомнил, как однажды они сели на военном аэродроме и рулили среди маленьких, горящих на солнце истребителей. «Вторжение слона в посудную лавку», – сказал веселый руководитель полетов. Потом они стояли на полосе и молотили винтами, собираясь взлететь, а какой-то истребитель, которому они, видно, помешали сесть, спросил, уходя на второй круг: «Иволга»! Что у вас там за сарай на полосе?»
Да, он просидел четверть века в штурманском закутке, обычно за спиной командира, прокладывая маршруты на пестрых полотнищах карт. Четверть века над плоскостью стола, заваленного карандашами, навигационными линейками, циркулями. Так вот и просидел за столом или, неловко скорчившись, за бортовым визиром... В последнее время нередко случалась бессонница, и после нее штурман чувствовал себя разбитым. А раньше он мог подняться вместе со всеми за два часа до вылета, помочь разогреть двигатели, а после пять-шесть часов работать в воздухе, переночевать на маленьком аэродроме, в какой-нибудь конуре, завернувшись в собачью доху или спальный мешок, а утром встать свежим и отдохнувшим, готовым снова лететь. Теперь он все чаще замечал, что ему уже не по годам длительные полеты.
Штурман потер начинавшие тяжелеть веки и откинулся на спинку сиденья. Мысли его мешались: самолеты, годы... Нет, за всем этим было что-то еще, что заставило размышлять. Он вспомнил: сын!
На стеклах кабины оседали хлопья тумана. Покалывало в ушах. Штурман взялся за телефоны и щелкнул переключателем: командир разговаривал со стартом. Они снижались.
«...И с неба на землю глядят».
Меня до сих пор волнуют детское простодушие и одновременно какая-то сугубая серьезность этих строк.
Снег кончился, теперь снова шел дождь. Из окна диспетчерской я видел ярко освещенную стоянку, где бортинженер с механиками осматривали двигатели. Пора было идти встречать летчиков.
Что там сказал редактор? Небольшая информация... арктический мост... Вот ведь бросил мимоходом и уже не отвертеться. Магия слов. Что здесь еще придумаешь? Арктический мост... А-а, все равно. Тридцать строк на подверстку.
Бортинженер догнал экипаж, пристроился с краю, и теперь они шагали вместе – пять темных молчаливых фигур. Летчики вступили в полосу света, и я успел разглядеть их всех.
Командир шел, широко ступая, забросив руки за спину и наклонив голову так, что были видны лишь крылья породистого носа и седая щетина на подбородке. Рядом семенил штурман. Его можно было принять за подростка, если бы не выцветшие, почти прозрачные глаза под тяжелыми веками да глубокие складки в углах рта. Он казался особенно маленьким рядом с грузным бортинженером. Тот, наконец, справился с пуговицами и петлями на своем пальто. Он натягивал перчатки и неровно дышал, плоское лицо его было покрыто пунцовыми пятнами. Радист в лихо заломленной фуражке и ярком кашне вокруг шеи, с упрямым мальчишеским лицом, двигался как-то пританцовывая, с огоньком зажигалки в руках. Он был в куртке, единственный из экипажа. Второй пилот, на полголовы выше остальных, очень прямой, очень стройный, шагал будто сам по себе, с сосредоточенным выражением, замкнутый, непроницаемый. Форменную фуражку он держал в опущенной руке.
Так они шли.
1972
НАЕДИНЕ С РОДИНОЙ
Безвольного и почти невесомого его куда-то несло – странно, боком... Так он проснулся. Вагон слегка пошатывало, под полом стлался ровный гул колес.
Первокурсник Игорь Артемьев ехал домой на каникулы. Садился он ночью и уснул неожиданно быстро, даже не успев пережить своего отъезда. В памяти осталась только резкая вонь дезинфекции. Ее запах по-прежнему плавал в вагоне, но уже слабый, едва различимый. У жесткого слова «плацкартный» был теплый, сладковатый привкус.
Игорь отбросил оконную занавеску. Вдали, за разливом матово-зеленых хлебов, в холодном полусвете спала деревушка. В березовой роще прятался погост. Над куполом церкви вились птицы. Должно быть, они кричали. И оттого, что он не слышал криков птиц и почти не различал их движений (расстояние скрадывало), вся картина казалась застывшей: тесовые крыши, зябкие деревца кладбищенской рощи, птицы, распятые на бледном утреннем небе... С чем-то похожим на удивление Игорь подумал, что все это он уже видел однажды.
В тесном коридорчике толкались пассажиры с полотенцами. Игорь прошел в тамбур, открыл дверь и вдруг так свежо, по-детски, горячим, после сна лицом ощутил прохладу летнего утра.
Бледная тень поезда скользила по траве, взлетала на косогоры, сбегала со склонов, терялась в низинах, мелькала в перелесках. С дробным грохотом поезд проскочил короткий мост и по широкой дуге вылетел к молодой роще. В глазах рябило от берез, а дальний лес с прислонившейся к нему деревушкой сквозил в просветах белых стволов и плавным хороводом, танцуя, улетал за горизонт.
Игорь вернулся к себе, приглаживая влажные после умывания волосы и чувствуя запах ягодного мыла, исходивший от рук. Проводник в белой куртке разносил чай.
Повинуясь какому-то безотчетному зову, Игорь снова вышел в тамбур. Была еще одна деревня. А может, все та же. Теперь она открылась с околицы: потемневший от времени сруб, крапива под оконцем. Банька, что ли? Над ветхой крышей, подернутой зеленоватым лишайником, курился дымок. И тут из открытой двери, из темноты блеснул навстречу отсвет жара. Кузница! И старый сруб исчез – ни звона наковальни, ни запаха окалины, ни жара из горна...
Деревня просыпалась. Синевато-белый дым поднимался над крышами и таял в солнечных лучах. Картина дышала теплом и старинным покоем. Давешнее его удивление сменилось неясным, томящим чувством.
Медленно развертывалась и убегала к горизонту равнина, а впереди, по ходу поезда, надвигалась краем темная стена леса. А потом лес кончился и снова пошли поля, мягкие покатые холмы, блюдца озер между ними – открытый, доверчивый пейзаж. Там, дома, на плоских и бесконечных зауральских равнинах, пространство не ощущалось, а здесь не только холмы, но даже открытые дали, казалось, были в движении – пространство развивалось, жило...
Игорь вдруг подумал, что не знает России, ее средней полосы. Подумал так, как никогда раньше об этом не думал, с чувством открытия, хотя никакого открытия в этой мысли не было: не он один! Сколько нас русских, не видевших срединной России, что, собственно, было и некогда звалось Русью. Он перебирал свой недолгий опыт: детство в Сибири, армейская служба в Заполярье, а теперь большой каменный город, свет его белых ночей, близость моря, остзейский ветер, чухонские болота... Игорь подумал о своих сверстниках с таким же, как у него, опытом. Они повторяли «родина», «родные места», «дом», а потом говорили «Россия». Они хранили в душе образ земли, которой никогда не видели. Все наше отсюда, думал он, наша память, история, язык. «Я никогда не был здесь, на этих равнинах, среди этих холмов, но я чувствую себя на родине. Иначе почему заходится, почему замирает сердце от одного только взгляда на эти дали и тихие небеса? Откуда внезапная нежность к этим неярким пейзажам, их власть надо мной? Ведь я вижу их впервые». Юра Демушкин, его сосед по общежитию, провел зимние каникулы в каком-то пансионате на Валдае. Он рассказывал про морозы, метели, снега и все повторял «ждал», «узнавал»... Игорь тогда его плохо понимал и только сейчас отчетливо представил себе, что должен был переживать в лесном пансионате среди снегов Юра, родившийся и выросший в Крыму.
Медленно сникал в зное ветер и замирали ленивые волны хлебов. Край поля терялся в дымке, а дальше у горизонта висела плотная, тяжелая – уже не дымка! – мгла, в которой нельзя было различить ни лесов, ни деревень.
Долгий летний день все не кончался. Казалось, он не кончится никогда. Казалось, за окнами всегда будут эти рощи, эти тени облаков на пологих холмах, медленные реки, слабое свечение воды, дощатые мостки и снова – тихие дали с синеющими лесами, разбег равнин и плавный полет холмов.
Где он все это видел? В детских снах? Или, быть, может, когда-то совсем давно, еще до своего рождения? Странное волнение охватило его. Ему вдруг показалось на миг, что он уже был здесь однажды. Иначе почему эти картины так трогали его, будили неизъяснимую печаль и наполняли душу горькой нежностью и любовью. Это была память о каких-то равнинах, реках, холмах... Сейчас он узнавал их как старых знакомцев, и чувство родства с ними окатило его горячей волной. Это была не культурная память («Родная речь», страницы книг, картины русских художников), это было что-то давнее, вековое, заветное. Он спросил себя: отец? Да, отец был родом из этих краев и теперь смотрел на них его глазами. Что-то очень русское было в этих ландшафтах – мягкость, широта, напевность. Он их видел впервые, но с изумлением обнаруживал, что понимает их язык.
Не рождаемся ли мы с этим пониманием?
В глаза било низкое вечернее солнце, тянул с полей свежий ветер, и вдруг широкой звенящей полосой над равниной пронесся дождь. За сеткой дождя Игорь увидел город – весь в садах, с одинокой колокольней над морем крыш. Это был маленький старый городок. Уездный – так о нем подумалось. Там на базарной площади еще сохранились, должно быть, торговые ряды, провинциальный гостиный двор, пожарная каланча стояла, верно, по-прежнему и, как раньше, цвела в палисадниках сирень. В домах мерцали огни и на узких улочках городка сейчас, видимо, было пустынно.
День угасал. Смеркалось над всей землей, темнела и делалась тяжелой вода, в сумеречном воздухе реяли птицы. Почти с болезненной остротой переживал Игорь эту исконную печаль вечереющих полей и медленно текущих, гаснущих рек. Ему захотелось в поля, где в низинах стелется густой туман, бродят стреноженные кони, глухо позвякивает колокольчик и носятся бесшумные тени птиц.
Кто знает, подумал он, не оставят ли эти равнины, эти холмы и деревушки как заповедники нашей старой родины, чтобы они учили нас красоте, будили светлую грусть и врачевали наши души.
Игорь подумал об этом с неожиданной тревогой, торопливо, словно собирался что-то кому-то доказывать. На поезд надвинулись высокие темные стены, замелькали трубы, огни электросварки, пролеты цехов – огромный, горящий в ночи завод. Проносились мимо бетонные утесы элеваторов, опоры высоковольтных линий, мачты ретрансляторов, антенны, серебристые шары газгольдеров. Это была знакомая сегодняшняя жизнь, но и ее он видел теперь с тем же чувством открытия, с каким смотрел утром на спящую деревушку. Рядом с поездом летело широкое шоссе, залитое сиянием ртутных светильников, и по нему мчался мотоциклист в кожаной куртке и белом шлеме.
Вокруг снова была прохладная сырая ночь. Из-за черных деревьев зеркалом блеснула гладь лесного озера и одинокий огонек на воде. Игорь долго смотрел на этот дрожащий огонь и неожиданно затосковал по людям, по их жизни, скрытой за лесами и речными излуками.
Он вышел на маленькой станции – сырой асфальт, шелест тяжелой листвы, желтый свет в окнах, запах кухни из открытой двери, девочка с бидоном молока... Он еще не уехал, а уже тосковал по чужой жизни. Кто научил его понимать пронзительную одинокость и грусть маленьких станций?
Сейчас станция проплывет мимо, скроется за деревьями, и он никогда больше ее, наверное, не увидит, и только, быть может, вспомнит однажды, и сердце его сожмется от утраты.
А он снова будет ехать и долго не сможет заснуть, и будет сидеть у окна и ждать, как подарка, какого-нибудь огня, а потом среди ночи на глухом полустанке поезд остановится, и проводник откроет дверь прямо в ночь, в поле, в сырые травы, и далекий нежный запах дыма напомнит ему о людях, о человеческом жилье; раздадутся в тишине чьи-то голоса, слабый гудок, и поезд снова тронется.
Игорь все стоял в тамбуре и не хотел уходить. Он знал, что такая ночь не может повториться. Впервые с полнотой и определенностью он почувствовал себя русским. В его душе, в крови, в каждой его клеточке никогда не виденные раньше пейзажи отозвались неожиданной острой любовью. Чем была эта любовь? Наследием поколений? Памятью? Это была память – отцова, дедова, родовая, народная... Сейчас в нем продолжалась жизнь, которая была здесь до него, без него. Исконное, давнее он переживал как свое и почувствовал, что он не один на этих равнинах.
А все-таки... Вся жизнь минувшая должна остановиться где-то.
Иногда какой-нибудь дом, рыночная площадь, лошади у коновязи, деревенский мужик с покупками или просто запах талого снега (с чего бы вдруг!) вызывают острое, почти физическое ощущение прошлого, минувшей жизни, точно ты жил в этом доме и знал эту исчезнувшую жизнь. Картина вдруг начинает дробиться, тускнеть, меркнуть в зыбком полусвете, а из него проступает уже другая картина, набирает цвет, плотность, ощутимость...
Во всяком поколении есть все поколения. Человеку пусто и одиноко в одном настоящем, с тревожным замиранием в душе пускается он в странствие во времени и неожиданно возвращается из дали лет с чувством надежды и покоя.
История – живая жизнь. Прошлое не умирает. Ты живешь потому, что до тебя жили другие. Ничто не может обречь нас на беспамятство, все мы связаны в тесный узел соучастия.
Еще не пережив волнения, ты обретаешь чувство утраченного родства, похожее на внезапный прилив счастья.
Целый день он не отрывал глаз от пейзажей за окном, он влюбился в них, по сейчас, стоя на ночном ветру, понял, что родину не опишешь в географических понятиях. В самом деле, что скажут другому эти поля и косогоры? Ведь только их он и сможет увидеть.
Родина – это память, это душевное измерение, это способность видеть и чувствовать так, а не иначе.
Он искал слова, чтобы выразить то сложное и, быть может, невыразимое, что было заключено для него в слове «родина». Как рассказать об этом? Ведь не размахивать же руками, не кричать на всех перекрестках о своей любви. Надо хранить в себе это сдержанное, строго-ревнивое чувство. Он подумал об этом с грустью, но и с надеждой тоже, потому что другой, если ему суждено разделить твое чувство, безошибочно узнает его, поймет тебя по жесту и голосу и улыбнется в ответ.
1983
ДОРОГА
Большая дорога – это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, – точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея; а в подорожной какая идея! В подорожной конец идеи...
Достоевский
АРКТИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
(ЗАПИСКИ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА)
Ветер с далеких береговЯ и теперь, пожалуй, не сумею внятно объяснить, почему спросил тогда в институтской библиотеке дневники Нансена, а потом всю ночь напролет, накануне экзамена, читал про дрейф «Фрама». В выборе книги, собственно говоря, ничего удивительного не было, я с детства бредил Арктикой. Но внезапность решения меня поразила: я был ближе к своему детству, чем мне казалось.
Они жили втихомолку, старые, уже потускневшие мои мечты и только иногда заявляли о себе – вставали, звали за собой, тревожили... Но наступало лето, и я уезжал на практику или с друзьями на юг.
После той ночи я понял, что откладывать больше нельзя, и сел в мурманский поезд. Похоже на романтическое бегство? Да нет, никакого бегства. Ничего такого. Просто каникулы, последние мои студенческие каникулы. Все оставалось на своих местах – келья в общежитии, недочитанные книги, друзья. Мне нравилась моя будущая специальность, я заканчивал институт и собирался провести оставшуюся жизнь среди книг и учеников. Со многим я простился спокойно, но тут... Живешь, взрослеешь, а однажды замечаешь, как детская мечта грузом лежит на сердце. Словом, я решился.
А книга была мне знакома. Помню какой-то заснеженный город (работа отца была связана с частыми переездами, и я катался с родителями по стране, не успевая привыкнуть ни к городам, ни к школьным приятелям). Помню неуютный дом, пустые комнаты, темный шкаф, доставшийся нам от прежних хозяев, а в нем несколько книг, старые журналы и Нансена издания 1903 года. «Среди льдов и во мраке полярной ночи» – так совершенно во вкусе тех лет к риторике и жутковатым заглавиям называлась книга. Помню холодную зиму, болезнь и долгие ночные часы за книгой. Кажется, тогда я влюбился в Арктику. Мне было двенадцать. Надо ли говорить, что я решил стать полярным путешественником.









