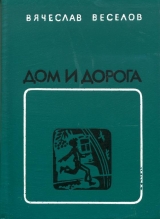
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Как многие кадровые военные я не знал чувства дома. В юности – казарма, в годы войны – дощатые аэродромные домики или землянки, вырубленные в полярных скалах, потом – офицерские общежития и гостиницы, квартиры в военных городках, похожие одна на другую.
После войны я служил в морской авиации. Меня носило по далеким гарнизонам, семья привычно снималась с места, которое мы не успевали обжить, и следовала за мной. Не помню, чтобы сын или дочь когда-нибудь вспоминали свои школы или школьных друзей – не успевали привыкнуть. Содержаться, как говорила мать. Они с детства жили на колесах, и их нынешняя кочевая жизнь далась им легко: сын стал геологом, дочь – журналисткой. От нее, наверное, от этой кочевой жизни оба в тридцать лет еще не имели семей.
Словом, чувство дома было мне незнакомо. Другие хоть знали место, куда можно было вернуться. Мои сослуживцы, старея, все чаще заводили речь о родных углах, уезжали в какие-то богом забытые деревни или маленькие городки, возвращались – рассказам не было конца. Однажды (мне было уже за сорок) я съездил на родину. Наш завод вырос в огромный комбинат, поселок снесли, на его месте белели типовые пятиэтажки соцгородка, на пыльном ветру шумели молодые тополя. Отец умер, мать давно жила со старшим братом на Алтае. Никого из прежних знакомых я не встретил в соцгородке.
Но лесная деревушка жила в моей памяти и изредка, перед пробуждением или в какой-нибудь промозглый день, в аэродромном домике, где я ожидал команды на вылет, глядя сквозь рябое от мороси стекло на мутную воду бухты, – эта деревня вдруг вставала передо мной: теплые зеленые поляны, ленивые летние облака, их тени, бегущие по косогорам, узкое девичье лицо с нежным румянцем... Картина быстро туманилась, тускнела, гасла, чтобы однажды, через много лет, возникнуть снова – тихая, молчаливая, еще более туманная, неясная...
Теперь, когда после болезни я оставил свои не очень обременительные обязанности в клубе ДОСААФ, полузабытые картины стали возникать в памяти с пугающей ясностью и остротой. Вот так, видать, и стареешь.
Лет десять назад брат вызвал меня телеграммой: умирала мать. Я прожил возле нее неделю. Мать не вставала, ела только сухари, макая их в теплую воду с медом, почти не говорила. Но иногда, проснувшись среди ночи, вдруг начинала вспоминать и вспоминала не что-то сравнительно близкое, знакомое нам обоим, а давнее, свое, девичье, детское: первый испуг на масленице (ее напугал пьяный ряженый), соседскую девчонку, умершую в младенчестве, какой-то ключ, бивший из-под камня. Мать говорила слабым голосом, медленно, с долгими паузами, но я как на ярком свету видел этот ключ, сырую глину возле камня, холодную и влажную поверхность гранита. Должно быть, и она поражалась необыкновенной яркости картин, которые чередой выплывали из ее уже гаснувшей памяти.
Я давно мечтал съездить в лесную деревушку, но времени так и не выбрал. Теперь она все чаще вставала передо мной, тревожила и рождала глухое чувство вины.
Наконец я решился. Долгие сборы, долгая дорога, думанная и передуманная, множество раз проигранная в уме встреча с прошлым – все это размыло волнение, с каким я садился в поезд. А когда прохладным летним утром вышел на пустой перрон и увидел знакомый вокзальчик, с которого уезжал на фронт, ничто во мне не шевельнулось. Все было на месте – кирпичная водокачка, крохотная площадь перед вокзалом, базарчик под дощатым навесом, где вечные бабки торговали малосольными огурцами и отварной картошкой, пристанционные тополя...
Все было как тогда. Жизнь тому назад.
Наш выпуск разбросало по разным фронтам. Я попал в прославленное штурмовое соединение, но получил не боевую машину, а связной самолет. Нас было четверо в отряде управления: двое безусых юнцов вроде меня и пожилой ворчливый дядька, бывший гражданский пилот. Мы жили в тени громкой славы своих однополчан: возили начальство, донесения и почту, летали на разведку. Воевал я скромно и высоких наград не заслужил. Случалось, правда, и мы попадали в переделки. Немецкие истребители охотились за нами: сбить тихоходную, без всякого вооружения машину ничего не стоило, а боевой счет у этих стервятников рос. Однажды меня подловил «мессер». Он, по всему, возвращался с задания, и боезапас у него кончился. Немец решил вогнать меня в землю. Он то с ревом проносился надо мной, то убирал газ, выпускал шасси и пристраивался рядом. Летчик весело скалился, показывал пальцем вниз и проводил ребром ладони по горлу: дескать, капут! Он забавлялся, играл со мной, как кошка с мышью. Помню молодое мальчишеское лицо. В нем не было ни злости, не ненависти – одно только упоение игрой. Я нырял под брюхо немцу, он уходил вверх, снова пристраивался ко мне и грозил пальцем, как строгий учитель: мол, не балуй! Я увидел поляну, притер машину к земле, сел и на ходу выпрыгнул из кабины. Немец проскочил мимо, развернулся и зло полоснул по моей машине из пушек. Был, значит, у него боезапас. Ему, гаду, хотелось вогнать меня в землю. Я поднялся, матерясь и подняв кулаки к небу. «Мессер» качнул крыльями и ушел на запад.
От станции до районного городка, где некогда размещалась наша авиашкола, было полсотни километров. Я подгадал к первому рейсовому автобусу. Пассажиров в утренний час оказалось немного: четверо пожилых женщин с покупками (они, видимо, возвращались из областного центра), девушка лет семнадцати с братишкой и небритый мужик в тяжелой брезентовой куртке.
Когда за окном автобуса побежали березовые колки, ложки́ и увалы, меня вдруг прошибло острое чувство узнавания. Это было странно: вот ведь и вокзал узнал, но ничего, ровным счетом ничего не пережил, не успел почувствовать, а тут смотрел на осинники и березовые колки, улыбался, точно встречал давних и близких знакомцев. Вспомнил, как бежали взводом сырым ложком. Сквозь пот, каким-то боковым зрением я видел качающиеся, плывущие верхи косогоров. А потом привал в березовом леске, запах весенней земли, пота, махорки, колючий ворс курсантской шинели... Лица ребят одно за другим выплывали из памяти, из этих зеленых просторов. Лица тех, кого даже и не вспомнил ни разу за эти годы: молчаливый высокий сержант из третьего взвода, конопатый мальчишка, имени которого я не знал, и лица моих друзей – молодые, не тронутые временем, словно они навсегда остались среди этих зеленых полян и косогоров.
Толя Кудрявцев, тот застенчивый миловидный мальчик из Мытищ, воевал недолго. Я уже о нем говорил.
Наш красавец-каптерщик Гришка Ахрамеев попал на Балтику. Он участвовал в известном налете штурмовиков на немецкие корабли, которые действовали в Нарвском заливе. Это было в июле 1944 года. Тогда большая группа фашистских кораблей, долго досаждавшая флоту, была полностью уничтожена. А через месяц лейтенант Ахрамеев вогнал горящую машину с мертвым стрелком в надстройку немецкого эсминца. Его помнили в части, я был у них в начале шестидесятых годов и видел портрет Ахрамеева на гарнизонной Аллее героев: большое, с крупным зерном, мутноватое фото на фанерном планшете. Гришку легко было узнать: он весело улыбался, летный шлем был сбит на затылок, на груди – два ордена Красной Звезды.
Наш аэродром еще действовал. На нем садились машины местных авиалиний и самолеты сельскохозяйственной авиации. Дощатый домик аэропорта был утыкан антеннами, на шесте вяло шевелился полосатый «колдун» – указатель ветра. На грунтовой полосе кое-где проросла трава.
В бывшем здании авиашколы размещалось управление районной «Сельхозтехники». Из открытых окон я слышал звонки телефонов и перестук пишущих машинок. Перед зданием, в центре маленькой площади, стоял бронзовый бюст на гранитном цоколе. Так через сорок лет я встретился с Валькой Субботиным. Портрет не больно походил на оригинал, но крутой слом бровей и насмешливое выражение упрямого рта были схвачены точно. Если бы я ежедневно ходил на работу мимо памятника, то очень скоро, наверное, поверил бы, что Субботин таким именно и был.
Валька не сделал ни одного боевого вылета на тех машинах, на которые нас готовили. Сразу после авиашколы он переучился на истребителя и уже через год был награжден Звездой Героя Советского Союза. О его подвигах я читал. С газетных полос на меня смотрело знакомое, мрачновато-веселое лицо человека, который, казалось, был занят чем-то своим и вовсе не думал о подвигах и наградах: его взгляд блуждал далеко-далеко... Субботин оказался прирожденным истребителем и в конце войны получил вторую Звезду. В кровавой круговерти военных лет он не получил ни единой царапины, стал летчиком-испытателем и весной сорок седьмого погиб, испытывая новую машину.
По традиции бюст Героя устанавливают на родине. Но кто знал Валькину родину? Детдом – два дощатых барака – сгорел в конце сорок пятого. Пепелище распахали и засеяли ячменем. Бюст установили перед зданием авиашколы, где Субботин учился. И вот теперь он смотрел на меня, сломав бровь и сжав губы тонкого прямого рта.
Из здания «Сельхозтехники» вышел рослый парень, крутя на указательном пальце ключ от машины. Когда он сел за руль новенького «Москвича», я спросил, не подбросит ли он меня до Заборки?
– Заборка? Это немного в стороне... – Он помолчал. – Ладно, садитесь. Сделаю крюк.
Парень оказался словоохотливым. Я узнал, что он работает главным инженером в одном из совхозов; хозяйство у них крепкое, дела идут, недавно женился на учительнице.
– Заборка? – снова спросил парень. – Был как-то, забрели с другом во время охоты. Захудалая деревушка, неперспективная. Да и никогда, говорят, доброй не была... Я не местный, – пояснил он.
Парень долго молчал, потом повернулся ко мне.
– Родина? – спросил он.
Я сказал, что нет, не родина, просто в молодости, сорок лет назад, я прожил в Заборке неделю.
– Вы, наверное, из этих? – спросил он, кивнув в сторону городка, который медленно оседал за косогорами. – Из летчиков? Они иногда приезжают к нам. Мы знаем, что здесь была, авиашкола. Приехал седой полковник, ходит по коридорам, заглядывает в кабинеты, здоровается, а людей, похоже, не видит. Что-то свое, должно быть, видит, а нас не замечает. Вышел на аэродром, увидел этот полосатый сачок на шесте, фуражку снял, морщится, по лицу слезы... Так вы из этих?
Я сказал, что да, учился в авиашколе.
– А вот и Заборка, – весело сказал водитель, показывая на крыши за косогором. – Куда вас подвезти?
– Спасибо, теперь доберусь.
Я угостил парня папиросой, закурил сам и медленно зашагал в сторону деревни.
Куда подвезти? Если бы знать! И снова, как в вагоне утреннего поезда, подходившего к знакомому городку, я ощутил нелепость своей затеи. Старческая блажь и ничего больше! В конце концов, можно было написать, спросить... Спросить что? О ком? Это было страшно. Не только преодолеть несколько шагов до деревни, но и написать даже. Такая прорва времени! Сорок лет. К моим прежним чувствам прибавился стыд. Дорожный чемоданчик показался мне тяжелым, а подарки – убогими.
Я поднялся на поросший травой взгорок и огляделся. Вокруг были все те же поля и луга. За зелеными холмами синел лес, сквозь заросли тальника блестела речушка. Я увидел ветхие тесовые крыши в зеленоватых нашлепках мха. Избы почернели, ворота покосились и рассохлись, сенные сараи и баньки на огородах осели. Окна в некоторых избах были внахлест заколочены горбылями.
Знакомый дом тоже осел. Бревна сруба потемнели, а время, холода и зной порвали срезы венцов. Рябина и березы в палисаднике выросли и теперь застили окна.
С чувством растущей вины, в какой-то безнадежной и отчаянной решимости я толкнул калитку, прошел чистое подворье и поднялся на крыльцо. В сенях, как много лет назад, свежо пахло березовым листом – сушили веники. В избе было полутемно от деревьев за окнами. У посудного шкафа спиной ко мне стояла женщина.
– Сима? – спросила она не оборачиваясь. – Проходи.
Голос был знакомый – тот, девичий. Душу мою полоснуло воспоминанием о давнем и коротком счастье.
Хозяйка мягко закрыла шкаф и пошла мне навстречу, приговаривая на ходу:
– Проходи, проходи...
Голос знакомый, девичий, и движения легкие и тоже знакомые, но стать была другой – статью зрелой, чужой женщины.
Хозяйка остановилась и подняла глаза. Горло у меня перехватило.
– Ты? – спросила она хрипло. – Ты, Сергей? Сережа...
Она улыбалась, с горькой нежностью глядя на меня, а я смотрел на эту пожилую женщину и все сильнее, все отчетливее узнавал в ней робкую девчонку в выгоревшем ситцевом платье с бледными цветами.
– Как давно тебя не было, – сказала она и заплакала, неловко ткнувшись лицом в мое плечо.
С растерянной улыбкой, но без всякой суеты она помогла мне раздеться и принялась накрывать на стол. Мои глаза, наконец, привыкли к полутьме. Та же комната, та же лавка под окном, та же крохотная горенка, в проеме двери – узкая кровать. Правда, на окнах красовались веселенькие занавески, а в избе было много городских вещей: кухонный набор, сверкающие сталью ножи, черпаки, лопатки, дорогие часы... Чьи-то подарки, должно быть. С матицы, как и раньше, свисала ивовая ветка с гнездом ремеза. На счастье! Меня пронзило горечью и застарелой тоской.
– Как же так? – спрашивала она растерянно. – Как же это, Сергей? Сережа... Ведь и поверить страшно! Жизнь-то кончилась... Та, прежняя жизнь кончилась, люди ушли... И вдруг ты, из той жизни... Господи, да что это?
Я сидел, стиснув зубы, слезы текли по моим щекам, и я ничего не мог с собой поделать.
Она опустилась на колени, подняв ко мне заплаканное лицо.
– Я все ждала – хоть весточку, хоть слово какое... И тут Фрося, подруга моя, узнала о своем: убит. А после и Наталье нашей написали про мужа: умер в госпитале. Я боялась думать, что и ты... И ждала, ждала... А когда памятник этот в городе поставили, не то что верить и ждать, вспоминать страшно стало. Фрося говорит: «Уж если и в мирное время они, соколики, гибнут, то как же в огне да в крови выжить». Какие вы молодые были, красивые, живые... Да неужто никто не вернулся?
– Помнишь Пашу? – спросил я, хотя минуту назад и не думал о Богодухове. – Наш отделенный, крупный такой парень. Строгим был командиром.
– Был?
– Да нет, жив он, жив. Похудел только, болеет. Я был у него год назад. Живет на юге, внуков нянчит.
Богодухов встретил меня на маленьком пыльном перроне – бледный после операции, худой. Гражданский пиджачок болтался на нем, как на вешалке. Рукопожатие было слабым, шагал Богодухов медленно и говорил тихо. По двору, усеянному гниющими абрикосами, с криком носились внуки «Так каждое лето, – вздохнул Паша. – Ну да ничего, с ними веселей». Он проводил меня в затененную комнату. «Может, отдохнешь с дороги? Нет? А мне врачи велят отдыхать. Сейчас проглочу свое питье, – он кивнул на пузырьки у изголовья кровати, – и полежу. А ты погуляй покуда». Вечерами мы подолгу сидели под крупными южными звездами, а по утрам, когда горластые внуки еще спали, пили чай в прохладной летней кухне, вспоминали друзей. Лихой комэск сидел в полосатой пижаме, прихлебывал жидкий чай и говорил ровным, слабым голосом. Но, вспомнив боевой эпизод, он загорался. Рука с плотно сжатыми пальцами стремительно лезла вверх, пижама расстегивалась, открывая старческую грудь с седыми волосами, летчик улыбался, глаза его блестели...
– А что, Сережа, тот грустный, худой паренек? Еще играл так душевно.
– Игорь Лосинский. Он погиб в самом конце войны, в берлинском небе... Вы-то как здесь?
– Да и сам, поди, видишь. Деревня совсем обмелела, одни старики... Собирались перевезти нашу ферму на центральную усадьбу, председатель с комиссией приезжал, да что-то не сладилось у них. И хорошо. Куда нам старикам? Куда нас везти? Приросли корнями к земле, да и живые мы еще...
– Ну что ты, что ты...
– Ничего, Сережа, это я так... Живем, работаем, держим дойное стадо. Я хожу за телятами – отъемышами. Да и за кем ходить – стадо небольшое. А на отъемышей поглядишь и жалко их: с первого дня от материнской титьки – долой! Прилипла я тут.
Она долго молчала, разглаживая ладонями скатерть. Слабый румянец схлынул с ее лица.
– Помнишь, какие травы стояли в то лето? – Она посмотрела мне в глаза. – Должен помнить! А после два года кряду – сушь, недород. Ни хлеба, ни кормов. Скотину, какая была, прирезали. С весны на подножный корм переходили. Жили и не знали, сколько у нас трав съедобных. Ребятишки на болоте паслись, молодой камыш дергали... Горькие дни, годы горькие. Да ведь от памяти куда уйдешь! Все там – молодость наша бедовая, лебедовая... Нынче, бывает, поднесу руку к лицу, и кажется, – ладони лебедой пахнут... Хлеб сдадим, а на трудодни – совсем ничего. Стала в город бегать, на хлебозавод. Полдня муку со станции возим, мешки ворочаем, а после на смену остаешься: сухари для фронта делали. В цехе пыльно, лампочки редкие, слепые. Наломаешься – в глазах темно. Смену кончишь – домой. Дождик ли мелкосей, метель ли завируха – все одно бежишь: сын ждет. Придешь, ухватишься за притолоку, а тебя качает. Говоришь себе: больше не пойду. А чуть свет – снова на ногах. Получили на отца похоронку. Мать долго хворала, обезножела и весной тихо померла. Стала я брать сына с собой. Там, в бытовке, кроме него еще четверо пискунов жили. Вот мы с товарками по очереди за ними и смотрели. Забежишь в пересменок, похлебку мальцам сочинишь, пряник бракованный принесешь либо сухарь жженый. Так на армейских сухарях сын и вырос... И вроде бы за тыщу верст от войны, а все горе. Похоронки ни одну избу не обошли – выкосило мужиков. Из деревенских только двое вернулись. Оба увечные: один без ноги, другой – контуженный, израненный весь. Первый-то, который постарше, наладился на новую жизнь, семью в город перевез, устроился в пимокатную артель. А молодой, видать, отойти никак не мог, все куролесил, бражничал, а в крещенские морозы пьяный замерз на дороге... После войны хозяйство трудно становилось, жили бедно. Вот и работали, топили горе и тоску в поту. И я в заверти жила, как все. Недосуг шибко-то горевать – дел по горло. А сердце все одно ноет, щемит, заходится. Не знала, чем за жизнь зацепиться. Сыном вот только и выжила. Все о нем: кусок хлеба, одежонка, обувка. А как в школу пошел – книжки, тетрадки, карандаши... Так и катились, так и летели мои денечки, а я их не замечала. Не жизнь, а морок какой-то. Спеклось все в душе, скипелось. Только иногда, да так живо, что себя не узнаешь, вдруг прошибет: одна ты, одна... Сижу как-то на крылечке. Август, тихо, небо ясное, звезды падают в огород. А мне кажется, что не звезды, а головешки летят на мою крышу. К смерти это – такая у нас примета... Сын школу кончил, приглашают меня на вечер выпускной. Письмецо прислали, вежливое, ласковое. Сын хорошо учился, хоть и ходил за грамотой восемь верст. Пришла. Люди вокруг нарядные, красивые. Получше в те годы жить стали, шире, веселей. Я будто очнулась: вокруг жизнь другая, а я все со своим. И горько мне стало, точно отломилась я от этой новой жизни. Что-то, видать, умирало во мне за эти годы, да так и не народилось. Увидела вдруг, что скупой стала, осторожной, страхи какие-то непонятные. Домой вернулась, в зеркало поглядела – совсем старая. Вот так и жизнь прошла, сгорела... Не у меня одной. Да и о чем разговор! Прожила свое, значит, со мной оно, значит, живо, покуда я живу. А то лето давнее, дни те июньские и вечера помню до минуты, и рассказы твои, словечки...
Она долго молчала, положив руки на стол. На левой – тускло поблескивало бедное узкое колечко.
– А что сын?
– Алеша? Закончил институт, работает землеустроителем. Он в области живет, там у них контора. Семья у него хорошая, жена Нина, дочь Машенька, внучка моя. Зовут к себе, да куда я теперь. Все мое здесь.
Сердце у меня оглушительно стучало, я хотел спросить ее о том, что из догадки превратилось почти в уверенность, но я не мог найти слов и неловко, стыдясь себя, сказал:
– Отчего же не переехать. Полегче все-таки с сыном, повеселей.
– Да, – тускло произнесла она, – повеселей... – И вдруг торопливым, быстрым шепотом: – Ну что ты! Что ты говоришь, Сережа! Уехала бы и не свиделась с тобой и ничего не узнала. Так и оплакивала бы тебя и молодость нашу. Одна у меня жизнь: деревня одна, сын один и бабское счастье одно.
Она поднялась и открыла окно. В комнату ударило запахом вечерних трав и сырых лугов.
– Твой это сын, Сережа.
В вечернем сумраке черты ее лица обострились, оно сделалось жестким, почти незнакомым.
– Мой? – Голос у меня сел, губы дергались, глаза застилало горячей пеленой. Что-то пело и плакало во мне и кричало надсадно, но я только сказал: – Сын! – И снова: – Мой!
Она подошла, обняла меня, прижала голову к груди.
– Боль ты моя сладкая, Сережа. Любовь моя горькая. Седой весь... Что же она с нами сделала, жизнь?
...Кричала в низине какая-то ночная птица, свет луны скользил по стенам, медленно набирал силу, потом начал меркнуть, таять, погас... Я забывался в зыбком полусне, уходил в даль лет с чувством тоски и щемящего, непоправимого одиночества, словно не надеялся на возвращение, но снова возвращался в смутной тревоге и надежде.
За окном серело, с улицы тянуло свежестью. Я поднялся от какого-то властного зова. Мои горькие и мои радостные воспоминания, вина и стыд, мучившие меня, все исчезло. Свежий ток утреннего воздуха обмыл душу, позвал за собой, и тут я вспомнил: сын!
1984








