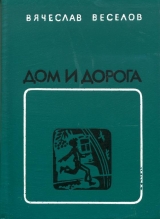
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
– Ты куда, Митя?
– На кудыкины горы.
– Возьми меня с собой.
– Нельзя.
– Мить, а Митя... – В глазах у него стояли слезы. – Как же я без тебя? Нам надо держаться друг друга. Не уходи, Митя.
Тимка вцепился в мой рукав, голос дрожит, глаза набухли слезами. Ему немного надо, чтобы разреветься. Еле от него оторвался.
– Ми-тя-а...
Он бежал, глотал студеный воздух и все оглядывался, точно ждал погони. От быстрого бега спирало грудь и кололо в боку. Он остановился. В горле у него першило.
Ну, чего гнать, в самом деле! Когда они еще хватятся? Да если бы и тотчас хватились – где искать? Конечно, лучше бы лесом уходить, только лес был в другой стороне от дома. Но и стоять вот так одному посреди поля тоже не годилось. Очень ясно, будто со стороны, будто при ясном свете, увидел он, как стоит один среди пустых полей.
Ему бы отдышаться, отойти, а он снова бежал – обида и страх гнали его. Правда, он теперь не бежал, а шагал вприбежку, переходил с бега на шаг и старался не оглядываться.
Когда он наконец оглянулся, монастырь по-прежнему был рядом. Беглец с маху сел на землю и разревелся.
Сквозь слезы он, глядел на покинутый детдом и заставлял себя рассуждать спокойно. Все-таки он ушел далеко, монастырь теперь смотрелся темной горой – и уже нельзя было различить, где там башни или ворота. Над этой горой висели тяжелые грязные облака.
Пошли холмы, и монастырь пропал из виду.
Солнце скрылось. Из-за низких облаков на землю сочился холодный синеватый снег. Беглец остановился на мосту через ручей. Это был горбатый мостик с перильцами – такой маленький, уютный. Парни с девками, наверное, часто останавливались здесь поболтать. Где-то рядом была деревня: он видел сырые, осевшие стога, в березняке стучала телега и фыркала лошадь. Деревня была рядом, но ему не хотелось видеть людей. Он не ждал от них ни жалости, ни помощи. Да и чем они могли ему помочь? Доберется сюда кто-нибудь из преподавателей, а ему скажут: «Видели тут одного вашего...»
Свет меркнул, поднимался ветер, темные облака низко бежали над холмами. Молодой березняк, в котором стучала телега и фыркала лошадь, поначалу казался таким веселым, а теперь уже угрюмо темнел за спиной, а потом и вовсе пропал.
Справа беглец видел деревни, темные избы по буграм, но старался держаться дальше от жилья. Над ним носились какие-то птицы, но их едва было видно в сумеречном свете.
Шаги гулко отдавались в стылом воздухе. Это было странно. Там, у них, дни стояли сырые, была мокреть, а здесь под ногами звенела мерзлая земля. А ведь он вроде недалеко ушел.
Из-за облаков выкатилась луна, и земля сразу потемнела. Лишь тускло блестела под луной схваченная первыми заморозками трава.
Дорога с увала спустилась в лесок. Он был совсем редкий, и беглец не боялся заблудиться, но все-таки незаметно прибавил шаг. Он торопливо шагал сквозь лес, а луна, которая поднималась все выше и выше, теперь мелькала среди голых сучьев. На ходу он сорвал горсть ягод: они были холодные и горькие.
Лес кончился. Беглец поднялся на холм и снова оказался один в чистом поле – ни человека, ни жилья. Один, совсем один живой. Все вокруг было стылое, мертвое – седая, матово отсвечивающая трава, черные комья грязи, зеркально блестевшая вода в бочажках. Справа в темноте угадывалась деревня, там вроде бы даже мелькали огоньки – слабые, неуловимые. На вершине холма темнела большая мельница.
Он старался не вспоминать про училище, но и про свой холодный заколоченный дом тоже не хотелось думать. В монастырской келье он сейчас лежал бы под одеялом, а утром был бы горячий грушевый чай. Когда беглец видел деревенские огни, ему становилось веселей, но он все равно обходил их стороной. Там у людей была своя жизнь, не до него им было – взрослым, строгим, озабоченным, мрачноватым. Он вспомнил, как нехотя отдавали ему «должок» – сало и деньги. Небось одеяла у Каныги брали легко, не спрашивали, откуда они, говорили «сочтемся»...
Он долго шел низиной среди холмов и не заметил, как сбился с дороги. Если бы примета была верная, он бы не заплутал. Но приметы не было. Знал он лишь одно – в какой стороне дом.
Поднявшись на увалы, беглец совсем рядом увидел мельницу. Выходит, он начал кружить. Тут в самую пору было разреветься. Внизу лежала большая деревня, ее огоньки мигали светло и приветливо, а здесь на холме было холодно и ветрено. Он завидовал людям в теплых избах, но ненавидел их и боялся.
Логом шагалось легче, только он решил не спускаться: надо было держать направление. А так опять начнешь кружить ненароком. Ныряя по увалам и стараясь не выпускать из виду огни, беглец миновал еще две деревни. Последняя, совсем маленькая деревушка, так неожиданно вынырнула из темноты, что он отпрянул – пахнуло дымом, навозом, жильем.
А потом снова стало темно и пусто – ни людей, ни жилья. Но обида на людей у него прошла и страха не было. Сначала во тьме проклюнулся одинокий слабый огонек. А после пошли другие огни, тоже слабые, мутноватые, далекие. Они согревали беглеца, он жался к ним, и шагалось ему веселей.
Узкая ложбина незаметно перешла в глубокий овраг, склоны которого густо поросли тальником. Он старался идти краем оврага, чтобы не терять из виду огни. Но они все равно пропали. И тут овраг все круче стал забирать в сторону. Наверное, это была старица, сухое русло какой-то речушки.
Беглец продрался сквозь кусты тальника и осторожно ступил на дно оврага. Под ногами был лед. Он сделал шаг, и его обдало тиной. Попытался вырвать ногу из грязи, не устоял и упал грудью в ледяное крошево. Вправо, влево он ступал, все одно проваливался, в лицо летела грязь и било резкой болотной вонью. Он задыхался, цеплялся руками за кусты и снова проваливался в вонючую илистую воду.
Наконец он выбрался, сел на землю, привалившись грудью к глинистому откосу, и разревелся от беспомощности, холода, страха. Со дна оврага даже луну не было видно. Он сидел неподвижно, слезы текли по грязному лицу, и он ничего не мог с ними поделать.
Поднявшись наверх, он громко сказал: «Ладно!», – но услышал какой-то хрип, совсем чужой голос и не узнал себя. Наверху одежду сразу схватило ветром. Мальчик спрятал окоченевшие руки на груди, втянул голову в плечи и так пошел. А огней все не было, и луны тоже не было, и он снова был совсем один.
Потом ему вдруг сделалось тепло. Он уже не обижался на людей, которые погасили свои огни. Душа его оттаяла, он теперь любил всех, даже Викентия Львовича. Каково тому было ходить под дождем по деревням и искать одеяла? Он жалел старого воспитателя, потому что тот был весь какой-то неухоженый, пиджак у него был старый, галстук засаленный. Когда Викентий Львович волновался, то его красный кадык так и ходил на длинной худой шее. А Тимка славный. Он, должно быть, сейчас думает о нем. И Людмила Егоровна думает. Огоньков нет, и все равно тепло. И дом где-то рядом. А парни хоть и смеялись, но не обижали. И Чеботарь не обижался. Никто не обижался. А он ошибался. То есть он обещался. То есть, обижался... Мысли его мешались. Теперь он старался вспомнить, как звали кобылу, за которой ходил Василий Наполеоныч. У ней еще такое бельмо на глазу. Когда возили капусту, кобыла все время тянула в сторону.
Стало совсем тепло, только ноги не слушались, и очень хотелось спать. Внезапно он обнаружил, что стоит на коленях. Ему куда-то надо было идти, он это хорошо помнил, но не знал, куда. Колени у него были холодные, а руки в грязи. Он поднялся и увидел огни. Они качались, плыли и вдруг исчезли, точно провалились.
Когда он очнулся, перед ним дрожал одинокий слабый огонек, а других огней не было. Он снова упал на колени. Огонек был совсем рядом, дрожал, мигал, качался. И земля качалась и плыла, и как ногу не поставишь – все не так.
А свет был уже совсем рядом. Он тянулся к нему и никак не мог достать, потом услышал, как скребет ногтями по стеклу, хочет ударить в стекло, а оно уходит из-под руки, и глазам больно от света. И тогда он услышал:
– Мы уже и спать собрались, а тут стекло звякнуло. Глянула в окошко – поздний человек.
Говорила, должно быть, хозяйка: я ее не видел. Гостья в потертой шушунке сидела у стола. Зашла на минутку. Она даже шаль не сняла.
Я лежал на лавке, укрытый тяжелым ватным одеялом. Моя выстиранная одежда сушилась у печки. Я плохо помнил, как добрался сюда. Был какой-то одинокий огонек, я все шел и шел на него, он то пропадал, то вновь появлялся, я шел, разговаривал с собой, заговаривался, а потом – резкий свет, керосиновая вонь, запах жилья, чьи-то лица надо мной, какие-то люди... Помню, я все порывался им что-то сказать, объяснить, но язык меня не слушался. Правда, в речах моих и надобности не было, потому что меня не спрашивали: «Чей ты?» и «Куда идешь?»
Незаметно я уснул, а когда открыл глаза, увидел хозяйку. Это была старая женщина, не старуха, а просто старый, изношенный в работе человек. Ветхая, но чистая аккуратная фуфаечка ладно сидела на ней. Женщина ходила по избе, легко ступая маленькими сухими ногами.
Вечером пришел хозяин. Громко ругаясь и проклиная кого-то, в избу ввалился осадистый старик с румяным лицом и крепкой, по-молодому открытой шеей.
– Оклемался? – Старик положил холодную ладонь на мой лоб и нахмурился. – Выпьешь малинового отвару – и на печь, голышом, на камешки, под тулуп. И отойдешь. Ну, пристыл, застудился малость. Это, брат не хворь, а хворушка. Звать-то как?
Я назвал себя.
– Митрий? Тезка мой, поименник. Ну, лежи, лежи.
Лицо старика затуманилось, качнулось, ушло. Я слышал только его голос – бодрый, веселый.
Проснулся я среди ночи. Пахло овчиной, и нестерпимо жгло бок. Я лег на спину и проглотил слюну. Она была сладкой. Стало быть, и малиной напоили.
В красном углу перед иконой теплилась лампадка. В избе было тихо. За окном скрипел плетень, слабо ныл и скребся ветер, а то вдруг начинал надсадно дуть и стучать в стекло редкими дождевыми каплями.
Проснулся я разбитый и слабый, но голова была ясной, какой-то даже холодок во мне был – чистый, морозный. Я теперь все видел отчетливо, ясно,все помнил и понимал. Хозяйка стояла, сложив руки на животе, и смотрела на меня.
– Живой, милок? Ну, слава богу. Кричал ты ночью, шибко кричал и все тулуп норовил сбросить. Мокрый был, как мышь, а теперь вот и глаза ясные, и краска в лице. Поел бы ты, Митя.
Я попросил пить.
Хозяйка подала на печь кружку молока.
– Ты не торопись, сынок. Ты помаленьку. Холодное оно.
Я пил молоко маленькими глотками и силы медленно возвращались ко мне. На столе лежали крупные ломти серого хлеба и отварная картошка. Я увидел парной излом крупной и рыхлой желтоватой картофелины и почувствовал голод.
Одежда моя была выглажена и аккуратной стопкой сложена на лавке. Я оделся и сел к столу. Хозяйка молча смотрела, как я ем.
Печь давно протопилась. Я сидел, прижавшись спиной к остывающим камням, и скоро задремал.
– Поспи, Митя, поспи. Там хорошо сейчас, на печи-то. А здесь поддувает.
Вечером в избе появился высокий парень в черной флотской шинели с пустым рукавом, заправленным под ремень.
– Макарыч? – Моряк оглядел избу. – Где ты? Нет хозяина?
– Заходи, Проша, – сказала хозяйка. – Тут председатель сказывал, что военком вернул нам двух лошадей. Вот Макарыч и полетел. Мол, успеть надо, а то наших коней другие заберут. Сгребся и полетел в город. Ты проходи, Проша.
Моряк снял шапку, хмуро посмотрел на меня. Мне показалось, что он выпивши. Я следил, как моряк ходит по избе в своей черной шинели и молчит.
– Ты раздевайся. Я щи разогрею, похлебаете с Митей, пока суд да дело. Тут и Макарыч вернется.
– А-а, – сказал моряк, – щи... Ну, что ты, старуха! – Он повернулся ко мне. – И ты малый! Что смотришь? Загулял Прошка? Да так, слава одна, запашок только. – Он вытащил из кармана бутылку. – А вот мы ее сейчас. Совсем другой коленкор получится. А, малый?
Хозяйка печально смотрела на моряка.
– Давай, Карповна, стакан.
– Не пил бы ты, Проша. Довольно, поди.
– Брось, старуха. Ты же знаешь, я ее раньше в рот не брал. Было – прошло. – Моряк налил себе, выпил, помотал головой. – У-у, злая! А вот выпьешь – и легко тебе, тепло, точно парной туман над водой, точно ты в этом тумане... И не помнишь ничего.
Он достал кисет, хотел сделать самокрутку, но качнулся на табурете, рассыпал махорку, зло смахнул ее на пол и снова налил. Хозяйка принесла на тарелке огурец. Моряк откусил, пожевал, вытер рот рукавом.
– Где Макарыч? – Он огляделся. – Ага, нету. Нету Макарыча. Он все говорит: айда к нам. А куда я в мастерскую, култыга такой? – Моряк засопел. – Во сне ее вижу, руку-то. Чую, как пальцы шевелятся, как девке плечо мнешь... А то приснится: на корабле канат тянем. Вцепишься в манильский трос – не оторвать! Меня всегда первым номером ставили... Выпьем, Карповна?
– Оставь до случая, Проша. А сейчас иди домой. Трезвым ветром тебя продует, и ты хороший будешь. А после приходи. Даст бог, Макарыч возвратится.
Моряк нахлобучил шапку, сунул бутылку в карман и вышел.
– Вишь, осерчал. – Хозяйка вздохнула. – Это он на себя осерчал: не покурил. Поперва-то мой старик ему цигарку крутил, а теперь он их сам ловко ладит. Не вышло. Все сам, все сам. Не хочет, чтобы пособляли, характер держит... Это верно, он не пил. Весь в отца был: ни яду-табаку, ни зелень-вина. Теперь плохо с ним. Другой выпил, забылся. А у Прошки нехорошо, хмель до него не доходит. Все со своим, все одно в голове. Ни веселья, ни лада на душе. Такому пить – горе. Зашла тут к нему, он один сумерничает. К свету стал, вижу – слезы. Вижу, не по-пьяному делу слезами умывается, тверезый. Страшно мне стало. Это же горе человеческое! К кому голову приклонить? Отец у него без вести пропал, мать прошлой осенью схоронили. А в деревне кто остался? Бабы с мелкотой по лавкам да мужики увечные, хворь одна. Сирый да вдовый, малый да старый.
Она собрала рассыпанную махорку, села рядом со мной.
– Ты не обижайся на него, Митя. Он себя не помнит. Наговорит, накричит, а после виноватится, глаза не кажет. Верю, выправится он и на верную путь станет, женится еще, детей поднимет... Я ведь его вот эконького помню... Жил Прошка недоростком, ледащий. Вихры торчат, ножонки тонкие. Ну, точно телок сухоногий. А после пошел, пошел. Краска на лице, волос потемнел, чуб богатый, глаза веселые. Ходил в школу крестьянской молодежи. Заглянешь к ним вечером, он сидит с книжкой, читает отцу с матерью и объясняет складно. Работал Прошка в охотку, девки наши на него заглядывались. Гладкий да ладный, да веселый. Мужики говорили: одна дорога ему – на флот. Так оно и вышло. Приехал в отпуск с теплого моря – весь в белом, воротник голубой, якоря золотые. Грамоту командир прислал старикам, она и сейчас у них в избе, под стеклом... Помню, гулял Прошка по деревне – сильный, красивый. Думал, верно, никакая поруха его не возьмет. А жизнь-то вишь как ломает. Вот и посуди, Митя. Человек только свет увидел, жизнь ладом пошла, а война-то эта проклятущая все отняла: и отца, и друзей, и здоровье. Он еще не привык так. Другой-то, может, и обтерпелся бы, а этот ведь в одночасье все потерял. И чуб у него нынче седой, и глаза другие, тяжелые глаза... Это же сокрушение, Митя, беда, горе человеческое.
Внезапно она замолчала, прислушалась. Хозяин уже кричал на дворе громким и бодрым голосом, почти весело. Через минуту он ввалился в избу, бросил под лавку хомут, внимательно посмотрел на меня.
– Садись к столу, вечерять будем.
Он быстро поел, скрутил цигарку.
– Дело сладил, лошадей пригнали, да только цельный день убили с председателем. А день-то нынче с воробьиный скок. Вот еще роботенка подвалила.
Он достал из-под лавки хомут.
– Ну, это кому-нибудь в работу, а мне в утеху. У меня и отец и дед по шорному делу мастеровали. – Он улыбнулся. – А я, видишь, механиком заделался... Из машин, Митька, остался у нас только старый «Фордзон». Одно железо – больше ничего. Эх, был бы материал подходящий да инструмент. А то ведь одного нет, другого. Втулочку бы сделать, да где бронзу взять. Да и как ее выточишь? Схожу в МТС. Там у них станок есть да и металлом можно разжиться. Сказывают, довоенный запасец еще остался.
Такими вот и запомнились первые дни: тяжелое просыпание, слабость, день в избе, ожидание хозяина. Являлся он поздно, хозяйка ругалась, а он говорил:
– Да ведь нынче все от темного до темного робят, все в заверти живут.
Дмитрий Макарыч ужинал, ставил лампу на припечку, доставал смолу, суровые нитки, садился на лавку и принимался сучить дратву. Водит смолой по суровой нитке, хмурится, а после разойдется, натянутая нить поет...
Иногда приходил моряк.
– Пособляй, Прошка! – весело говорил хозяин.
Моряк брал кусок сыромятной кожи и шило, прижимал сыромять коленом к лавке и начинал дырявить. Потом вдруг бросал работу, сворачивал цигарку, курил и молчал тяжело.
Тепло остывающей печи обдавало меня ласковыми волнами, слабо звенел в лампе выгорающий керосин, сухо потрескивали доски полатей, трюкал в запечье сверчок и тихо скребся за окном ветер. Голова моя тяжелела, я незаметно засыпал.
Однажды хозяйка спросила:
– Худо, милок, на чужой стороне?
– Я скоро уйду.
– Господь с тобой, Митя! – Она в испуге закрыла рот сухонькой ладошкой, на глаза у нее навернулись слезы. – Не о том я, сынок, не о том...
Я не стал ничего скрывать, поведал ей свою историю, но сказал, что в училище не вернусь. Теперь хозяйка, видать, боялась меня утешать, лишь вздыхала и качала головой.
– Знаю я, милок, безотцовщину, знаю...
Скоро я справлял по дому мелкую работу, ходил за водой, колол дрова, собирал хворост в ближнем леске. Правда, таскать вязанки Дмитрий Макарыч мне не разрешал.
– Слабый ты еще. Вот сделаю из слег волокушу, оно половчей будет.
Когда начинало смеркаться, он находил меня в леске. На волокуше мы вдвоем могли притащить в деревню пять-шесть вязанок хвороста. До дому доносили пару вязанок, а то и вовсе возвращались пустыми.
– Вот здесь солдатка с ребятишками, – говорил он. – Как не помочь.
Мы сваливали хворост у ворот. Дмитрий Макарыч кивал на соседнюю избу.
– Эти тоже без хозяина... Ну да кто нынче в спокое и радости живет? Здесь холодно, бедно, там немец лютует.
Мы тащили волокушу по мерзлой земле, а он рассказывал:.
– Поперва-то у нас нескладица получалась; Незадачливое хозяйство, трудно колхоз становился. То недород, то обратно – урожай хороший снимем, а дело все одно не ладится: с молотьбой до заморозков не можем управиться. Как вспомню нынче те мерзлые снопы, сердце заходится. Скотина дохла. Щи наваристые, Митька, мы только во сне видели... А после председатель добрый пришел, годы урожайные выдались, скотный двор под железо подвели, машины появились. Дело пошло на лад, люди повеселели, а тут война...
Однажды вечером зашел моряк. Он был пьянее обычного: вертел белками и смотрел дико.
– Сирый, говорит, сиротина... Язва, а не человек! – Моряк стоял посреди избы. – Меня не в дровах нашли! – закричал он, багровея. – Сиротина! У меня батя воюет... А, что? Без вести пропавший? Это кто? Это писарь сочинил! Там круговерть! У нас Мишку Стенина тоже в мертвецы записали. Без вести пропал! А какие вести из воды, из котла, море кипит... Ну, ну... погоревали, помянули Мишу. А он в морской пехоте воюет! Без вести... Мало ли что! Окружение? Из окружения выйти можно. Вышел, прибился к партизанам...
Хозяйка подбежала к моряку.
– Ну что ты, Проша! Не тоже так. Присядь. Охолонь, сынок.
Моряк сидел на табурете, стиснув зубы и качая головой.
– На флаг и гюйс равняйсь! – вдруг крикнул он и оглядел нас. – Корабль к бою изготовить! Противник – слева сорок. – Моряк ухватился за столешницу, забормотал: – Левым бортом... главного калибра... на ходу... – Он резко поднял голову, сказал: «Стоп, машина!» – и с хрипом повалился.
Мы подхватили его и перенесли на лавку. Моряк лежал на спине и дышал ровно, но горькая кривая гримаса так и осталась на его лице.
– Ты ему на пол постели, – сказал хозяин. – Он все одно там будет.
– Они еще днем заходили.
– Кто они?
– Приехал тут один, то ли агент по налогам, то ли из госстраха. Тоже, сказывали, моряк. Прохор-то все больше бражку попивал, а этот из госстраху выставил белую головку. И сморило Прошку с городского-то питья.
– Ладно, мать, стели ему.
– Он отойдет, откуролесит, перестанет дурить... Он с умом.
– Ум есть – руки нет, – мрачно сказал хозяин.
– Но культя-то есть, а к ней можно протез приладить. С ним и жить и работать можно. Ну, однорукий – какой же это инвалид. У нас в колхозе, Митя, счетовод давно без руки: на пожаре бревном отдавило. Неловкий вроде мужичонка да культяпый, а любо поглядеть, как он своих пискунов тетешкает. Женился и детей народил, и все добрые ребятишки. Вот и Прошка на ходу будет, и своих детей поднимет.
– Ты пойми, Митрий, – сказал хозяин, – не обвыкся он еще. Тяжко ему с нами сидеть да в старый хомут иглой тыкать.
Оба они почему-то обращались ко мне, и мне стало стыдно.
Теперь мы с Дмитрием Макарычем не ходили в лес: он целыми днями пропадал в кузнице.
Сидим как-то с хозяйкой, с делами управились, в чугунке лапша томится, а Дмитрия Макарыча все нет.
– Сбегал бы ты, милок, в кузню, – сказала хозяйка. – Чего он там, заночевать решил?
В кузнице было полутемно, угарно пахло угольной гарью. В горне под пеплом еще не потух жар. Я огляделся: верстак, ящик с песком, бочка с водой, мятое ведро с машинным маслом.
Дмитрий Макарыч перебирал железо на верстаке.
– Гришка! – кричал он. – Старый дурак! Тут были два бруска хорошего металлу. Где они?
Гришка Шохин, мужик лет шестидесяти, стоял с щипцами в руках и молчал.
– Шебалда! – не унимался хозяин. – Пута волосяная! Я их в тряпицу завернул. Ведь сказано было: прибери!
Он увидел меня.
– А Митрий... Раздуй-ка огонь.
Я взялся за сухой и гладкий деревянный рычаг и принялся качать мехи.
– Погоди. Сперва угольку принеси.
Я выбежал за углем и в дверях столкнулся с моряком. Он пропустил меня и молча прошел в кузницу.
– Добро, – говорил Дмитрий Макарыч, оглядывая нас, – послал бог работников. Становись, Прошка, к мехам.
Я высыпал на кирпичный под уголь, моряк стал качать мехи. Дмитрий Макарыч смотрел, как он работает.
– Хорошо, Прошка, только не рви, ровней качай.
Уголь начал парить, окутался дымком, сквозь него пробивались синеватые язычки огня, и скоро уголь занялся ярким пламенем. В кузнице стало светло.
– Осаживай! – крикнул Шохин, ударяя по углю щипцами. Он протянул мне щипцы. – Осаживай уголек.
– Вот они, родимые! – Дмитрий Макарыч сидел на куче лома и разглядывал металлические бруски. – Теперь за дело.
Он забрал у меня щипцы, разворошил жар, сунул туда деталь, которую ему подал Шохин, а за ней – брусок.
– Качай, Проша, качай.
Металл раскалился. Дмитрий Макарыч выхватил из жара деталь, приложил к ней брусок.
– Гришка! – крикнул он. – Держи его на проплешине, прижимай!
Дмитрий Макарыч хищно прищурился и ударил по бруску молотком.
– Прижми, Гриша, прижми...
Он еще несколько раз ударил и перевернул деталь.
– Схватилась! Ах ты, черт! Схватилась. Говорил же, все дело в металле.
Он принялся мягко и часто обивать деталь, снял ее с наковальни, бросил в ведро с маслом. Выхватил, оглядел, снова швырнул в ведро.
– Схватилась! Теперь послужит. Куда ей деться. – Дмитрий Макарыч оглядел нас. Мы стояли рядом с Шохиным, моряк вытирал пот со лба флотской шапкой. – Что делать будем? Председатель тут про скобы говорил. Дело пошло, так, может, и скобы сладим?
Он выбрал из кучи лома несколько прутьев, отдал их Шохину.
– Руби их, курицын сын! – сказал он весело. – Митя, сыпни угольку. Проша, к мехам.
Шохин нарубил заготовок, раскалил их. Он выхватывал прутья из жара, бросал на наковальню. Дмитрий Макарыч бил по ним молотком, и не бил даже, а мял податливый металл, швырял поковки на земляной пол, и они сразу подергивались синеватым налетом. В кузнице стоял сладковатый запах окалины. А мой хозяин уже обивал другой прут, и новая скоба летела на пол. Он разошелся, торопил нас, кричал, смеялся. Скоро на полу лежала гора синеватых скоб.
И вдруг стало тихо. Жар в горне остывал, покрывался сизой пленкой и белесым рыхлым пеплом. Все молчали. Дмитрий Макарыч тоже молчал, стоял и медленно огребал щипцами шлак в горне.
Мы вышли из кузницы. Шохин помял шапчонку, сказал: «Покуда», – и скрылся в темноте. Скоро и моряк стал прощаться.
– Ты куда, Прохор? Айда ко мне, закусим чем бог послал.
– Нет, Макарыч. Я домой.
– Брось, Проша. Хозяйка ждет. Заходи, посидим.
– Ладно. – Моряк швырнул цигарку и зашагал. – Буду! – крикнул он на ходу.
– Ему сейчас выпить надо, – сказал я. – Он выпить пошел.
– Ох, Митька, – едко сказал хозяин. – Зелень глупая! Ему помыться надо. Намахался у мехов, взопрел с непривычки. Как ему свою культю при чужих мыть, не привык он еще... Не торопись, Митрий, говорить о человеке в худую сторону. Ну что ты про человека сказать можешь, ежли ты с ним в работе не был. По делу мужика надо судить, а не по дури, привередам его... Все в труде, Митя.
– Шохин вот работает, а толку-то!
– Да ведь он что видел, кроме своих лошадей. А тут железо. Но Гришка старается, хоть и весь вышел. А другой в силе мужик, но работает спрохвала. И живет потому кое-как. Нет, все от труда. Иной скажет: «Сколько ни работай, а все трудно живем, бедно...» Оно понятно: устанет человек, изработается, с лица спадет, душа в нем заболит... Да ведь как ее бросить, работу-то? Нет, ты ее не бросай! Ты сделай ее душевной заботой. Да, так! Трудом человек одолевает и тоску, и все худое в себе. А в нас, Митька, много барахла. Но ты его трудом изведи! Как бывает: невидный мужичонка, михрютка, и характер не мед, а работает, добрые вещи делает и превышает себя в труде. После оглянется: как же он этакое сотворил? И подумать даже не смел, а вот сотворил. И сам лучше, чище становится. Негромкий человек, а чистый. Это, Митя, как на покосе. Отрадное дело! Намаешься, бывало, за день... А дни-то какие в покос! Зной, облака пухлые, мгла парная из-за речки ползет, цветы все в силе, трава-дурман дурит... И вот ты намаешься – легкий, чистый, как из бани. В теле пусто, а душа поет. И засыпаешь счастливый... Нет, Митька, ты еще не работал. А вот поработаешь, и себя в деле узнаешь, и других научишься уважать.
Мы долго не садились за стол – ждали моряка. Хозяин искал себе дело, выходил из избы, гремел в сенях, ругаясь что-то искал под лавкой и говорил жене:
– Погоди, старуха! Не колотись. Сейчас Прошка придет.
А я не верил, что тот придет, и злился на него. Но он пришел. Моряк как-то тихо и незаметно появился в избе и начал молча раздеваться. Он и впрямь умывался: волосы у него были влажные.
Ел моряк неохотно, но выпил несколько кружек чая с калиной. Он раскраснелся, пот лил по его лицу. Он вытирал его маленьким вышитым платочком и заметно стеснялся.
– Слабость, – сказал он, пряча глаза.
– Ничего, Проша. – Хозяйка подала ему полотенце. – Это бывает. Поработал в охотку.
Моряк ловко скрутил цигарку, закурил. Дмитрий Макарыч все расспрашивал Прохора о службе, о Черном море, хозяйка просила: «Расскажи...» Незаметно они его разговорили. Моряк курил и рассказывал о заграничном походе. Похоже, это было самое дорогое воспоминание.
– В Средиземном море наша эскадра встретилась с британцем. День, помню, был серый, ветерок свежий... Они шли полным ходом, дым до небес – крейсер и эсминцы. И тут команда: «Орудия к салюту!» Это такой обычай на море: встретил чужой флот, салютуй ему, флаг ихний поднимай и гимн ему играй. Так заведено. И вот мы шли им навстречу, и ход у нас был хороший, и мы по правому борту стояли «смирно». Дрогнул наш корабль, отгремели залпы, а над головами у нас стрелял на ветру чужой флаг. И тут наши музыканты рванули ихний гимн. Солнце выглянуло из-за туч, они были совсем рядом и у них на гафеле бился наш флаг. Мы стояли «смирно», командиры – рука к виску, а мимо летела серая стальная стена, а там в строю застыли британцы. И вдруг они всей своей медью ударили «Интернационал»... И вот веришь, нет, как ножом по сердцу эта музыка, слезы на глазах – то ли от ветра, то ли от меди, а сам ты стоишь, замер, и уже другой ты, точно ростом прибавился, сильней ты и выше, не лапотник, не сермяга серая. А машина стучит, а медь ревет, ветер в снастях, солнце бьет в глаза...
Землю все подмораживало, дни стояли ясные, морозные, но снег не падал. Весело мне работалось в лесу, хотя я теперь один махал топориком: хозяин целыми днями пропадал в кузнице.
– До октябрьских надо управиться, – говорил он. – А ты, Митька, и сам знаешь, кому дров наготовить. Солдаткам – в первую голову.
А потом и праздник пришел. Проснулся я в тот день поздно. Печь уже протопилась, и печное устье было забрано заслонкой. В избе стояло сияние выпавшего за ночь снега. В кухне было прибрано и плавал запах свежего хлеба. На чистой посудной лавке стояли свежие ковриги, покрытые холстиной. От них тек сытный и теплый дух.
– Хлебы нынче на славу, – весело сказала хозяйка. – К праздничку.
Она показывала мне ковригу, любовалась ею. Я видел то рваный широкий ноздреватый бок, то красновато-коричневую верхнюю корку, то всю в белесой подовой золе, с темными угольками нижнюю корку.
Из двери рвануло холодом – вошел Дмитрий Макарыч.
– Ну, Дмитрий, горазд же ты спать. – От хозяина пахло морозом, весельем, здоровьем. – Полежи, полежи... Праздник нынче.
Я выбежал во двор. Глазам было больно от свежего снега. Я глотал ледяной воздух и слышал тонкий, едва различимый яблочный запах. Все вокруг была холодным, чистым, резким. Я умылся колодезной водой, чувствуя здоровье и легкость в теле.
Как хорошо было с мороза вернуться в тепло и запахи кухни! За столом, покрытым чистой скатеркой, сидел хозяин в новой рубахе, причесанный и побритый. На сковороде потрескивала яичница с салом, стояли соленые грибы, огурцы в смородиновом листе, банка густого варенья из калины. Пахло чаем.
Из тяжелого графина зеленого стекла хозяин налил мне розоватой браги.
– Как, Митрий? Глотнешь зелья? Капельку ради праздника, а? Не будешь? Ну, добро, добро... Завтракай. А я причащусь.
Шерстяные носки, которые связала мне хозяйка, приятно покалывали кожу. И вдруг сердце мое упало. Этот свет, тепло, свежая скатерть, томительный хлебный дух, крепкий аромат свежезаваренного чая и даже солнце из окон – все это было как упрек. Я вспомнил пропитанные сыростью кельи, полутемные переходы, стены в подтеках, тяжелые сводчатые потолки. Мысли мои мешались. Я то вспоминал старые свои обиды, то старался справиться с охватившим меня беспокойством. Я испытывал стыд, словно за мое тепло и уют сейчас расплачивались другие. Ясно, точно наяву, я увидел, как, поеживаясь от холода, ребята входят в дымную трапезную. Увидел их всех – и Тимку, и молчаливых ленинградских мальчишек...








