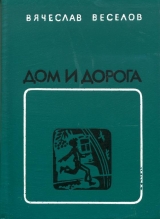
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
С улицы донесся звон трамвая. Резкая короткая трель прорезала тишину и растаяла.
Бронзовый колокольчик, всегда старательно начищенный, со славянской вязью по краю и тяжелым литым язычком, начинал долгий школьный день, звал нас с улицы в класс, или, наоборот, в напряженной и тягостной тишине, когда взгляд учителя скользил по строчкам журнала в поисках очередной жертвы, его голос раздавался в гулких коридорах и дарил нам освобождение.
Хозяйкой колокольчика была неопределенных лет востроносая женщина с птичьим профилем и с гладко зачесанными, стянутыми к затылку темными волосами. Звали ее Сусанна. С библейским этим именем связано представление о пышности, быть может, даже некоторой монументальности форм, а перед нами мелькала худенькая, очень живая женщина. «Чисто ящерка», – говаривал завхоз. Утром она встречала нас в пустом коридоре, потом заглядывала в класс, долго стояла в дверях, молча смотрела и наконец спрашивала: «Дежурный есть? Чернила брать будете?»
Муж Сусанны погиб на фронте, детей у нее не было – вот все, что мы знали о ней. Жила она здесь же, в школе, в тесной комнатушке полуподвального этажа. Мы как-то заглянули туда с Юркой Ореховым. Половину комнаты занимала плита, на полу лежали домотканые дорожки, стоял сундук, покрытый ковриком, у окна примостился шаткий столик. Клеенка на нем блестела. Единственное окно было тесно заставлено геранью, над кроватью, застеленной одеялом из цветных лоскутков, висел портрет молодого мужчины. Это был мутноватый, неумело раскрашенный портрет.
Перед нашим выпуском в школе появился электрический звонок. Мы не реагировали на его пронзительный механический голос – не могли или не хотели привыкнуть. Сусанна должна была снова выходить на улицу со своим колокольчиком. Она топталась на заднем крыльце, а мы гуськом бежали из уборной, откуда клубами валил табачный дым. Сусанна сокрушалась, качала маленькой аккуратной головкой и приговаривала: «Табакуры, вредители, бросьте себя травить».
Помню, как ей вручали орден. Она стояла перед всей школой в темном пиджачке, чуть ей великоватом, бледная от волнения, и не знала, куда девать руки.
Сусанна не пропускала встречи выпускников, приходила загодя, занимала место в углу и оттуда следила за дверью, наблюдала, как постепенно заполняется зал. Она знала нас в лицо и поименно – каждого, всех. На первые встречи народу собиралось много, мы приходили целыми классами. Пуповина, которая связывала нас со школой, была еще цела. В зале гремела радиола, кружили пары, мы болтали, разбившись на группы, а рядом были наши подружки – уже медички, уже филологички и, боже мой, уже жены и матери наших детей. На одну такую встречу пришел Алик Ракитин. Он был в городе проездом и в тот же вечер уезжал. Щурясь от яркого света, Ракитин остановился в дверях, высокий, в черной флотской шинели с лейтенантскими погонами. Его узнали, ему кричали со всех сторон, а он глядел поверх нас, кого-то искал глазами и наконец двинул через зал, не сняв шинели и держа в руке перчатки и фуражку с «крабом». Он как-то очень долго шел через зал, а учителя, стоявшие сомкнутой группой, улыбались покровительственно, довольные и гордые, что вот и Ракитин приехал, такой ладный, красивый и такая умница. А он все шел и шел, и тут мы заметили, что идет он к Сусанне, и она это заметила и вдруг обнаружила, что стоит в углу одна, и все на нее смотрят, а ей не за кого спрятаться, поздно бежать и уйти нельзя. Ракитин остановился перед Сусанной, взял ее руку и поцеловал. Он стоял в неудобной позе, низко склонившись, прижав к губам маленькую смуглую руку. Сусанна растерянно смотрела на нас, на наших девушек и учителей, а потом опустила глаза и осторожно погладила Ракитина по голове. Он выпрямился, лицо у него было уже другое, не озабоченное, не строгое, а веселое, мальчишеское, и он громко спросил: «Что наш звонок, Сусанна?» Мы заулыбались, а те, кто окончил школу после нас, смотрели, ничего не понимая, переглядывались, перешептывались, спрашивали, наверное, какой еще там звонок. А Ракитин был уже прежним – рот плотно сжат, брови сдвинуты к переносице. Он натягивал перчатки, и его уже не было с нами...
Я оглянулся, точно хотел увидеть кого-то. Передо мной лежал школьный двор. Он стал меньше, часть его теперь занимал корт, настоящий теннисный корт, может, чересчур шикарный для нашей старой школы.
Я сделал шаг к двери. Годы, события, все радости и горести вдруг отлетели. Казалось, стоит взяться за ручку, потянуть на себя дверь, и снова окунешься в гул большой перемены. Три прыжка по лестнице, бегом через зал и дальше – по коридору, в класс, а там возня, крики, гвалт, но вот Гошка Юдин, приплясывающий у двери, делает знак: «Ганнибал у ворот! Ганнибал у ворот!» И в конце длинного коридора с указкой и картами в руке появляется «Ганнибал».
Казалось, стоит взяться за ручку...
По-осеннему рано зажглись фонари – желтые шары в теплой голубой дымке. Блестел сырой асфальт. Из городского сада доносилась музыка. Я знал: оркестр играет последние дни. Скоро в саду заколотят летний кинотеатр, а скамьи отнесут под навес. Но пока в саду звенел смех и слышалась печальная медь труб. Слабо шумели под ветром деревья, на дорожках и аллеях дрожали пятна света, и казалось, что в листве, если приглядеться, можно увидеть знакомые глаза под каштановой челкой... Она давно уехала из этого города, где-то была у нее сейчас своя жизнь, но она, та, которую я знал, никуда не могла уехать и не могла умереть.
Я решил остаться и взял койку в гостинице. Вставал рано, завтракал в темном буфетике, уходил и бродил допоздна, вдыхая запах родного города, настоянный на осенней листве, прохладный и свежий, как ощущение детства, и такой же летучий.
Многих улиц я не нашел, другие были перегорожены, по ним никто не ездил, они поросли травой. Улицы забытых шагов, они остались как заповедники детства.
Я нашел несколько каменных магазинчиков, где ранними утрами до уроков выстаивал в очередях за хлебом.
Старинный особняк, украшенный башенкой с флюгером, отремонтировали. В нем устроили музыкальную школу. Я видел за окнами детей, доску с нотными линейками, слышал голоса и музыку – нехитрые детские пьесы.
Однажды я заблудился – серо-зеленый бетон стен, козырьки над подъездами, витрины, ливень стекла. Удивляться было нечему, город строился, рос, он не мог не расти. Но я с растерянностью и тревогой разглядывал новостройки, суровые лица в космических шлемах на торцах зданий. Я жил в таких же домах и давно перестал задумываться над тем, как они выглядят. В сущности, они не имели ко мне никакого отношения: здесь я числился квартиросъемщиком, там работал, а то, что называлось домом, осталось на родине, там, где родился.
Кто-то сказал: нужно много прожить в доме, чтобы он стал домом. Немудреный вроде каламбур, но как верно, как верно сказано. Дом – это не просто жилплощадь. Это духовное наследие и капитал, которые неисчерпаемы.
Запах сырой листвы настойчиво возвращал меня в прошлое. Я вспомнил последнюю весну в этом городе, вечера перед экзаменами, сырой и теплый туман после дождей, запах земли и древесных почек, ожидание перемен... Я ушел не оглядываясь, полный робости и надежд.
Опять звучала в саду музыка, наплывал из темноты вальсок, сочиненный одним из современных менестрелей: «Неспроста, неспроста, от родных тополей...»
Люди всегда уходили, убегали, оставляли родные места, а про кого-то только и было известно, что он уехал, и оставшиеся спрашивали: «Почему он, такой молодой, покинул свой дом, ушел так далеко?»
Они вырывались из захолустья, покидали невзрачные городки с их скукой, выбивались в люди... Но убогие домишки, старые деревья и знакомые улицы продолжали жить в их памяти и даже для людей нечувствительных и лишенных воображения оставались заветным, счастливым миром. Какой бы ни была судьба этих беглецов, рано или поздно они обнаруживали в душе саднящую рану бездомности, отчаянную тоску и желание вернуться. Их настигали воспоминания, которых они не ждали. Сны уносили беглецов домой: освещаемые тихим светом памяти, они бродили по родным улицам. Странные, странные то были возвращения, потому что в снах возникали не только явные и точные приметы родного дома, не только то, что они когда-то знали и могли вспомнить, но и бесчисленное множество предметов, которые они никогда не замечали или забыли, что замечали... Они возвращались, и красноватые окна дома в сумерках – такая малость! – делали их счастливыми.
За скромное наследие отцов я отдал бы весь блеск прославленных дворцов и все их мраморы – за шифер кровли старой.
Он часто бывал горьким, опыт возвращений.
Это великое безумие, за которое почти всегда приходится расплачиваться, – возвращаться в места, где ты был молод.Так говорили они, и повторяли на разные лады «домой возврата нет», «тебе не вернуться домой», и все-таки возвращались. На последней странице одной из самых жестоких книг нашего века вдруг бьют в глаза такие строки: и когда закурились синеватые струйки дыма над кучами сухих, ломких листьев и белье на веревках стало лубенеть на ветру, я решил уехать домой...
Тот вальс давно кончился, а я все еще слышал, низкий, с хрипотцой голос: «...возвращаемся мы по домам».
Вот тоже, привязался мотивчик! Возвращаемся мы по домам.Общее место. Формула. Топос. Или как там оно называется в поэтике? В основе этих уходов, скитаний и возвращений лежали, должно быть, очень старые, архаические модели человеческого поведения, угадывались в них какие-то вечные мотивы. Скажем, горькое сознание вины и потребность искупления, или поиски Отца, или – Брата, или – Дома... Возню с этими мотивами, пожалуй, следовало отдать моим просвещенным друзьям, ибо все, что приходило мне на память, было полно живых деталей, примет, бытовых черт. И уже казалось моим, было узнаваемо, знакомо...
Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?
Неплохо бы исследовать «мотив возвращения». Интересно проследить, как развивается он в разных литературах. Откуда в человеке это неистребимое желание вернуться? Что ищут герои, пускаясь в путь? Что заключено для каждого из них в понятии «дом» и как со временем меняется содержание этого понятия. Я вспомнил своих друзей, своих ироничных кандидатов в доценты. Чего они зубоскалят! Взяли бы да составили на первый случай антологию «возвращений». Страшно я вдруг разволновался.
Начать можно с евангельской притчи о блудном сыне. Так, видимо.
Затем – долгая дорога домой участников троянского похода, рассказанная легендарным слепцом. Через две с половиной тысячи лет к этому сюжету вернулся другой писатель. Шатания по городу сборщика объявлений и возвращение его к распутной жене он уподобил странствованиям хитроумного грека, вместив в июньский день дублинского обывателя двадцатилетний путь героя древней поэмы.
Странника домой приведи, – обращается к богине греческая поэтесса, маленькая смуглая женщина, которую современники называли «фиалкокудрой».
И она же: Братний парус правьте к отчизне милой!
Потом – Рим.
Смерть близких, предательство друзей, несчастная любовь и дом – вот темы грустного лирика, умершего совсем молодым. И возвратиться с легкою душой снова, устав от долгих странствий, к своему Лару и на давно желанном отдохнуть ложе!
Другой поэт, из всадников, прославился любовными элегиями. Тяжко бывает уйти далеко от родимых пенатов: даже ушедший нет-нет да и воротится вспять.
После греков и римлян – провал. Одним махом проскочив средние века, я добрался До Возрождения.
Француз, один из лириков «Плеяды». Жил при посольстве в Риме, тосковал по родине. Когда же те места я посетить сумею, где каждый камешек мне с детских лет знаком, увидеть комнату с уютным камельком, где целым княжеством, где царством я владею.
А еще? Больше ни строки. Ладно, на первый случай, на первый случай...
Возьмем наших. Здесь легче: возвращение в дом под родное крыло – неизбывная тема российских поэтов:
Можно вспомнить пушкинское: Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.
Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен.Господи, из какого далека тянет этим дымком! Кажется, еще с гомеровых кровель.
Старый дом, старый друг! посетил я наконец в запустенье тебя...Русский поэт из старинного дворянского рода; прожил жизнь то под негласным надзором полиции, то под гласным надзором отца и умер в изгнании.
Я вошел. Те же комнаты были...
Поразительны эти совпадения у самых разных авторов. Немец приезжает в родной город, приходит в дом, где провел детство, разговаривает с людьми, которые его не знают. На американском Юге герой находит дом, идет взглянуть на свою комнату, разговаривает с чужими людьми...
Ну, эти-то параллели, допустим, можно понять – кочующий сюжет. Но случались и буквальные совпадения, когда заимствования как будто были исключены. Окруженные на родине призраками прошлого, герои всегда оглядывались: не задержалось ли время на знакомых улицах. Они оборачивались, словно улицы были временем.Строку эту я встречал у самых непохожих авторов. О ней вот тоже стоило подумать.
Старый дом глянет в сердце мое...
После русского поэта неожиданно вспомнился норвежец, сначала аптекарский ученик, позже – знаменитый писатель. Он сочинил драму, герой которой увидел мир, все познал, прошел огни и воды и вернулся умирать домой, в деревенскую хижину, к теплу каменного очага.
И в городах задумчивых искать ту улицу...
На память пришли стихи с печальным зачином «Пойдем, пойдем поглядим...» – рассказ о человеке, который кружит по городу, стараясь догнать состарившиеся мечты.
Потом – японский поэт, чьи пятистишия стали народными песнями. Сегодня с силою внезапного недуга нахлынула по родине тоска. Как грустен этот дым на синих небесах.
И вдруг без всякой связи с японскими стихами – щемящие строки из песни, которую вроде и не слышал никогда: Звезда полей, звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...
И снова дом, и снова звезда – две строки из неизвестно кем сочиненной песни: Растаял в дымке хутор дальний, и занялася ранняя звезда...Какая пронзительная одинокость в этой звезде! Словно замирающий прощальный крик вслед беглецу: возвращайся!
На всех широтах, под всеми небесами, во все времена – неутихающий, несмолкаемый, вечный зов: домой! До последнего шага, до эпитафии на могильной плите: Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, и охотник вернулся с холмов.
Человек уходит из дома, что-то гонит его прочь. По ночам он лежит на чужих кроватях, и чужой ветер шумит над ним в деревьях. Он бродит по чужим улицам, и перед глазами его проходят лица, но он не знает имен для этих лиц. Голоса, которые он слышит, – не те голоса, что звучат в его ушах с тех пор, как он ушел из дома. Это громкие голоса. Такие громкие, что заглушают голоса его родины. Но вот наступает минута тишины, и он снова слышит прежние голоса, те голоса, которые он унес с собой, уходя из дому. И он уже разбирает, что они говорят. Они говорят: Возвращайся. Они говорят: Возвращайся, мальчик. И он возвращается.
Я засобирался в дорогу. Неправдоподобно далеким показался мне тот день, когда я встретил во дворе двух девчонок в ситцевых платьях. Город притих, сады сделались светлее. Они теперь просматривались насквозь – за деревьями летели трамваи.
Перед отъездом я пошел в последний раз взглянуть на дом. Был поздний вечер. Из глубины двора, который терялся в темноте, до меня долетали слова беседы. Голос был мягкий, неторопливый. Я опустился на край скамейки под тополями и долго сидел неподвижно, глядя на освещенные окна. Я снова был дома и ждал, когда меня позовут. Двор, казавшийся мне раньше необъятным, сжался. И город мой стал меньше. Я почувствовал, как далеко ушел от дома: армия, университет, работа, путешествия, плоские силуэты чужих кораблей на горизонте, белая прокаленная пыль пустыни... И не только пространство, но и время сжалось, и детство, бывшее некогда целой эпохой, теперь жило в памяти бедным кратким мигом.
Мимо прошел мальчик с удочкой и связкой рыбы. Окуни матово светились в темноте. Я видел круглую голову, вихры светлых волос, острые худенькие плечи. Мальчик прошел бесшумно, скользнул, как воспоминание. У меня сжалось сердце: мое детство прошло рядом со мной.
На стоянке такси толкалась по-вечернему нервная толпа. Здесь, на правом берегу реки, приметы нового города особенно бросались в глаза: лезли в небо этажи Дома быта, в закат был врезан мост строгих современных форм, над парапетами набережной парил концертный зал – пилоны, стекло, алюминий... А на левом берегу жизнь как будто остановилась: заборы, тесовые крыши, поленницы во дворах. Но все это не сплошняком, кое-где дома снесли, да и те, что остались, были готовы к сносу. Они служили лишь временным фоном для девятиэтажных зданий и смотрели сиротливо. За деревьями поблескивали купола церквушки. Под ее сводами в наше время размещались полутемные лавчонки, где мы покупали керосин, рыболовную снасть, сыромятные ремни для коньков. Но даже эта церквушка выглядела теперь иначе. Ее сохранили единственно для того, чтобы она подчеркивала чистые плоскости и стремительные линии новых зданий.
Вот идут по мосту школьницы. Этот мост, эти белые здания они видят каждый день, и значит, новый город останется с ними навсегда, и значит, он будет жить, уже живет...
Промелькнули последние городские дома. Машина вырвалась на шоссе и теперь тонко пела среди погруженных во мрак полей. Я протер ладонью стекло и в последний раз взглянул на горящие окна и уличные фонари. Машина круто повернула, и город, накренившись, полетел в ночь... Там остался мой дом, там, в неизменном прошлом, жили, не старея, мои школьные друзья, по-прежнему стояли желто-коричневые станционные постройки, окраина спала под своими тополями и по горбатой улице с дорожным сундучком в руке поднимался машинист, вернувшийся из поездки...
Неожиданно я обнаружил, что шагаю по сухой траве к аэропортовскому домику, а свежий ветер, налетающий из темноты летного поля, холодит мое лицо. Потом я услышал гул и увидел огни рейсового самолета.








