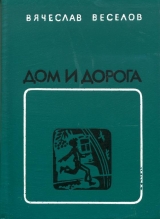
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
В каникулы Орехов редко бывал дома, больше путешествовал по старым русским городам или уезжал куда-нибудь с матерью и отчимом. Глеб видел его лишь однажды, после второго курса. Юрка явился на пляж в старательно отутюженном костюме. Ребята, как всегда, подтрунивали над его дендизмом, он, как всегда, лениво отбрыкивался: «Не мелите ерунды. Это элементарная аккуратность. Это у меня профессиональное». Таким он был – невозмутимый, сдержанный, немного лукавый, немного себе на уме. Но, странное дело, его все любили.
Когда на следующий день Глеб пришел в школу, двое парней в тренировочных костюмах уже гоняли по снегу мяч. В одном Глеб узнал Редькина, другой был из параллельного класса, этого он помнил плохо. На скамье у баскетбольного щита, где были свалены пальто и спортивные сумки, сидел Усольцев. В руках он вертел очки, но не те, что носил обычно, а старомодные, в железной оправе, с веревочкой, привязанной к дужке, – футбольные. Рядом стоял долговязый парень в форме летчика гражданской авиации – Самаркин. Он говорил Усольцеву:
– Да мы, Тимка, только вчера прилетели из Алма-Аты...
Коротконогий крепыш в вылинявшем трико разминался в стороне. Он прыгал, приседал, тряс руками. Трико, казалось, вот-вот лопнет на нем.
«Барсук, – улыбнулся Глеб. – Нагулял телеса...»
А Гошка Барсуков уже кричал:
– Давай, Глеб! Давай подруливай. Сейчас зафутболим.
Подошли братья Муганцевы. С ними был Толя Ярушин.
– Здорово, Глеб!
– Привет!
– Тряхнем стариной?
– Попробуем.
– Здравствуйте, Глеб, – сказал Ярушин.
– Кончайте, мужики, – кричал Барсуков. – После наговоритесь. Глеб, скидывай мантель.
Ребята не торопились раздеваться, покуривали, перекидывались шуточками.
«Они все реже собираются вместе, – подумал Глеб, – и теперь рады видеть друг друга».
Наконец Редькин забрал мяч и уверенно, не спрашивая согласия, разбил игроков, на команды. Вратари стояли в воротах, и можно было начинать, когда Барсуков снова подал голос.
– Эй, смотрите! – крикнул он. – Да посмотрите же, черт вас дери, кто пришел.
У баскетбольного щита, утопив руки в карманах модного, пожалуй, легковатого для сибирской зимы пальто, стоял Орехов и невозмутимо наблюдал за приготовлениями к игре.
– Орехов! Стоит и молчит, змей!
На площадке остался один Усольцев. Он с улыбкой смотрел, как ребята тормошат и тискают Орехова, но сам не двигался с места.
– Вот еще, – громко сказал он. – Орехов... Ну и что! Так ведь мы никогда не начнем.
– Ладно, – сказал Орехов, – начинайте. Я посмотрю. Должны же быть у вас зрители.
Что-то не ладилось у них сначала, не шла игра, какой-то был сумбур, толчея, только Барсуков небрежно обстреливал ворота. Он играл свободно, легко обрабатывая мячи, финтил. «Навострился», – подумал Глеб. И вдруг Барсуков точно и сильно пробил по воротам метров с пятнадцати. Ярушин только ахнул и побежал искать мяч. И тут пошло-поехало.
– Откати, Женя, откати. Так, хорошо.
Глеб увидел впереди себя Редькина, отдал ему мяч и вышел на пас, но Редькин залез в снег, потерял мяч, упал.
– Отдавать надо, – кричал Глеб, – ишь дорвался. Разыгрывай!
Мелькали свитера, полосатые пуловеры, пестрые шапочки, и рядом, как раньше, слышалось тяжелое дыхание ребят.
– Пас, старик! Пас!
– Захлестни!
– Не выходи из ворот!
Усольцев врезался в защиту и потерял мяч.
– Ах, черт! – Он присел и ударил себя по ногам. – Хотел сам пройти, – сказал он виновато.
Игра налаживалась. Короткий миг – забытое чувство, которого Глеб ждал, – предощущение гола: вот оно, сейчас, сейчас... Глеб увидел Самаркина с мячом.
– Страус! – внезапно вырвалось у него. Самаркин бросил ему мяч, и Глеб с ходу пробил.
– Узнаю коней ретивых, – рассмеялся Барсуков. – Отличный шарик!
«Старая лошадь, – подумал про себя Глеб. – Короткое дыхание...» У него покалывало в груди, пересохло во рту, да и остальные заметно скисли, уже не бежали за мячом. Только Редькин да еще Барсуков вроде не получили своего. У этих продолжалась бесконечная, давняя, должно быть, дуэль. Редькин умышленно забирался в глубокий снег, в кусты, Барсуков ломился за ним, сухой кустарник трещал, словно сквозь него продиралось стадо лосей, летели ветки, снежная пыль, и наконец кто-нибудь из них, Редькин или Барсуков, потный, злой и счастливый, появлялся из кустов и бил по воротам.
Глеб заметил, что освещение изменилось, снег стал синим. Ноги гудели сладкой, забытой спортивной усталостью. Ребята уже не кричали, не бесновались, и мячи сыпались в ворота все чаще. После какого-то мяча все, не сговариваясь, потянулись к скамье, где сидел единственный их зритель. И вот, кое-как набросив пальто и затолкав в сумки кеды и шерстяные носки, они брели по снегу через сквер, и Самаркин сказал:
– Здесь рядом кафе.
Они выдвигали стулья с низкими решетчатыми спинками, рассаживались, разговаривали.
– Нет, чего-нибудь покрепче. А потом кофе. У них венгерская кофеварка.
– А вот еще одно прелестное дитя!
К их сдвинутым столам пробирался Коля Хрисанов.
– Уж и не чаял вас найти, – сказал он весело. – Прихожу в школу, а там только снег перепаханный, отзвуки побоища. Пошел по следу.
Самаркин с Усольцевым расставляли тарелочки, разливали по рюмкам коньяк и все задирали Орехова, которого величали «наш путешественник», «наш Стенли», «наш африканец», а тот сидел нарядный, с тропическим загаром на лице, едва заметно улыбался и говорил:
– Да не Лимпопо вовсе, другая у них там река... Я же сказал, госпиталь построили. Нет, не я автор. Да отстаньте! – Он вытащил из рыжего портфеля большую темную бутылку со множеством наклеек. – Вот лучше откройте.
Глеб сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на ребят. Ему было хорошо от тепла, усталости, шума голосов, от знакомых лиц – красных, пунцовых, счастливых... Он забыл о себе. Пришло ощущение, похожее на то, когда он летел по краю поля, ждал мяча, когда крикнул «Страус!», получил мяч и пробил – ощущение игры за команду. Да, что-то похожее на тот миг, но свободное от волнения и азарта, свежее и чистое, как запах снега из открытых дверей кафе.
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!
Хрисанов читал с горящим лицом, крепко обхватив рюмку единственной рукой – костистая, хорошо разработанная, совсем не учительская пятерня. Рядом сидел Ярушин. Возбуждение еще не схлынуло с его лица, но сквозь него уже проступала усталость. Морщины, кожа какая-то серая и волосами стал не богат. Глеб смотрел на него, пытаясь вспомнить другого Ярушина – тихого мальчика в куртке из синей байки.
– Тогда майор спрашивает: «Кем же я все-таки являюсь по отношению к вам, товарищ солдат?» А Барсуков отвечает: «Современником».
Современником... Ну да, одно у нас с вами – наше время, наша школа... Бог помочь вам, друзья мои, отяжелевшие, начинающие катастрофически лысеть. Бог помочь!
Они не торопились, не рвались вспоминать; что-то вдруг само всплывало в их общей памяти, и все безошибочно чувствовали, стоило ли об этом говорить, а если не стоило, то коротко кивали и опускали глаза: о чем, дескать, толковать, знаем, было...
Когда принесли кофе, все уже говорили через стол, наклонившись друг к другу, и тут поднялся бледный Усольцев.
– Погодите, – сказал он. – Я читал книгу... Там один в письме к друзьям... – Усольцев глубоко вздохнул. – Вот что он написал: погодите, настанет день, позади у нас будет долгий путь, разлука, жизнь в разных мирах, неравная доля счастья, и все-таки у нас будет только одна душа, чтобы вдыхать развеявшийся аромат нашей юности... Вот так. Настанет день.
Он сел, сжал виски ладонями и вдруг заплакал.
– И в бурях, и в житейском горе, – повторял Глеб, шагая в гостиницу, – в чужом краю... Стоп! Ведь это же про нас, про нас с вами. В чужом краю, в пустынном море... Под какой волной проходит сейчас твоя субмарина, Алик Ракитин? – И потом шептал: – Не забывайте нашу школу, помогайте друг другу, любите... – И что-то уж совсем неожиданное говорил, не узнавая себя и удивляясь: – Живите, не уходите, не умирайте...
1975
ГНЕЗДО РЕМЕЗА
IАх, какие дни, какие травы стояли в то лето! Каким высоким было небо, каким густым и пахучим настой разморенных зноем трав! Сколько солнца и света, сколько красок и запахов увидел и перечувствовал я! Никто не учил меня распознавать травы, все получалось само собой в те долгие, бесконечные дни, среди деревенских жителей. Я легко различал на пестром лугу не только пурпурные сполохи кипрея и молочные разливы донника, но и мелкие цветы луговой овсянницы, желтовато-белые метелки лабазника, пушистые зонтики дягиля, винно-красные головки кровохлебки. Ослепший от лугового разноцветья, я озирался в радостной растерянности, не узнавая мира вокруг. Да и что было узнавать! Семнадцать лет я прожил на окраине большого города, в поселке литейщиков, где хилые стебельки редкой травы уже в мае были подернуты сероватым налетом. Ни полян, ни лужаек в поселке не было. Мяч мы гоняли на пустыре, засыпанном черным шлаком.
А тут – теплые зеленые косогоры, с которых тянуло медом, прогретые солнцем поляны с кустиками земляники. Я падал лицом в траву, надо мной в вышине заливались жаворонки, где-то над ухом басовой струной гудел шмель, звенели кузнечики. Я срывал травинку, перетирал ее зубами, переворачивался на спину и слушал, как течет в горло крепкий духовитый сок.
И воздух, напоенный разнообразными запахами – меда, полыни, конопли; то луговая свежесть, то сушь, от которой запекались губы, то прохладное дыхание ночного леса, редкие и неожиданные порывы ветра, словно взмахи крыла большой птицы.
И облака, облака, их тени на взгорьях...
Шла война. Нас, курсантов-летчиков (классное отделение), послали заготовлять дрова на зиму.
Полуторка остановилась возле конторы. По команде отделенного мы высыпали из кузова, и машина ушла.
– А как же дрова?
– После вывезем, – сказал отделенный. – Поживем здесь недельку.
Так мы оказались в глухой деревушке среди лесов: широкая улица, поросшая конотопкой и не знавшая колес, три десятка изб в два порядка. Старых изб из крепких, выбеленных солнцем и дождями бревен. Я прикасался ладонью к срубу и блаженно жмурился: дерево источало сухое тепло.
Поначалу мы ругались, кляли начальство. В конце концов, на дрова можно было послать кого-нибудь из молодых: через пару месяцев нас должны были выпустить. Мы летали, хлебнули неба и уже видели себя летчиками-штурмовиками.
Очень скоро, однако, наш гонор прошел и мы снова стали теми, кем были, – мальчишками. После полутемной казармы с рядами двухъярусных коек, после запахов портянок и шинельного сукна – свет, тепло, знойный шелковистый ветер, колодезная вода, от которой ломило зубы... И радость, хмель, ощущение здоровья, молодости, сил. Мы носились по траве босиком, дурачились, пели, орали.
– Ну чисто телята на первом выпасе! – говорил бригадир.
Это был узкогрудый мужик в ветхом полосатом пиджаке и застиранной рубахе, застегнутой на все пуговицы.
Появлялся в деревне председатель колхоза – сержант-артиллерист, потерявший руку на Западной Двине. Был еще мальчишка-тракторист в мазуте до белесых бровей. Он целыми днями возился со стареньким трактором, но никак не мог его запустить. «Не заводится железо, едри его в корень!» – говорил он.
Это были единственные мужики в деревне, если не считать запечных стариков, которые изредка вылезали погреться на солнышке. Когда мы строем, с пилами и топорами, возвращались из леса, старики поднимались со своих скамеек и кланялись.
Мы вчетвером – Толя Кудрявцев, Игорь Лосинский, Валька Субботин и я – поселились у суровой молчаливой старухи. Ей было, за семьдесят, но она, похоже, никогда не знала хворей, ноги легко носили ее громоздкое тело. Была она высокой и прямой, как дворцовый гвардеец.
Чуть свет хозяйка была уже на ногах, хлопотала по хозяйству, шебуршила возле печи. Когда мы поднимались, на столе нас ждал завтрак, приготовленный из наших курсантских концентратов. Иногда мы находили возле тарелок по куску розоватого сала – тонкие прозрачные ломти на кусках черного хлеба. Тушенку старуха не признавала. Как-то попробовала и, ничего не сказав, отвернулась.
Она вообще редко заговаривала. Приготовит завтрак, раздует самовар, станет у двери, прислонившись к косяку и сложив руки на плоской груди, и смотрит, как мы едим. От соседей мы узнали, что хозяйка наша давно овдовела, осенью сорок первого проводила на фронт троих сыновей, а через полгода получила одну за другой три похоронки. Иногда к ней забегали внуки – двое пацанов и худая девчонка, годом или двумя старше братьев. Старуха потчевала их горошницей или пареной калиной.
– Безотцовщина, – вздыхала она, глядя на внуков.
Полати занял Толя Кудрявцев – недавний школьник из Мытищ – аккуратный мальчик с девичьим румянцем и с девичьей же мягкой застенчивостью. Он постоянно краснел. Как-то на строевых занятиях (была дана команда «Вольно!») отделенный, оглядывая строй, вдруг крикнул: «Ноги на ширину плеч! Что вы, Кудрявцев, стоите как пятнадцатилетняя девочка!» Все рассмеялись, а Толя пошел пунцовыми пятнами. В роте над ним подшучивали и называли не иначе как «малыш» или «сынок». Сынок! Господи, а отцы-то! Никому из нас еще не перевалило за двадцать. Самым старым в роте был наш отделенный Паша Богодухов – ему шел двадцать первый.
На лавке под окном спал ленинградец Игорь Лосинский, высокий худой парень с красивым, но несколько болезненным лицом. Правда, этот сухопарый дылда был вынослив как лошадь. После марш-броска с полной выкладкой, когда мы с хрипом валились на землю, сплевывая горячую слюну, Игорь расхаживал между нами, все такой же ровный, молчаливый и бледный, и даже гимнастерка у него была сухой.
Мы с Валькой Субботиным спали на полу. Это был колченогий рябой парень с веселыми, быстрыми глазами, бывший детдомовец. Отца и мать он не знал, а фамилию получил от дня, когда его трехмесячного нашли на крыльце детского дома. Он нравился мне больше других, был открыт, весел, щедр да и летал, кажется, лучше всех.
Мы собирались на построение, когда над деревней курились дымки и бабы с литовками и граблями, перекликаясь, выходили из домов. В низинах еще плавал редкий слоеный туманец, а бригадир уже бегал по крыльцу конторы, бранился, торопил баб.
– Куда ты их, дядя, спозаранку? – кричали курсанты.
– Пора сенокосная, – отвечал бригадир, – деньки погожие. – Он поднимал сухой кулачок. – Нынче поломаемся, зимой с кормами будем.
Мы разбирали пилы и топоры и отправлялись в ближний лесок. Я шагал в строю за Игорем Лосинским. Армейские брюки болтались на его худом заду, как пустой мешок.
Нас встречал зябкий осинник. Он трепетал и бился на слабом утреннем ветру, из него веяло горечью, свежестью, холодом. Потом мы вступили под зеленый полог березняка, полного теньканья синиц, птичьего свиста и щелканья. В дело вступали наши пилы и топоры, и птицы смолкали.
В четыре мы возвращались. Шли на реку, купались или устраивали постирушку и, бывало, засыпали на теплой земле у самой воды. В нос било тиной, с лозин лениво летел белый пух...
Ближе к вечеру возвращались с покосов бабы и молодухи. Мы, отдохнувшие, с горящими после сна лицами, выползали из своих изб, тянулись к старенькому клубу на взгорье. Приходил мальчишка-тракторист с гармошкой. Играл он плохо, врал безбожно, но деревенским, видать, и этого было довольно. Девчата, наломавшись за день, сидели рядком на крыльце и, узнав мелодию, запевали. Пели они старательно, серьезно, отдаваясь песне. А после и танцы сладились. И парни наши, не будь дураки, быстро нашли себе подружек. Благо, было из чего выбирать: мы оказались единственными кавалерами на деревне. «Настоящий малинник», – говорил наш каптерщик Гришка Ахрамеев.
Я раньше думал, зачем этому франтоватому, смуглому и по-южному красивому парню возня с курсантскими пожитками, табаком и мылом. Но наш Гриша туго знал свое дело. Он часто смывался в городок со старшиной, завел там себе подружек. Они дожидались своего кавалера под окнами каптерки, где Ахрамеев сидел после отбоя, якобы заполняя какие-то ведомости, весь в делах... Он выбрасывал шинель, вылезал в окно и уводил девчонку в сквер. Однажды, возвращаясь из караула, я видел, как Гришка провожал очередную подружку. На плечах у нее была курсантская шинель, а на лице играл отблеск внезапного и короткого счастья. Ходок был наш каптерщик! «Весь, поди, в отца?» – спросил я у него однажды. «Нет, – сказал Ахрамеев. – Батя у меня квашня. Вот дед – тот горячих был кровей, любил подол задрать. Все женки вокруг, хмельные дружки. До старости водил собачьи свадьбы. Окрутил как-то жену богатого станичника. Тот подговорил мужиков, они подловили деда на кукурузном поле и вломили ему... Еле отходили кобеля!»
Ахрамеев был украшением наших вечеров – веселый, красивый, неутомимый в танцах. Покачиваясь и чуть ломаясь в талии, он с ленивой улыбкой вводил в круг мрачноватую черноглазую красавицу с сухими, немного жесткими чертами. Когда Гришка позволял себе лишнее, она била его по рукам и уходила не оглядываясь. «У-у, змея!» – с веселой злостью говорил Ахрамеев. На следующий вечер они снова были вместе.
Там, в казарме и учебных классах, парни были не то чтобы на одно лицо, но как-то слабо проявлялись: одно знали и занимались одним. А тут они вдруг открывались. Наш отделенный Паша Богодухов неожиданно оказался прекрасным танцором. Это был блондин с круглым, сонным лицом – полный, тяжелый. Я все думал: куда же с таким брюхом летать! Но здесь, в деревне, вдруг вспомнил Пашу в кабине самолета. В тот день проверяли, как мы управляемся с приборами. Инструктор стоял на стремянке с секундомером в руке, а курсант по команде включал и выключал приборы. Настала очередь Паши. Он вразвалку вышел из строя, сопя залез в кабину, поерзал на сиденье и вдруг застыл – холодный, хищный взгляд. Инструктор включил секундомер, и Паша, не делая ни одного лишнего движения, начал переключать тумблеры и нажимать кнопки. Его время оказалось лучшим в отделении.
Богодухов первым нашел себе партнершу – белокурую вдову с покатыми плечами, всю мягкую, сдобную, медленную. Про таких моя бабка говорила: вал мельнишный. Паша вел свою даму бережно, словно боялся расплескать это изобилие плоти.
Вдове было за тридцать. «Она же старуха!» – говорили мы отделенному. Паша улыбался: «Тридцать годков – самое спелое бабье время». И добавлял со значением: «Вдовица не девица»... На что он намекал, мы не понимали. Отделенный первым уходил с танцев, бросая на ходу: «Подъем в шесть!»
Игорь Лосинский не танцевал, стоял поодаль и молча наблюдал. Глядя, как мальчишка-тракторист терзает трехрядку, Игорь морщился. Однажды он подошел к гармонисту, попросил у него гармонь, долго перебирал лады и вдруг заиграл. Это было что-то нежное, печальное, щемящее – совсем другой лад. Мы молчали пораженные, потому что Игорь никогда не заговаривал о музыке и не пытался играть, хотя у нас в роте были гитары и баян. Мы долго не могли отойти после его игры, в глазах у девчонок я заметил слезы. Танцев в тот вечер не было.
А Валька-то Субботин, наш колченогий и рябой Валька, отхватил первую красотку на деревне – рослую смешливую девку на полголовы выше себя. По ее лицу постоянно гуляла улыбка: то ли она смеялась над своим малорослым кавалером, то ли для веселья ей не требовалось ничего, кроме сознания своей молодости и красоты. Заполночь мы ворочались в душной избе, а за окном все еще слышался быстрый, торопливый голос Вальки Субботина и смех его подружки.
Вот уже и застенчивый Толя Кудрявцев водил в танце свою даму, а я все стоял на отшибе и вглядывался в лица друзей, которые так неожиданно менялись, что я их не узнавал. А рядом стояла худенькая девушка с бледным лицом – совсем еще девчонка – и смотрела на меня. Но я не мог, не умел к ней подступиться, хотя парни постоянно меня подзуживали. Я не шибкий – таким уродился, да и бойкости негде было набраться. Народ в нашем поселке жил положительный, суровый – рудознатцы, литейщики, металлисты. И девки были нарасхват – не разбежишься. Проводил пару раз до калитки – женись.
Я ловил взгляды девушки в платье с мелкими бледными цветами, а она все так же стояла отдельно от своих подруг и, наверное, ждала, когда я наконец решусь, сделаю первый шаг. Однажды – на третий или четвертый вечер – я подошел к ней и, обмирая, неловко повел по сырой траве. Повел – сильно сказано! Это она вела меня, а я, обливаясь потом, старался не сбиться с такта. Когда танец кончился, она сказала: «Вы хорошо танцуете». Как водится, я пошел ее провожать. Мы никак не могли расстаться и отправились на реку, где парни развели костер, слышалась гармошка и веселые голоса.
Аня сказала, что заметила меня в первый же вечер, ждала, когда я подойду, заговорю. А я все не подходил, но она не обижалась, потому что не могло же быть так, чтобы я не подошел вовсе. Она рассказывала просто, бесхитростно, и я вдруг со стыдом и тоскливой безнадежностью понял, что ни обидеть, ни обмануть ее нельзя. Неожиданные, неясные, мне самому чувства переживал я. Меня то восхищала доверчивость Ани, то прошибала жалость к ее детской худобе, то заливала нежность, какой я не знал прежде; были и растерянность, и грусть, и желание помочь, оградить ее (от чего? от кого?), взять на себя какие-то ее заботы, горести...
Аня заставляла меня рассказывать о себе, слушала, не перебивая. Внезапно взгляд ее делался рассеянным, большие темные глаза подергивались туманной дымкой, она клонила голову мне на плечо, я целовал ее. Аня прятала голову на моей груди, тихо дрожала. Я слышал стук ее сердца.
Так и катились, так и летели эти летние дни с ранними подъемами, с работой, купанием и отдыхом, с вечерними танцами и долгими расставаниями. И все было впервые – случайные прикосновения, мягкое девичье плечо, узкая горячая рука, сухие губы, жаркий шепот... Я просыпался с предвкушением праздника и одновременно с тревожным замиранием в душе, точно хотел приучить себя к мысли, что этот праздник однажды кончится. Бывало, на деляне отбросишь топор, вытрешь пот со лба и, слушая далекий печальный голос кукушки, снова подумаешь, что все это скоро кончится, что не может оно длиться вечно.
И все кончилось. Однажды у конторы нас встретил председатель колхоза. Они посовещались с нашим отделенным, Паша коротко кивнул и с побледневшим лицом решительно шагнул с крыльца.
– Конец! – сказал он. – Уезжаем. Звонил командир роты. К утру быть при параде. Подъем в семь. Все забрать, ничего не забыть.
Парни молчали, застигнутые врасплох, подавленные. Я обвел взглядом старые избы, выгон, дальние холмы. Деревня разом отдалилась от меня, отхлынула в прошлое, как что-то прожитое, недолгое, случайное.
Мы разошлись по дворам. Валька Субботин и Толя Кудрявцев наскоро перекусив, засобирались, разделили паек на четыре части.
– Возьмите и мой, – сказал Игорь Лосинский. К еде он не притронулся, сидел на лавке и курил, глядя в окно.
Толя Кудрявцев оглянулся на пороге.
– Сережа... – позвал он меня, но вдруг замолчал и махнул рукой. Взгляд у него был растерянный и виноватый.
(Наши койки в казарме стояли рядом, последние учебные вылеты мы сделали на одной машине. Я проводил друга в боевой полк – он уезжал с первой командой, – но, странное дело, почему-то сильнее всего запомнил этот его растерянный, виноватый взгляд... Толя Кудрявцев сгорел в воздухе во время налета на крупный железнодорожный узел. Это был его пятый боевой вылет. Так написали мне ребята.)
На улице было безлюдно. Лишь у клуба я заметил две пары, да и они скоро исчезли. Ворота у Ани оказались запертыми. Меня окликнула соседка:
– Ты к Нюре, служивый? Нет ее с утра. У матери, видать, на дальних покосах. Теперь уж вернется только через пару ден.
Я брел пустынной улицей и неожиданно, без всякого намерения, зашел к отделенному. Паша хлопотал возле стола, накрытого чистой скатертью. Раскрасневшаяся вдовушка в ярком сарафане смотрела на меня почти с испугом. Оба были смущены. Я помялся у порога, что-то промямлил и торопливо простился. Меня не удерживали.
Игоря в избе не было. Я сидел в пустой комнате, слушая звенящую, томительную тишину. Стучали ходики, на подворье хозяйка гремела подойником. Оно было нестерпимо это одиночество в четырех стенах. Одиночество, почти сиротство. Оно росло, и с ним все острее делались тоска, обида, стыд. Я был брошен, забыт. «Нюры с утра нет...» Где же она тогда? На дальних покосах? Но ведь знала, наверное, что ее не будет. Могла сказать. Отчего же не сказала? Отчего даже словом не обмолвилась?
Я вышел на воздух. Деревня молчала, словно пораженная немотой, – ни людей, ни голосов. И гармошка молчала. Вечер расставаний.
Прошел озабоченный мальчишка-тракторист. Меня он не заметил.
Я сидел на крыльце клуба, глядя, как из-за потемневших речных ракит поднимается ущербная луна. На краю деревни вяло пролаяла собака, где-то гармошка подала слабый голос, но тотчас же смолкла.
Я долго сидел на крыльце, курил, незаметно задремал, а когда проснулся, луна уже стояла высоко: на воде, за черными ракитами дрожал ее холодный, неживой блеск. Молчали облитые луной избы, в лугах кричал коростель.
Я закрыл глаза и вдруг услышал у самого уха жаркий шепот:
– Сергей! Сережа! Ты ждал меня? Ждал!
Перед крыльцом стояла Аня. Она целовала меня, слезы текли по ее щекам.
– Думала, больше не увижу тебя. А ты здесь. Ты ждал меня, ждал... Сережа! Я была у сестры в Выселках. Ночью приехал дядя Егор, наш родственник. Говорит: «Собирайся, Наталья хворает, третий день не встает». Приехала, а сестра вся в жару, мечется, меня не узнает. А жар сбить не могут. Побежала на конец деревни, к Лукинишне. Приготовили отвар, напоили Наталью. Она забылась, поспала... Проснулась, на лбу пот, глядит на меня. «Нюрка, – говорит, – Нюрка, ты...» И заплакала. Дали мы ей отвару, попила она, гладит мою руку. «Нюра, – говорит, – сестра...» И уснула. Дышит ровно, лоб холодный и румянец на щеках. Вроде отошла. Сморило меня – ночь-то не спала. И блазнится мне, что уехали вы, и ты уехал, и никогда я тебя больше не увижу... Побежала к соседке. Пригляди, говорю, за Натальей, я завтра буду, а нынче мне никак нельзя. И стыдно, стыдно, а все одно бегу. Вижу, как ты уезжаешь, уходишь, нет тебя. Вот и бежала... Двенадцать верст. Страху-то, страху, Сережа! Стыда-то! Куда бегу?
Она подняла залитое слезами, счастливое лицо.
– Пойдем к нам... Ко мне.
В прохладных сенях свежо и чисто пахли молодой березой веники, развешанные по стенам.
– Иди, иди, – говорила Аня.
Она зажгла лампу. Я огляделся. Выскобленный пол, лавка у стены, в простенке между окон мутное зеркало, посудный шкафчик. В углу тускло светился самовар. С потолочной балки свисала ветка ивы с птичьим гнездом, похожим на рукавичку.
– Что это?
– Ремезковое гнездышко. – Аня вспыхнула. – На счастье. Такая у нас примета.
Мы были одни, но Аня вдруг заговорила быстрым шепотом, волнуясь:
– Это маленькая проворная птичка. На хвосте и крыльях у ней белые полоски, а. грудка золотистая, нарядная... Гнездышко она привешивает к веткам вербы или на камыш, у самой воды. Ее у нас любят, а гнезда все одно берут... На счастье.
В горнице я увидел узкую девичью кровать, застеленную стареньким покрывалом. И все здесь было старым, бедным, чистым. Я стоял посреди избы, боясь сделать шаг. Мне было не по себе. Это ночное вторжение в чужую жизнь говорило как бы о начале уже иных наших с Аней отношений. Она, должно быть, тоже чувствовала себя неловко, потому что сказала:
– Посидим в сеннике?
Мы сидели, прижавшись друг к другу, я слышал у себя на щеке ее дыхание, торопливый, бессвязный шепот. Она то начинала рассказывать про мать и дальние покосы, где «трава добрая», то возвращалась к сестре Наталье, как дремала она у ее постели и вдруг подумала, что не увидит меня больше, как побежала, плача и сгорая от стыда, но верила, что будет все хорошо, хорошо... Аня тихо рассмеялась. Мать скоро вернется, получили с фронта весточку от отца, все хорошо, хорошо... И она не хочет знать, что мы уезжаем, не хочет верить.
– Тебя знобит? – спросил я.
– Немного... Я сейчас.
Аня принесла тяжелый отцовский тулуп, мы накрылись им и замолчали. Податливая мягкость овчины, душный, кисловатый ее запах и темнота, теплота... Я нашел ее рот, слабые губы, дрогнувшие в ответном поцелуе, услышал бессвязный лепет, а потом испуганную дрожь, когда начал целовать ее шею, грудь... Был жар, горячий туман, от которого у меня тяжелели веки и кружилась голова. И уже другими были ее губы – горячие, ищущие. Она задохнулась в поцелуе, застонала, затихла. А я вдруг почувствовал тяжелую истому, какую-то детскую сонливость – все плыло, уплывало, исчезало куда-то. Мы молчали, то впадая в тревожный полусон, то пробуждались от забытья, тянулись друг к другу, плача, шепча какие-то слова...
Совсем рядом забил крыльями, заголосил петух. В узкое окно сенника сочился свет, и в этом бледном свете я увидел ее широко раскрытые, счастливые глаза. Сжав зубы, она притянула меня к себе – уверенная, сильная, незнакомая женщина...
На улице уже слышались голоса ребят и команды нашего отделенного.
Вся деревня собралась у конторы. Солнце припекало, а машины все не было.
Наконец мы увидели пыль на дороге. Знакомая полуторка лихо развернулась у конторы и остановилась.
– По местам! – скомандовал Паша Богодухов.
Никто не пошевелился.
Я заметил в толпе троих стариков с чистыми белыми бородами и темными, изломанными работой костистыми руками. Они стояли рядом, молчаливые и неподвижные, с печальными глазами. Вот так, видать, провожали на фронт сыновей. Один из стариков вышел вперед и развернул перед Богодуховым полотенце, на котором лежали теплые краюхи.
– Возьми, – сказал дед. – Подорожные хлебы. Всю ночь пек.
Паша взял хлебы, передал их кому-то из парней, поклонился. Но старик достал нож и сказал:
– Раздели.
Из толпы баб вылетела рослая смешливая молодка, подбежала к Вальке Субботину и при всех влепила ему поцелуй. Она застыла на миг, гладя Валькины волосы, потом отпрянула от него и пошла, не оглядываясь и качая головой.
– По местам! – снова крикнул отделенный.
Через минуту мы сидели в кузове с подорожными хлебами на коленях. Взревел мотор, за бортом поднялась горькая пыль, за ней исчезли девичьи лица в слезах, старые избы, тесовые крыши и все, все...








