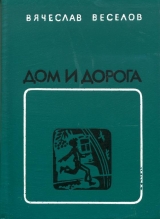
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
– Бери, Митя. Накладывай себе. Что же ты не ешь, сынок?
Кусок не лез мне в горло. Я сидел, опустив глаза, глотая слезы и чувствуя вину перед всем миром.
– Я пойду.
И как в первый день, старики не стали меня ни о чем спрашивать. И отговаривать не стали. Просто сидели и смотрели, как я одеваюсь.
– Коли так, час добрый, – сказал Дмитрий Макарыч.
Хозяйка собрала мне узелок.
– Снесешь гостинцев ребятам. – Она стояла, сложив руки поверх фартука. – Ступай, Митя. Храни тебя господь, сынок. Не забывай нас.
Я быстро добрался до монастыря: на полдороге меня подобрал мужик с лошадью.
– По первопутку-то весело санки бегут, – сказал он. – Выцыганил кобылку у председателя ради праздничка. Да ведь когда еще к родне сбегать.
Монастырский двор был покрыт чистым, с редкими следами снегом, а посреди двора стоял Тимка, точно ждал меня. Да нет, никого он не ждал, бежал куда-то и остановился передохнуть, стоял неподвижно и только пар отлетал у него ото рта. Слабый такой парок.
– Тимка, – позвал я.
Он растерянно огляделся, вспыхнул, узнав, меня, и побежал.
Неловкие, короткие были у него шажки, а следы – совсем крошечные. Он прижался ко мне, как-то сразу обмякнув.
– Ми-и-итя! Пришел... Вернулся... Митя!
Он был маленький и худой, и дыхание у него было теплое, детское...
Рассказчик долго сидел не шевелясь, потом резко поднялся и подошел к застекленной двери.
– Кажется, светает, – сказал он.
За стеклом серело холодное утро и тонко пел ветер. Объявили посадку.
– Что же с Тимкой сталось?
– Что? – Он повернулся ко мне, взгляд у него был рассеянный. – Тимка? Ах, вот вы о чем! – Он медленно приходил в себя, возвращаясь из каких-то немыслимых далей. – С Тимкой все в порядке. Живет, работает, написал учебник для вузов, женился, развелся...
В его голосе я уловил нечто похожее на глухое раздражение: мол, это уже не очень интересно, да и не о том вы...
Он улетал первым. Мы простились. Через застекленную дверь я видел, как он идет на посадку, чуть горбясь на ходу и придерживая от ветра шляпу.
1984
БЫСТРОТЕКУЩАЯ ЖИЗНЬ
Прежде чем свернуть в переулок, веснушчатый мальчишка с заплаканным и злым лицом оглянулся и долго смотрел на окна спортивного зала. Он стоял, глядя исподлобья, чуть помаргивая и в бессильной ярости закусив губу, – маленький, в сбитой на затылок шапке и расстегнутом пальто.
В переулке сырой ветер раскачивал лампочки под жестяными колпаками. Они легонько позванивали, отбрасывая на стены домов слабые отсветы. Капало с крыши. На месте осевших каменных плит стояли черные квадратные лужи.
Покинув зал, где еще звенели клинки и гулкие своды оглашались криками, семиклассник Капустин брел по заваленному мокрым снегом городу и беззвучно плакал от обиды, усталости и боли. Слезы текли по его щекам, гудели натруженные ноги, ныло плечо. Он шел, нахохлившись, держа в руках чемоданчик, в котором лежали фехтовальные туфли и выцветший тренировочный костюм.
«Веки у меня уже красные, – думал Капустин, – а лицо опухло от слез. – Он вытер глаза ладонью. – Пойду пешком. Пока доберусь до дома, все пройдет».
– Что же это я? – вслух сказал Капустин. – Разве так можно? Как ребенок.
Он старался теперь думать совершенно спокойно, боль мало-помалу утихала, и мысли его опять вернулись к тому дню, когда он решил подарить Лене эту янтарную рыбку.
День рождения – тут пришлось поломать голову. Капустин не знал, что следует дарить девчонкам. Не доводилось. Вот с приятелями, с теми было проще. Вадьке Сластихину, например, он купил большую книгу про древних птиц и летающих ящеров. Но тут он ничего не мог придумать. Однажды, уже отчаявшись, Капустин зашел в ювелирный магазин и увидел под стеклом среди подвесок, запонок и бус янтарную рыбку. Она лежала в коробке на черном картоне – комочек золотистой смолы, хранящий в дымчато-прозрачной глубине солнечное тепло и аромат сосен. Наклонившись над витриной, он вспомнил новогодний вечер в школе и песню, какую пела она тогда. Нельзя сказать, чтобы Капустину нравилось, когда люди пели под рояль, скорее наоборот, но в той песне было что-то неведомое ему, рождавшее в душе непонятную печаль и что-то еще, названия чему он не мог придумать. В полутемном зале пахло хвоей, а на маленькой сцене была она в каком-то чудесном наряде. Слабый голос летел в зал, звуки рояля таяли в тишине, а кругом стоял смолистый запах хвои.
Слов нет, песня показалась ему странной. В ней шла речь про одного малютку, по всей видимости, сироту, который рвал на берегу цветы и неожиданно увидел рыбку. Он жалобно просил рыбку выйти на лужок и поиграть с ним, за что обещал отдать ей все свои игрушки.
За роялем сидела все та же Серафима Львовна. Седая прядь упала ей на глаза, на кончике мясистого носа дрожали очки. Капустин любил в тот миг и Серафиму Львовну, и ребят, притихших в зале, и елку с потушенными огнями, и свежий запах леса, какой шел от нее. Он жалел и любил малютку, которому не с кем было поиграть.
В день рождения Лены Капустин не мог ее найти в школе: с утра они всем классом уехали с учительницей за город. Вечером, собираясь на тренировку, он захватил рыбку с собой.
Лена пришла, как обычно, перед самым началом. Он смотрел на нее из глубины зала, через открытую дверь. По лестнице несли столы для пинг-понга, и он не видел из-за них лица Лены, но узнал ее по голубой аэрофлотовской сумке и ногам в тонких чулках и остроносых туфлях без каблуков.
Через четверть часа она вошла в зал, помахивая перчаткой. На ней была белая шерстяная рубашка, короткие черные брюки и белые носки-гольф. Темные волосы, стянутые на затылке, блестели. Лена улыбнулась ему и подала руку.
– Вот, – сказал он, проглотив слюну. Голос его дрогнул. – Вот, рыбка...
Он искал слова. Но тут на них налетели рапиристы.
– Лялька, – кричали они, хватая ее перчатку, – айда к нам в пульку. У нас одного не хватает. – И потом ему: – И ты, Капуста.
Она даже не поглядела на орущих мальчишек и, оставив им перчатку, прошла мимо Капустина, мимо своих девчонок, мимо, мимо – в другой конец зала, где тренировались саблисты «Буревестника».
На дорожке работал их новый тренер, тоже студент. Капустину нравилось смотреть, как, сделав бросок, парень заканчивает атаку стопорящим бегом, наклонив голову и мягко, по-кошачьи перебирая ногами. Лена глядела на студента во все глаза, и во взгляде у нее было такое, чего Капустин никогда не замечал раньше...
Наконец бой кончился. Студент снял маску и подошел к Лене, вытирая полотенцем раскрасневшееся лицо. Он легко обнял ее за плечи и что-то сказал на ухо. Оба они рассмеялись.
Капустин растерянно смотрел на них и вертел в руках коробку, пока она не сломалась. Подарок показался ему жалким и ненужным. Он сбежал вниз, в пустую холодную раздевалку. В зал ему не хотелось возвращаться, не хотелось видеть тренера и слышать его голос. Он был ему ненавистен: улыбка, пробор в светлых волосах, щегольские гетры. Он ненавидел теперь их всех, этих студентов, которые неизвестно почему стали тренироваться в их зале. Они приходили, перекидывались шуточками, бросали мешки с оружием в угол, лениво разминались, болтали с девчонками. Не нравились они Капустину. Он терялся рядом с ними, не понимал их разговоров и шуток, как если бы то были иностранцы или жители другой планеты.
Капустин долго сидел неподвижно, а когда замерз, почувствовал, что обиды больше нет. Он глубоко вздохнул и стал одеваться. Он подождет Лену внизу, у выхода, и отдаст ей подарок. Досадно, сломалась коробка. Уже одетый, он хотел по привычке заглянуть в буфет и выпить горячего чая, но пить ему сейчас не хотелось.
Капустин вышел на улицу, долго бродил в сквере, потом сел на скамью. Захлопали двери. Стайкой пробежали девчонки. Лены все не было. Прошло еще несколько минут, показавшихся ему бесконечными. Тут двери хлопнули снова, и вместе с тем студентом вышла Лена. Капустин заморгал часто и нелепо, чувствуя холод в груди и замирание, как перед прыжком. Они прошли, не замечая его. Голубая сумка висела у парня на плече.
Так было в прошлую среду. Сейчас, несмотря на усталость, Капустин продолжал рисовать в своем воображении сцены возмездия, но боль в плече вернула его к действительности. Он почувствовал себя заброшенным и слабым, самым одиноким на свете.
Не снимая пальто, Капустин прошел на кухню, выпил из-под крана воды и медленно опустился на стул. Он сидел в пальто и шапке, облокотившись на стол, покрытый клеенкой, и смотрел в окно. В доме напротив горели огни. Там шла вечерняя жизнь: в глубине комнат светились экраны телевизоров, толкались на кухнях женщины. Вот женщины... С некоторых пор он стал замечать их. То были молодые учительницы, собиравшиеся на большой перемене у окна в школьный сад, студентки из общежития, – набросив пальто на домашний халат, они забегали в магазин за кефиром и сырками, официантки в кафе, где он ел мороженое, красивая женщина из соседнего подъезда, которая жила одна и про которую соседи говорили, что... Мир оказался населенным женщинами, и Капустин научился видеть влажную белизну их зубов за яркими губами, округлость щек, разрез глаз... Вчера на бульваре он увидел, как девушка, поставив ногу на металлическое ограждение, поправляла чулок. Он стоял с пылающим лицом и не мог уйти. Девушка одернула юбку, запахнула пальто и прошла мимо, бросив на Капустина равнодушный, чуть насмешливый взгляд. Когда они вот так на него смотрели, он испытывал мучительный стыд, его бросало в жар, он чувствовал сухость во рту и необъяснимую слабость. Что-то темное поселялось в нем, какой-то гнет, и он не мог с ним справиться. И все это таинственным образом было связано с Леной. Капустин следил за ней из толпы школьников, а она шагала по коридору в пушистой кофте и тесной клетчатой юбке, веселая, никого не замечая вокруг...
Лежа на спине с открытыми глазами, он старался не вспоминать ни о Лене, ни о сегодняшнем бое. Он стал думать о подводной охоте, о следах в школьном саду, о том, как летом поедет к морю. Он долго не мог уснуть и успел передумать обо всем. А когда неожиданно приходила мысль о ней, сердце начинало бешено колотиться и по лицу разливался жар.
Игорь сначала думал, что этих мальчишек из сборной гороно перехвалили, однако они и в самом деле оказались грамотными бойцами. Ему нравилось драться с ними. Но теперь, разминаясь перед боем и ощущая сильные и злые удары по чаше гарды, он недоумевал, откуда в мальчишке злость, и, убедившись, что никакого удовольствия от боя на сей раз не получит, сразу почувствовал, как устал за день. Он снял маску.
– Бой до трех ударов – и кончаем.
Партнер в ответ поднял левую руку с сильно разведенными пальцами. Игоря забавляло молчаливое упорство, с каким мальчишка дрался, и особенно эти пять растопыренных пальцев – требование вести бой до пяти ударов. Они вечно клянчили: «Еще бой, Игорь Сергеевич».
Они встали в стойку. Мальчишка нападал, продолжая рубить сильно и бестолково, в каком-то непонятном ожесточении. Игорь только защищался и, отступая, применял удары в темп. Он надеялся, что противник его поостынет, но тот не переставал нападать. Мальчишка был одним из лучших в команде. Двигался он красиво, удары его всегда были четкими, а защиты отработаны и экономны. Сейчас Игорь не узнавал его.
Внезапно атаки прекратились. Мальчишка стоял в боевой позиции с опущенной рукой, и хотя во всей его позе был написан вызов, Игорь видел, как устал его противник: Мышцы плеча у него должны сейчас болеть. Режущие удары были слишком глубокие, и мальчишка не успевал брать защиту, а когда рубил из нижней позиции, сам получал по спине. Игорь хорошо видел все ошибки: и недопустимо большие замахи, и то, как он держал теперь саблю. «Ты чем-то расстроен, братец, и вся твоя техника пошла прахом», – подумал он, но, получив удар в контртемп, растерялся.
Мальчишка, оказывается, все видел и все помнил. Он двигался с опущенной и взятой на себя рукой. Совершенно непроизвольно, привычным движением Игорь стал рубить по голове, но в тот же миг сам получил удар. Его рубили согласно наставлениям: по руке снаружи. Удар был сильней обычного. Под маской противника, в тени густой проволочной сетки Игорь заметил улыбку. «Решил меня поколотить? Ну-ну...» Игорь стал внимательнее защищаться, дрался спокойно и даже иногда позволял себе не отвечать на атаки.
Мальчишку это злило еще больше. Его удары теперь не достигали цели, он оказался бессильным перед глухими защитами своего холодного и расчетливого противника. Не ощущая ничего, кроме ненависти, мальчишка сделал длинный выпад, стремительно бросив тело вперед и вложив в бросок всю злость и все оставшиеся у него силы. В том месте, где спина не была прикрыта ватником, он почувствовал ожог. Удар был последним. Бросив саблю, мальчишка покинул дорожку. Он еле держался на ногах.
Игорь долго смотрел на него. Драться ему больше не хотелось.
– Все, – сказал он парням, толпившимся на дорожке, – все на сегодня. Конец.
Он опустился на гимнастическую скамью и вытянул ноги. Подошла Лена.
– Нет, Лена, сегодня мы никуда не пойдем. – Он сидел с полотенцем на коленях и укладывал в мешок оружие, маску, перчатки. – И завтра и послезавтра... На днях возвращается ваш тренер... – Игорь поднялся. – До свидания, Лена, будь умницей.
Игорь открыл дверь на улицу и остановился. Прохожие спешили, подняв воротники, и лишь один, уже заваленный снегом, в длинном, не по моде пальто и с туго набитым портфелем, шел медленно, не обращая внимания на снегопад.
Игорь незаметно подошел к приятелю и, наклонившись у него над самым ухом, тихо спросил:
– Ты не спишь, Бугров?
– Не сплю, – вздохнул тот. – Я думаю. – Бугров поднял бледное, слегка оплывшее лицо и поморщился. – Ты с тренировки?
– Да... Как у тебя?
– Ничего. Пять часов высидел в лаборатории. Духота, жарища – мрачное дело.
– Учись, Бугров: Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.
– Она сокращает быстротекущую жизнь. Вот что я тебе скажу. Кстати, вчера опробовали новую машину.
– Какую машину?
– Откуда я знаю... Это ведь тебе надо что-то считать.
– Ладно, опробовали...
Некоторое время друзья шли молча. Потом заговорил Игорь:
– Странная штука, Валя. Я вдруг стал замечать возраст. Устаю... Да и другие тоже. Помнишь Маркова?
– Помню. Шумный такой. Должен мне пять рублей.
– Вот-вот. Шумный. Он был вынослив, как лошадь. А сейчас приходит в раздевалку и долго сидит, отходит. Старая гвардия... Я после тренировки совершенно разбит. Горит во рту и страшно хочется пить. С завистью гляжу на мальчишек. Они прямо в тренировочных костюмах врываются в буфет и поедают там все, как саранча. Какие-нибудь котлеты с грибным салатом, чай с черствым кексом. Выкуривают по сигарете на двоих и готовы драться до полуночи. Знаешь, о чем я думаю, глядя на них?
– Что курить бы им не следовало. Так, наверное? Слушай, – неожиданно сказал Бугров, – пошли, Гага, перекусим. – Он похлопал по портфелю. – Тут полно еды.
Нарядное общежитие напоминало теплоход: во всех его окнах горел свет. Игорь рассмеялся.
– Грызут науку.
– Грызут, чем еще заниматься?
Они прошли в конец длинного коридора, где располагались комнаты для семейных. Бугров легонько постучал в дверь и, не дождавшись ответа, полез за ключом.
– Где Вера?
– Не знаю. Семинар какой-нибудь.
Бугров гремел посудой, открывал банки и коробки, а Игорь сидел за столом, заваленным книгами, техническими журналами, схемами, узкими полосками исписанной бумаги, и с грустью смотрел на эти свидетельства чужой работы.
– Как диплом, Валя? Много написал?
– Нет. Пока все вычеркиваю.
Бугров появился с дымящейся кастрюлей.
– Я обнаружил тертый сыр. Посыпь им пельмени. Так, выяснилось, тоже едят. Вот огурцы.
Потом Бугров поставил чайник и вернулся из кухни уже с папиросой в зубах. Он протер очки и сел на кровать.
– Прекрасный аппарат, Гага, эта новая машина, интегральные микросхемы, то, се... Вам теперь легко будет контролировать вычисления и сортировать данные. Ты бы сходил к старику. У него сейчас хорошее настроение.
– Оно испортится, как только я покажусь на кафедре. Не понимаю я старика, Бугров. Не понимаю, не хочу с ним работать. Придется все переиграть.
– Напрасно, Гага. Как-то мы разговорились с ним о твоей теме. Это любопытно, сказал он, но не все факты, с которыми собирается работать ваш друг, экспериментально установлены. Это, мол, пока заклинания, слова... Ну и эта его любимая присказка: оно, конечно, сказать все можно, а ты поди демонстрируй. Он хочет, чтобы ты решил для начала несколько частных задач. Я думаю, ты сходишь к нему. Все образуется. Пей чай... Между прочим, как твой роман с той школьницей? Ты ведь в прошлый раз так и не успел мне ничего рассказать.
Игорь нахмурился.
– Это не роман, Бугров.
– Ну, ну...
Игорь сидел, обхватив ладонями стакан с остывшим чаем.
– Я тут вторую неделю занимаюсь со школьниками, замещаю тренера. Он на соревнованиях. Помощник главного судьи на первенстве Союза... Есть там у них Леночка Зорина. Очень милая. Фехтовальщица, впрочем, никакая. Звонит однажды. То да се, а потом: Игорь Сергеевич, вы мне нравитесь. Да-а... Обычная, в общем, история детской влюбленности. Сам когда-то был без ума от учительницы географии. Встретились, значит, погуляли, зашли погреться на телеграф. Я ей толкую про учебу, про общие интересы, которых у нас быть не может. Только чувствую, как-то деревянно все получается. Пройдет, бубню, надо учиться, ну и все такое. А она и слышать ничего не хочет. Расплакалась... Что делать в таких ситуациях? Песталоцци почитать, что ли?
– Ей было пятнадцать лет, но по стуку сердца невестой быть мне могла, – прочитал Бугров с воодушевлением. – Акселерация. Растут как на дрожжах. – Он снова закурил. – Я тут нашел у Веры немецкую книжку. Старье какое-то. Так вот, там написано, что юность женщины – это эпоха бури и натиска.
– Вот где он сидит у меня, этот натиск. – Игорь ребром ладони ударил себя по шее. – Сегодня один мальчишка, какая его муха укусила, колотил меня с такой злобой, что я растерялся. Способный парень, дерется хорошо, а сегодня рубил как дровосек. Он, наверное, не успокоился бы, пока не изувечил меня... Черт знает, что с ними со всеми творится.
Игорь начал собираться. Бугров сидел, сложив руки на животе, и поверх очков внимательно смотрел на друга.
– Что с тобой, Гага? Ты совсем скис. Мальчишка старался...
– Ах, оставь, – перебил его Игорь. – Я знаю, что говорю. Он готов был убить меня, этот сопляк. – Он вспомнил мальчишку: сабля в опущенной руке, бледное лицо, испарина на лбу и взгляд – недобрый, недетский, отчужденный... – Брошу я фехтование, Валя.
– Ну-ну, перестань психовать. Ты устал.
– Серьезно, Бугров. Пора браться за дело. Я постоянно об этом думаю, все клянусь не брать в руки саблю, а вечером собираю в мешок оружие и тащусь в зал. Стараюсь, как никогда, и, главное, знаю, что напрасно. Третий год подряд на институтских соревнованиях занимаю второе место. Чемпионы меняются, а я все вторым. Весной выступлю в последний раз – и прощай, оружие! Будь здоров! Кланяйся Вере.
Снегопад кончился. На улицах подмораживало. Игорь быстро шел вечерними улицами, зажав в руке ремень брезентового мешка, в котором тонко позванивали клинки.
1971
ТОБОЛЬСКИЙ ИКАР
Была такая незатейливая песенка «Есть на севере хороший городок...» Теперь ее не поют, редко поют. Должно быть, на нынешний вкус она чересчур незатейлива. А раньше семь голосов спорили за честь быть этим «хорошим городком». Мой друг, влюбленный в русский Север, утверждает, что автор песни имел в виду Каргополь. Мне же всегда казалось, что речь шла о Тобольске, что это именно он «в снегах суровых северных залег...»
Давняя то была фантазия, отроческий еще туман. Ведь иной раз и ответить не можешь, почему какое-то место или край, где ты никогда не был, вдруг обретают над тобой власть. Край, или город, или одно только имя его. Тобольск жил в моей памяти поэтическим образом, чудесным в своей древности и завораживающей таинственности: за лесами, за речными излуками, среди снегов – древняя сибирская столица, «первый стольный во всех городех», откуда лежал путь дальше на север, в совсем уже легендарную Мангазею... От «златокипящей Мангазеи» нынче не осталось ни городища, ни пепелища. Да и м о й Тобольск (я это знал) уходил, менялся, примерял новое платье – рос, строил порт, возводил огромный нефтехимкомбинат. Вот и поезда пошли к городу, а я все мешкал, все не мог собраться. А он был совсем рядом, каких-нибудь пятьсот километров. По нашим-то масштабам и не расстояние вовсе!
Наконец мне выпала дорога.
Я проснулся в гостинице от бьющего в глаза солнца. За балконной дверью до самого горизонта тянулись пестрые осенние леса: первые утренники уже обожгли листву. У нас деревья стояли еще зеленые, а здесь чувствовался Север.
Мне надо было в архив, но я не стал спрашивать дорогу. В чужом городе в любую сторону идти одинаково интересно. Хотя с реки тянуло сырым холодом, воздух быстро прогревался. Пахло березовым дымом. Его древний, такой русский запах будил в душе что-то полузабытое и так же верно погружал тебя в историю, как мемориальная доска на ветхом домишке: «Здесь жил декабрист М. А. Фонвизин».
За деревьями сквозили белые стены кремля и бирюзовые купола Софийско-Успенского собора. Я уверенно держал на эти купола и скоро оказался на пороге архива. Надо было только пройти вдоль крепостной стены, свернуть в арку, миновать двор, поросший травой, толкнуть тяжелую дверь...
Из комнаты, где я сидел над бумагами, был виден редеющий сад. Там жгли опавшие листья, среди деревьев поднимались столбы просвеченного солнцем дыма. До меня долетал его горчащий запах.
Он был со мной, этот душистый дым, когда я бродил по улицам Тобольска и когда стоял под крепостной стеной, глядя на Иртыш. Над головой тарахтели вертолеты, вскрикивали на воде буксиры. Но дымом и прелым листом, верно, пахло так же томительно и остро, как и в те дни, когда по Иртышу шли дощаники с солью, а тобольское небо было заселено лишь птицами и ангелами.
Два города существовали одновременно – сегодняшний, реальный Тобольск и тот давний, полулегендарный и таинственный. Возле архиерейского дома на пушечных стволах были свалены рюкзаки, по двору разгуливали туристы в штормовках. В здании Монашеского корпуса размещался горсовет ДСО «Спартак». Из окон бывшей консистории летел рокот фортепиано: в музыкальном училище шли занятия. У северных ворот кремля мне встретилась монашеского вида, вся в черном, сухонькая женщина. В руке у нее была холщовая авоська с портретом Аллы Пугачевой.
На крепостной стене – созданный местными художниками мозаичный портрет Семена Ремезова, патриота Тобольска и автора первых чертежей «каменного городового строения». (При жизни Ремезова деревянный Тобольск горел десять раз!) Под портретом слова признания: «Славному сыну земли русской Семену Ремезову, зодчему, художнику, картографу, летописцу – благодарные тоболяки».
На могилах декабристов возле церкви Семи отроков живые цветы. Под знакомыми фамилиями – Башмаков, Кюхельбекер, Краснокутский – на черных чугунных плитах свежие стрелы гладиолусов. И это не по случаю юбилея или другого мероприятия. Просто будничный осенний денек...
Церковь Семи отроков построена Андреем Абариным. «Геодезии сержантом», как явствует из мемориальной надписи. Мы мало что знаем о нем. А сколько их было вовсе безвестных мастеров и подмастерьев, создавших Тобольску его славу? Мы не знаем имен казаков, которые вместе с Данилой Чулковым летом 1587 года поднялись на холм против устья Тобола и поставили деревянный острог – первая строка в летописи города. А ведь именно они, служилые люди, рубили избы, возводили крепостные стены, несли сторожевую службу, ловили рыбу, охотились, пахали землю, водили дощаники, курили смолу, добывали соль. Это были предприимчивые и талантливые люди. В краеведческом музее есть образцы ткацких работ тобольских крестьян. Так тонко, с таким чутьем и художественным вкусом подбирали крестьяне краски для своих холстов, что их работы и сегодня восхищают. Да и все остальное – орудия рыболовства, предметы крестьянского обихода, какой-нибудь хомут или мочальная шлея – все было сделано с удивительной изобретательностью.
Смешно сказать: из всех музейных экспонатов больше всего запомнил куски крашеного холста и мочальный хомут. Но в нехитрых этих изделиях с полнотой и силой были воплощены представления наших предков о красоте.
А резное узорочье карнизов, наличников, ворот?
А церкви в стиле так называемого «тобольского барокко»? Странно видеть барочную архитектуру, эту причудливую пластику под сибирским небом. Но в ней легко угадывается все тот же порыв к красоте.
Когда думаешь о культуре исторического Тобольска, на ум неизбежно приходят слова «самый», «первый», «единственный»: первые каменные здания Сибири, первый театр, первая типография... Литературный журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» был первым периодическим изданием в Сибири и, кажется, единственным провинциальным журналом в России XVIII столетия. На титульном листе майской книжки журнала за 1791 год несколько строк из оды «К Фелице»: «Развязывая ум и руки, велит любить торги, науки и счастье дома находить». Каким достоинством и спокойной гордостью за свой край дышат эти слова – «и счастье дома находить».
У подножья южной башни кремля можно стоять бесконечно. С холма открывается редкий по красоте вид на бескрайние леса, Иртыш и нижний город. Вообще, знакомство с Тобольском советуют начинать с подгорной части, а еще лучше – с воды. Мне не довелось этого пережить, но легко могу представить, как должен поражать человека в лодке или на палубе теплохода вид парящих над головой белых стен.
Знаменитая рентерея («Шведская палата») – это бывшее хранилище государственной казны: шесть сводчатых залов над арочным проездом. Впрочем, под аркой, говорят, никто не ездил: путь в верхний город получился чересчур крутым. Торговый люд, должно быть, проклинал строителей, но сегодня их ошибка только веселит глаз. Перекинутое над Прямским взвозом белое здание выглядит очень нарядно.
Я спустился среди замшелых подпорных стен, нырнул под арку, отсчитал сто одиннадцать усыпанных листвой ступеней и вышел в подгорную часть Тобольска. Здесь, в нижнем посаде, жили ремесленники, обладатели ныне редких или вовсе исчезнувших профессий – безменники, оконичники, хомутники, юфтники, иконописцы.
Мне встречались белые особняки и административные здания в стиле русского классицизма, приземистые купеческие лабазы. Но в основном нижний город был царством дерева: рубленые дома, тесовые ворота, заборы. Были уголки, жизнь в которых словно остановилась: глухие палисадники, поленницы во дворах, потемневший от времени сруб баньки, мальвы под оконцем. При виде этих стремительно исчезающих примет русского провинциального быта в душу закрадывалась тревожная и сладкая печаль: не удержать, не взять с собой...
Захваченный властью старины бродил я по улицам Тобольска, но жизнь все настойчивей возвращала меня к настоящему. Среди куполов и в проемах крепостных стен как ласточки мелькали вертолеты, пылили по дорогам машины, мощные тягачи тащили плети труб.
Я заблудился во временах, забылся и вдруг увидел – между темнеющих домов догорал холодный закат. День кончился.
Я поужинал в полупустом ресторане и поднялся к себе. В холле постояльцы сидели у телевизора. Не снимая пальто, я остановился позади кресел.
Показывали хронику первых лет авиации. Они легко узнавались, эти старые ленты: мутноватые, моросящие кадры, люди с судорожными, как у марионеток, движениями. Гремел чарльстон. Киношники озвучили старые ленты, решив, что чарльстон, пожалуй, будет в самый раз. Под его забористый, немного глумливый мотивчик пытались взлететь хрупкие сооружения из планок, реек, перкаля. Они чадили, приплясывая, разваливались на взлете. Их создатели тряслись в своих креслах, падали, вскакивали – лихорадочные, нервные жесты, торопливые шажки. Поначалу все это смешило. Но аппараты снова бежали по траве исчезнувших аэродромов, рвались в небо... И тебя внезапно захлестывала нежность к этим машинам и их творцам в кожаных шлемах, очках-консервах и мотоциклетных крагах, к их растерянным, счастливым лицам в машинном масле и копоти.
Сидение в архиве, долгий, все не кончавшийся день в незнакомом городе, а тут еще эта хроника... Я понял, что скоро не смогу заснуть, и вышел прогуляться.
Было прохладно. Поднявшийся к ночи ветер студил лицо. Внизу под обрывом глухо шумела река, мигали огоньки буксиров.
«В полетах людей, даже неудачных, – писал Александр Блок, – есть что-то древнее и сужденное человечеству, следовательно – высокое». Древнее и сужденное... В самом деле, с каких незапамятных времен все это начинается! Наверное, еще с Дедала и его сына, неосторожного греческого мальчишки, который слишком близко поднялся к солнцу на крыльях из перьев и воска. Восемь веков назад в Византии один сарацин при большом скоплении народа решил сигануть с цирковой башни и перелететь ристалище «в длинной и широкой одежде из белой ткани, раздутой подшитыми ивовыми прутьями». Восхитительная подробность, придающая всей истории вкус подлинности. «Он оказался еще несчастнее Икара, – говорит очевидец про сарацина, – грохнулся наземь и испустил дух». От студенческих занятий древнерусской литературой остались в памяти строки: «...а иныи летает с церкви или с высокие полаты, паволочиты крилы имея». То есть на крыльях из ткани. Были там еще какие-то стрельцы и подъячие, летавшие на крыльях из голубиных перьев и бычьих пузырей. Вспомнился португальский монах, которого называли «Воадор» – летающий человек, потом – польский плотник, сделавший свои «лёты» из полотна и ясеневых реек. Всех этих летунов старались закопать живыми в землю или сжечь, но они продолжали мастерить свои «крилы», «махи», «лёты», исступленно рвались в небо... Неистребимое желание летать, пусть даже на крыльях из мешковины, делает этих упрямцев глубоко трогательными.
А крылья из мешковины сочинил тобольский житель, ссыльный малороссийский монах. Его дело попалось мне на глаза совершенно случайно. Кто знает, не посмотри я кинохронику, я, может быть, и забыл о нем. Не то чтобы уж совсем заурядная была история, но все-таки вне моих забот, и новые впечатления, видимо, скоро вытеснили бы из моей памяти историю тобольского летуна.
Молодая сотрудница архива по ошибке принесла другое дело. Называлось оно энергично: «О иеромонахе Феофилакте Мелесе, с себя монашеский чин сверзшего и во иеромонашестве более быть не желающего». Впрочем, все они здесь брыкались и супротивничали. Я убедился в этом, листая опись архива в поисках нужного мне дела. Так, например, в одном документе говорилось про иеромонаха Вассиана, который, «оставя свое дело, чинил безумное любопытство», в другом речь шла о «наказании Тобольской духовной консистории подканцеляриста Андриана Амелина плетьми за грубый ответ в присутствии». Наш Мелес тоже не особенно стеснялся в выражениях: «Сибирской губернской канцелярии присутствующих называл ворами, изменниками государевыми и произносил о Синоде непристойные речи».








