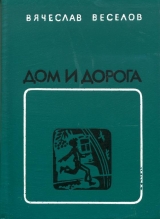
Текст книги "Дом и дорога"
Автор книги: Вячеслав Веселов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
ЛУКОВЫЙ СУП
Редактор решил, что мне будет интересно (не-без-ын-те-рес-но) вновь посетить... Вернуться на прежнее, на круги своя... «Сколько ты не был в этом городе? Лет пять? Семь! Вот видишь...» Ласковая улыбка. Патрон. Батя. Отец родной. Словом, решил, что будет не-без-ын-те-рес-но. Легко и привычно решает за других. Посмотрел бы на меня и увидел, как я скис, когда услышал про этот город.
И вот знакомый город, дела сделаны, и можно уезжать. Черт, командировка не ко времени и встреча эта ни к чему! Днем я не думал об Ирине. То есть боялся признаться, что хочу ее увидеть. И тут как тут он – ее муж, ее супруг – Анатолий.
– Хотите увидеть Ирину?
Я одарил его улыбкой, но на душе у меня было погано. Этот его жест – как бы дарение (не хотите ли?) – меня доконал. А Ирина уже шла навстречу знакомой танцующей походкой, раскидывая коленями полы легкого пальто.
Возле универмага была толчея, сновали лоточницы, у груды эмалированой посуды базарили цыгане. Ирина легко огибала толпу перед магазином. Я смотрел на нее и думал, как отчаянно мне не повезло. Позвонил бы утром, посидели где-нибудь, вспомнили прошлое. Есть что вспомнить. Поговорили и разбежались. Больше всего почему-то я боялся неожиданной встречи, но именно ее и получил. Это так походило на Ирину. Бывало, я возвращался из командировки и, еще не успев распаковать чемодан и разобрать бумаги, уже слышал на лестнице ее каблуки. Она вбегала с сияющим лицом и говорила, чуть задыхаясь: «Тебя видели на вокзале. Вернулся? Жив! – Она торопливо целовала меня. – Небритый, ужас!» Была в ней эта внезапность, преждевременность. Я лениво журил ее. Смеясь, она говорила, что это-то как раз и хорошо – преждевременность, что так и надо жить – впереди себя. В такой философии, наверное, есть свой резон, но тогда я больше всего хотел порядка и равновесия. Лишь позднее стал я замечать, как выцветает жизнь, втиснутая в рамки режима и контроля, как сушат ее всякие предумышленные схемы. Но к тому времени мы с Ириной поменялись местами: мои дела пошли вразнос, а она получила то, чего, в сущности, и хотела по-настоящему – устойчивость, порядок, прочность.
Ирина приветливо кивнула мне, вспыхнув при этом, но быстро справилась с волнением. Она заботливо и небрежно поправила мужу шарф – нарядный шарф из шотландской шерсти, явно купленный ею. Я никак не мог связать небрежность ее жеста с такой очевидной нежностью. И вот что странно: связать не мог, но их отношения вдруг стали мне ясны.
Они мне понравились – спокойные, сдержанные. Не то чтобы постаревшие, но другие. Даже так подумалось: постаревшие, но молодые. Я поймал себя на дешевых парадоксах: старые – молодые, небрежность – нежность... Словом, соображал я неважно.
У Анатолия было бледное, чуть одутловатое, но приятное лицо с теплыми карими глазами. В Ирине же меня не то восхищала, не то раздражала мучительная похожесть ее теперешней на ее прежнюю. Интересно, каким они видели меня? Что-то я начал заводиться.
Меня приглашали в гости, я слабо отказывался, злясь на себя, потому что не мог решить, как мне себя вести, будто надо было это решать. В самом деле, что может быть естественней встретиться и поговорить с давними знаковыми. Знакомыми? Ладно, говорил я себе, мягкость, терпимость, ровность. Да, это, пожалуй, лучше всего – ровность и даже некоторое радушие, быть может. Я бы, наверное, успокоился, если сам пришел к этому. Но нет! Они вдвоем (семья!), не сговариваясь, легко навязали мне этот непринужденный и радушный тон: мол, чего уж там, встретимся, поговорим... Короче, было решено, что я переночую у них на даче.
– Можно улететь завтра днем, – сказал Анатолий. – Есть еще рейс.
Они вполголоса заговорили между собой.
– Я на минутку к портнихе, – быстро говорила Ирина. – Потом заберу Димку и – к старикам. Димка что-то куксится. Кажется, простуда. Мать взялась вылечить, приготовила отвар. У них полно еды. Мать говорит: забери, тебе надо мужиков кормить.
Ирина мельком взглянула на меня.
Она снова бежала. Я смотрел на Ирину, стараясь найти в ней перемены. Я ждал, что во мне проснется холодная и злая наблюдательность, но, как и раньше, видел лишь знакомое. Она заметно пополнела, но по-прежнему казалась легкой и стремительной. Я вспомнил и вновь пережил это несоответствие между ее легкостью и тяжестью, которое так меня потрясало... Она летела навстречу, едва касаясь земли, я брал ее на руки и вдруг чувствовал неожиданную, такую женскую тяжесть...
– У меня дело в КБ, совсем короткое... – Анатолий посмотрел на часы. – Не хочу вас таскать за собой. У них там, знаете, пропуск надо заказывать. Может, погуляете? Денек-то сегодня! – Он сделал широкий жест, словно дарил мне этот осенний денек. – Знаете поселок на Увалах?
Я пожал плечами: дескать, кто же его не знает.
– У нас там дача. – Анатолий улыбнулся. – Как бы дача... Все не можем достроить. Вы легко ее найдете. Автобусом до Увалов, потом – вдоль поселка до дороги в лес. Там новый дачный поселок. Идите по левой стороне. Я вас встречу.
У меня был час времени, его куда-то надо было деть. Я вспомнил Анатолия: «Может, погуляете?» Но это было бы бездарно – гулять по знакомым улицам и растравлять себя воспоминаниями. Что-то обязательно зашевелится в душе, начнут расти тоска и жалость к себе, от которых потом уже не отвертеться. Знал я за собой эту привычку киснуть.
Раскинув умом, я решил уехать на Увалы. Там, в осеннем лесу должно быть хорошо – свободно, просторно, холодный чистый воздух...
С остановки автобуса (ее теперь перенесли к плотине) я хорошо видел знакомую пельменную – старое, конца прошлого века, но еще крепкое (каменный низ, деревянный верх) здание. Впрочем, здание это трудно было не заметить, как-то уж очень отдельно стояло оно от города. Рядом была река, а за нею начинались сады, гаражи, пригородные огороды, лодочная станция – город кончался.
Раньше на месте пельменной была закусочная, а еще раньше – чайная. А в самом начале здесь, должно быть, располагался постоялый двор или трактир. На задах этого строения еще оставалась ветхая коновязь. «Последний кабак у заставы», – сказала однажды Ирина. В своих художественных вкусах она не двинулась дальше передвижников, но всегда к месту вспоминала имена или названия картин, какой-нибудь пейзаж или уличная сцена вызывала в ее памяти работы любимых художников. «Последний кабак у заставы». Кажется, у Перова есть такая картина: догорающий в конце улицы ледяной закат, красноватые окна домов в сумерках, лошади у крыльца трактира. Должно быть, в этом доме и вправду был трактир. Я легко мог представить, как мужики из окрестных деревень, приезжавшие в уездный город за покупками, прежде чем пуститься в обратный путь, останавливали лошадей у коновязи, заходили в тепло кабака и пропускали стопку перед дорогой.
Мы с Ириной любили эту харчевню и зимой часто забегали сюда с мороза, в тесноту и парное тепло... Гул голосов, запах овчин и отсыревшей одежды, пар над мисками с пельменями, тесноватый уют. Выискивая местечко, мы медленно двигались между столов, какой-нибудь мужик в тулупе, сидевший над похлебкой, говорил Ирине: «Садись, девка!» – и она, в шубке и енотовой шапке, раскрасневшаяся, благодарно улыбалась, глаза ее блестели...
Самое время было выпить. Причем, неплохо это было бы сделать с Анатолием. Но я знал, что он не пьет. Об этом мне однажды сказала Ирина. «Хочет дожить до ста лет?» – спросил я. – «Нет, – ответила она. – Он говорит, что иногда ему хочется загудеть, но даже после безобидных пирушек пальцы его не слушаются... Ему надо беречь руки». После института Анатолий работал в КБ, потом перешел на опытный заводик, нашел себя в изготовлении миниатюрных инструментов. Сочинял и сам же их делал – такой умелец! Он был из породы тех мастаков, которые могут на рисовом зерне написать изречение или даже изобразить «Утро в сосновом лесу». Теперь он делал инструменты по заказам кардиохирургов и других тонкачей. Некоторые свои изобретения он запатентовал. Я читал о нем в центральной прессе.
Когда у нас с Ириной все рассохлось, когда наступила пустота, тем не менее поглощавшая все мои силы, когда на меня накатила тоска и я начал дурить и выпивать в случайных компаниях, я вечерами обязательно заходил в «последний кабак у заставы», точно надеялся встретить там Ирину. Помню, как я сидел над стаканом вина в мутно-желтом, сумеречном свете, перед закрытием пельменной, а рядом, сложив руки поверх фартука, стояла не то повариха, не то мойщица посуды и говорила: «Ну чо убиваисси, малец! Убиваисси-то чо?»
Сюда, в эту грязную харчевню я и затащил Ирину для «последнего разговора». И хотя к тому времени от прежней нашей жизни ничего не осталось и Ирина заметно отдалилась от меня, я все не хотел поверить, что она меня бросает. И вот что постыдно: не мог или не умел понять, что происходит, а ждал, надеялся...
Я взял вина, Ирина пить не стала. Она говорила спокойно, но с какой-то скрытой страстью, точно защищала и хотела сберечь мир, в котором мне уже не было места. «Нет, – говорила она, – нет... Не могу... Я должна... Тебе незачем с ним знакомиться». (Потом я встретился с Анатолием. Некрасивый, но, что называется, симпатичный. Инженер. Никакого юмора. Скромный парень, зато надежный.) Мне показалось, что Ирина сейчас встанет и уйдет. В торопливой попытке втянуть ее в разговор я схватился за первые попавшиеся слова.
«Нельзя все бросить разом», – сказал я.
«Нет, только так – разом».
«Для этого должны быть веские основания».
«Он любит меня. Это достаточное основание».
«Я тоже люблю».
«Мне хочется тепла. Тепла и прочности. Это еще одно основание».
«Тепла? Довольно скромное желание».
«Для меня и этого много. Я не избалована. Ни одно из моих заветных желаний не исполнилось».
«Так не бывает».
«Ты не слушаешь меня. Не хочешь слушать. Я устала. Устала от вечной настороженности, тревог...»
«От тревог не убежишь».
И тут она взорвалась.
«Я устала надеяться только на себя, верить только себе. Я устала быть нянькой чужого тщеславия, устала от талантливых ребят с их уязвленными самолюбиями... Я всегда была только рядом, под рукой. Меня, какой я себя знала и чувствовала, такой меня как бы и не было вовсе. Я хочу спастись...»
«Спастись? От чего? От жизни?»
«Не забирай так высоко! Спастись от одиночества. – Она помолчала. – Анатолий много работает, но он говорит о работе и о себе, когда я этого хочу. И он умеет слушать... Видишь, как немного мне надо. – Ирина улыбнулась. – Я оттаяла, живу...»
Я привязался к этому словечку «живу» и, злясь на собственную слабость и теряя себя, гаденько ухмыльнулся, словно намекая, что понял слово «живу» в самом откровенном и грубом смысле.
Ирина посмотрела на меня без всякого выражения. Монолог опустошил ее. Редко говорила она с такой горячей искренностью.
Насчет «чужих тщеславий» и «уязвленных самолюбий» я все понял. После института у Ирины был роман с одним скульптором – громоздкий такой парень с безумными голубыми глазами и неопрятной рыжей бородой. Он, помнится, сочинял какие-то решетки из кованого железа, резал алюминий, баловался сваркой, осваивал новые материалы, искал себя, все более ожесточаясь... Кажется, ни черта из него не вышло. В свое время и я сделался похожим на этого ваятеля. Мы пришли в областную газету – трое выпускников университета – полные надежд и молодого энтузиазма. Редактор улыбался и говорил про «свежую кровь, которая омолодит газету». Мы слушали, развесив уши, и верили редактору. Но организм газеты сопротивлялся притоку чужой крови и не спешил омоложаться. Статьи, которые мне казались «проблемными», воспринимали спокойно, другие – не печатали вовсе. Я ругался с ответственным секретарем, хандрил, бесился... Словом, Ирина получила еще один вариант рыжего ваятеля, правда, менее громоздкий.
Низкое солнце заливало полупустой автобус: время рабочее и день будний. Накатанное шоссе блестело. В открытые окна залетал свежий воздух с полей и гул тракторов. Над убранными полями реял тихий осенний свет.
Я вышел на Увалах. Автобус покатил дальше, исчезло за лесом его тонкое, замирающее пение, и я услышал над головой бегущий шум ветра и слабый, едва различимый звон падающих листьев. Пахло прелым листом, из поселка тянуло дымом. Домики пригорода были хорошо видны среди поредевших рощ.
Листья шуршали под ногами, томительно пахло травой, холодеющей землей, а во рту все еще держалась горечь осиновой ветки, которую я сорвал на ходу.
В полях густели сумерки, город с Увалов казался далеким, чужим. Из низины тянуло сырым холодом. Резкая осенняя свежесть жгла лицо и заставляла тебя глубоко дышать. Чего же киснуть, вдруг подумал я. Чего растравлять себя? Ведь и мы с ней были счастливы.
Приятель укатил в отпуск и оставил мне свою квартиру: я все еще жил в общежитии. Как молодо, по-студенчески счастливы были мы в ту весну! Ирине нравилось чувствовать себя хозяйкой. Она навела порядок в захламленной холостяцкой квартире, «освежила», как она выражалась, мебель, из комнаты исчез застарелый запах табака, на столе теперь стояли цветы, а возвращаясь из редакции, я заставал Ирину с вязаньем – в кресле, под зеленой лампой. Утром в коротком халатике Ирина уже стояла у плиты, из кухни тянуло свежезаваренным чаем, в открытую форточку долетал шелест шин и птичьи голоса.
Иногда мы завтракали в кафе напротив. Оно располагалось в цокольном этаже ресторана «Москва», и Ирина окрестила его «Подмосковьем». В утренние часы в кафе было безлюдно, немного дымно, под низким потолком плавали теплые запахи теста и кофе. Солнечные лучи еще попадали в этот полуподвал, играли на голубых, покрытых пластикатом столиках. Нас встречал буфетчик – приветливый белокурый парень с девичьим румянцем. Должно быть, выпускник торгово-кулинарного училища. Он откровенно восхищался Ириной. Она улыбалась, заговаривала с ним, немного кокетничала. Парень отвечал ей всегда серьезно и обстоятельно. С той же серьезностью он предлагал нам что взять. Обычно это была какая-нибудь ерунда – салат, закуски или дежурная яичница. Но мы послушно следовали рекомендациям буфетчика. Однажды он самолично приготовил нам яичницу с зеленью по какому-то редкому, якобы только ему известному рецепту.
Дни стояли солнечные, весна набирала силу, а потом неожиданно зарядили холодные дожди. Отопление в доме уже было отключено, и вечерами у нас зуб на зуб не попадал. Мы натягивали на себя шерстяные вещи, какие отыскали в квартире, ставили на плиту чайник. Среди книг моего приятеля я нашел початую бутылку рома. Мы сидели на кухне – Ирина в мешковатом свитере, я в стеганой куртке – и согревались чаем с несколькими каплями рома, старушечье такое питье. Очень нас сблизили эти вечерние сидения в холодной квартире. Так мне тогда казалось.
Я брел вдоль дощатых заборов, за которыми прятались домики под тесовыми крышами. Дымки над трубами, винный запах гниющих яблок из сада, темные углы, заваленные прелой листвой, во дворах, на черной земле – розовый картофель, рассыпанный для просушки. Возле крыльца мужик пропаривал кадку: я видел пар и слышал запах смородинового листа. Скрипел колодезный ворот, откуда-то из соседнего двора долетал размеренный стук – рубили капусту. Так ясно, так отчетливо слышались в прохладном воздухе все звуки. С неожиданной радостью я вспомнил строчки: «В нем шинкуют, и квасят, и перчат, и гвоздики кладут в маринад», – и тут почувствовал, что меня отпустило. Сердце больше не щемило, мысли пришли в порядок, и последняя наша с Ириной встреча, воспоминание о которой всегда вызывало у меня острую тоску, теперь показалась далекой, словно это произошло не со мной, а с кем-то другим: теплый летний вечер, перрон... Застывшая, туманная картина с размытыми краями. Ирина пришла на вокзал в строгом шерстяном костюме, немного усталая. Волосы ее были уложены по-новому, на безымянном пальце блестело обручальное кольцо. Она протянула мне картонную коробку. Это был дорожный набор: мыло, лавандовая туалетная вода... «Лавандовая нота в строгом английском стиле, изобильный аромат с постоянным изяществом», – так, немного не по-русски, было написано на крышке этого дорожного набора. Немецкого, что ли? Тепловоз негромко крикнул, и состав тронулся. «Прощай!» – сказала Ирина и поцеловала меня горячими сухими губами. Давно это было.
Анатолий шел мне навстречу, размахивая руками.
– Давно здесь? А я только что приехал. Спешил, боялся разминуться с вами.
Спешить-то спешил, однако ж и переодеться успел. На нем была куртка с капюшоном, бумажные брюки, на ногах тяжелые ботинки.
– Погуляем? Ирины пока нет, но она скоро будет, приготовит что-нибудь. Мы поспеем как раз к столу.
Я легко согласился. Интересно было наблюдать, как быстро меняется погода. Все заметней темнело, все тревожней был шорох листьев и шум кустов, в которых метался ветер.
Мы миновали дачный поселок и выбрались на дорогу. Шоссе улетало в закат, на нем играли последние отблески холодного осеннего дня. Ветер гнал над дорогой низкие рваные облака.
– Что слышно про войну? – вдруг спросил Анатолий.
– Про войну? – Я остановился. – А почем мне знать. Я ведь не в Пентагоне служу.
– Мне казалось, что большой мир вам все-таки ближе, что вы, может быть, знаете то, чего мы не знаем. – Он, похоже, уловил глухое раздражение в моем голосе, но и не думал оправдываться. – Я все чаще думаю об этом. О войне и о другом, о чем раньше не думал. То ли жизнь изменилась, то ли я стал другим. После смерти отца у матери на руках остались трое. Институт пришлось бросить. То есть перевелся на вечернее отделение, стал работать. Вот уже десять лет занимаюсь своими игрушками. Работа интересная, в силу вошел, все вроде у меня получается. Но все чаще стал замечать, что живу в каком-то непонятном напряжении, в тревоге... Откроешь газету, а там – войны, перевороты, политические убийства. Читаешь эти новости и чувствуешь, что и тебя они касаются, да так близко, что и объяснить себе не умеешь. Природа неожиданно распоясалась: циклоны, землетрясения, лесные пожары. А может, она и раньше себя не лучше вела. Может, оттого я вдруг стал все это замечать, что Димка у меня есть, сын... Прочитаешь за чаем какую-нибудь ерунду, ну, скажем, про то, что в двадцать первом веке климат будет на два градуса теплее, и подумаешь, что Димка тогда будет жить...
– Да ведь и мы, даст бог, дотянем.
– Наверное. Но не о себе думаешь. Потому, видать, так тревожно, так неуверенно... За себя-то легче отвечать.
Я сказал, что такова психология отцовства, хотя тут же подумал: какого черта я ему про отцовство толкую, если у самого ни ребенка, ни кутенка.
Мы вышли на опушку леса. Ветер, налетавший из холодных полей, бил по лицу, оставляя на губах запахи прели и сырой травы.
– Совсем темно, – сказал Анатолий. – Пройдем вон тем леском и будем возвращаться.
Лес шумел беспорядочно и глухо, но в этом беспорядочном шуме, если прислушаться, можно было различить низкий, ровный гуд сосен. Здесь, за Увалами начались знаменитые ленточные боры.
– Бывали в Японии? – спросил Анатолий.
Господи, что у него за привычка задавать дикие вопросы! И почему Япония? Они, видать, думают, что если ты служишь в большой газете, то у тебя только и дел, что шастать по заграницам. Я вспомнил о письме, которое ждало меня в редакции и с которым я должен был разобраться. Одна пенсионерка писала, что у них во дворе бульдозером своротили уборную. Старушка требовала корреспондента, «расторопного юношу», который бы на месте «во всем разобрался» и помог жильцам «призвать виновных к ответу». Вот дело, которое ждало меня по возвращении.
Я сухо сказал, что служу в отделе внутренней информации и в Японии не был.
– А я был, – просто сказал Анатолий. – Год назад запатентовал две свои штуки, они хорошо пошли, и меня в порядке поощрения наградили путевкой на Токийскую выставку миниатюрных инструментов. Японцы, знаете, большие мастаки в этих вещах. Но я не об этом. Добирались мы морем – двое москвичей, один мужик из Львова и я. Шли Сангарским проливом. День, помню, был серенький, низкие тучи над водой, зыбь. И вдруг слева по курсу, рядом с нами всплыли две американские подводные лодки. Гадины, подумал я. Почему-то именно это слово пришло на ум. Однажды в Ленинграде я видел на Неве подлодку времен войны. Даже рядом с буксиром она выглядела маленькой, почти игрушечной, пушчонка на носу, несерьезная такая пукалка. Короче, никакого страха, ничего такого я не испытал тогда. А эти вынырнули, вода вокруг заходила, огромные, покатые черные рубки блестят... По одним лишь рубкам можно было представить, какие это громадины. Гадины, подумал я, гадины. И вдруг вспомнил Димку. – Анатолий помолчал. – Вот видите, я снова о своем, – сказал он как бы извиняясь.
– Нет, я понимаю...
Деревья над нашими головами теперь шумели не просто тревожно, но угрожающе. Меня вдруг прошиб озноб.
– Сюда, – говорил Анатолий, прибавляя шаг, – сюда... – Он продолжал говорить на ходу, я его не видел и только слышал сквозь ветер: – Димка... сын...
Молодые сосны упруго ходили под сильным ветром. Это был какой-то незнакомый шум. Похоже, мы заблудились.
– Странно, – сказал Анатолий. – Здесь рядом должно быть шоссе.
Мы прислушались. Ничего кроме ветра не было слышно.
– Ирина, наверное, заждалась нас, – виновато сказал Анатолий.
Из темноты рвало ледяным ветром. Хотелось спрятаться от него, не обязательно в тепле и уюте, а хотя бы просто отгородиться четырьмя стенами. Я вспомнил, как остро чувствовалось одиночество на ветру – в Арктике, на закатной Лене в конце сентября, в пустыне, когда дул афганец и над раскопками висела желтая мгла.
– Где мы, Сусанин?
– Не знаю...
Меня трясло от холода, я все сильнее злился на своего проводника и вдруг тихо рассмеялся: в конце концов, это было смешно – заблудиться в двух шагах от дома.
И тут за черными стволами сосен мы увидели проблеск фар.
На шоссе ветер тянул ровно и сильно – тугая стена ледяного воздуха. Рядом проносились машины. Мы не слышали шума моторов. Мы вообще ничего не слышали, кроме мощного и ровного гула ветра.
Озябшие, молчаливые, оглохшие от ветра мы шагали в темноте. За деревьями мелькнул слабый огонек. Мы прибавили шаг и скоро услышали запах дыма, жилья, кухни.
– Ирка! – Я уловил в голосе Анатолия нескрываемую нежность. – Луковый суп! – Он рассмеялся. – Знаете, она откопала где-то рецепт лукового супа и все не может успокоиться. Я ем это варево через день. Но ничего, мне нравится.
Ирина в пестром переднике стояла у плиты. Она обернулась с выражением непонятного мне испуга и радости. Должно быть, и вправду волновалась за нас.
– Наконец-то! – Ирина подошла, держа на весу выпачканные в муке руки. Лицо ее было красным от печного жара. Она на миг приникла ко мне. – Я боялась, что не увижу тебя...
– Принести тебе воды? – быстро спросил Анатолий.
– Не надо. Мойте руки и за стол. Все давно готово.
Я умылся ледяной водой, постоял на ветру под звездами, а когда вернулся в тепло и свет, стол уже был накрыт. Пахло укропом, лавровым листом, в тарелках дымился луковый суп.
Я сидел с горящим лицом, чувствуя на скулах и щеках приятное покалывание. Ветер шарил по стенам дома, гудел на недостроенном чердаке, гремел куском жести на крыше, стонал, тоненько пел в щелях. Дом скрипел, как парусник в штормовом море. Но этот кров в ночи был прочным. Мне было тепло и покойно. Может быть, этого тепла и покоя, пусть ненадолго, я и хотел весь день.
1984








