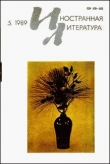Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 49 страниц)
Песня «Хороша наша деревня – Кочаны!» поставлена эпиграфом к рассказу «Мужики». Плясунья и песенница Проска «нарубает скороговорку девичьей песни»173. Через песню описывается подготовка к свадьбе и свадебный обряд: «Изба кружилась в вихре песен, топота и свиста, в вихре красных, голубых, малиновых повязок и лент, в блеске стеклянных бус, серебра кокошников, в пламени кумача» (С. 62) Восхищение автора вызывают танцы Аксюши и Тани («Тишина»), Христа («Утро в Вяжном»). Народный поэтический космос представляет описание гуляния в Вяжном: «Белая береста стволов и белые девичьи платки кучились в изумруде зелени, точно облака в небе, так что не было конца земле и начала небу» (С. 175).
Этой поэтичной народной культуре противостоит культура, принесенная городом. О своеобразном видении Фединым современной деревни газета «Правда» напечатала возмущенную статью критика-марксиста В. М. Фриче: «Что же увидел автор книги „Города и годы“ в современной деревне? <…> появление нового типа – мужика, побывавшего в городе, красноармейца, вернувшегося в деревню. Мы привыкли думать, что он <…> является в деревне проводником советских начинаний». У Федина не так. Это «насадители новой культуры, однако культуры только в смысле новых плясок, новых половых отношений и в конце концов хулиганской психологии»174. Близкое фединскому противопоставление деревни и города критики обнаружили и в книге Иванова «Тайное тайных».
Зловещий образ «понукальщика» представлен Фединым в повести «Трансвааль». Слово «культура» не сходит у Сваакера с языка: «…я иностранец, я понимаю культур, долг культурный человек» (С. 111), «Мы культурный люди, мы обязаны править руль событий» (С. 112). «Этот молоточек я начинал весь мой маленький культурный дело, мой Трансвааль!» (С. 143) и т. п. Показательно, что Сваакер не умеет петь: романс «Над озером тихая ш-шайка летит…», исполненный им на «Культурном, музыкальном и вокальном вечере для трудящихся граждан-крестьян» (119–120), вызывает у мужиков хохот и насмешки.
В основе сюжета повести лежал реальный факт – история некоего Юлиуса Саарека, создавшего в деревне Павлиново предприятие «Трансвааль-жернов». Федин узнал о Саареке в 1923 г., в свой первый приезд на Смоленщину. Сама действительность подарила писателю материал для масштабного обобщения. В описание личности и деятельности реально существовавшего человека Федин внес существенные дополнения. Из статей, печатавшихся в периодике 1928 г., известно, например, что Саарек был «голубоглазый, коренастый, с бритым умным лицом»175. В портрете фединского героя поражает прежде всего искусственность, сделанность: вставной стеклянный глаз и вставные челюсти. Не случайно «картавый, лысый, необычный человек» (С. 97) кажется мужикам «выдуманным, а не настоящим» (С. 102). Реальный Саарек построил мельницу, провел радио, организовал телеграф, почту, дал деньги на постройку нового здания исполкома, новой школы. Федин придает действиями своего героя масштабность «пришествия» (С. 102): «Вильям Сваакер, съездив <…> в город, привез оттуда с собой революцию» (С. 103). Именно он разъясняет мужикам вопрос о власти: «Вот – ты! Ты боронишь, косишь, пахаешь? Вот ты – власть! <…> Ты – кузнец? <…> Ты – власть! <…> Мой рука мозольна – я власть, да!» (С. 104), о войне и земле: «… новый власть одной рукой будет кончать война, другой рука будет разделять наша матушка-кормилица земля» (С. 106), о национальной политике. Он отрицает Бога и планирует электрификацию всей страны: «Культур!.. Сваарек будет делать электричество в каждой деревне» (С. 143).
Далеко не случайно у критиков по поводу героя Федина возникали серьезные сомнения. Лишь некоторые определили Сваакера как «сельского кулака»176. В статьях наиболее проницательных критиков деятельность Сваакера была понята более адекватно: «Жуткая фигура Сваакера расширена автором до символических размеров нового варяга, пришедшего покорить Россию», – писал Ф. Жиц, назвавший повесть Федина «одним из самых „пессимистических“ художественных документов за время революции»177.
В 1925 г. Федин, как и Иванов, уловил страшную угрозу живой народной культуре, идущую от «понукальщиков», угрозу расчеловечивания национальной жизни. Об этом же он напишет 10 февраля 1925 г. М. Зощенко в письме, посвященном повести «Страшная ночь», герой которой с ужасом предчувствует изобретение «электрического треугольника»: «Мне кажется, что никто не сумел до сих пор так потрясающе зло и так грустно сказать об ужасе нашего времени, как ты в своем Борисе Ивановиче Котофееве. Конечно, нам ничего не осталось, как только бежать на колокольню и бить в набат»178.
Отдельная и самостоятельная тема – внутренняя связь книги «Тайное тайных» с творчеством новокрестьянских писателей, прежде всего – С. А. Есенина.
В уже цитированном нами плане автобиографии Иванов записал: «Памятник Пушкину. Легенда о Есенине. Здесь „Тайное тайных“» (ЛА). Откомментировать эту запись можно по-разному, но несомненно одно: в сознании самого писателя книга «Тайное тайных» соединялась с именем и судьбой («легенда») С. Есенина.
С творчеством поэта Вс. Иванов познакомился задолго до личной встречи в Москве в 1923 г. В среде сибирских литераторов, с которыми Иванов общался в 1916–1919 гг., были поэты, близкие Есенину и по тематике – крестьянская Русь, и по образной системе, во многом опирающейся на фольклорные традиции. Один из них – земляк Есенина Иван Ерошин. Он оказался в Сибири в 1918 г. и исходил пешком весь Алтай в поисках «Нового Китежа». Близок Иванову был и Александр Оленич-Гнененко, автор поэмы «Калики перехожие» (1916): «Шли калики перехожие / От двора и до двора/ Золотые и похожие / Половели вечера… / Пали щедро росы синие / На душистую гречу. / Кто-то теплил в Божьей скинии / Воску ярого свечу…»179. Одна из центральных в крестьянской поэзии оппозиций – противостояние железной цивилизации и Матери-Земли – раскрывается в поэме в диалоге Богородицы со странниками. «По лесам, где ели скошены / Бродит суте-мень да мга. / Смрадным углем запорошены / Почернелые луга. / Благодатную, цветущую, / Пожалейте Землю-Мать»180, – обращается к людям Матерь Божия. Темы земли, крестьянского труда были ведущими в творчестве еще одного сибирского поэта, К. Худякова, близкого друга Вс. Иванова по совместной работе в 1916–1917 годы в типографии г. Кургана. Ему Иванов подарил книгу С. Есенина «Радуница» с надписью «Кондратию Худякову для поминовения Вс. Иванова. 21.11.1917 г.»181 Добавим к перечисленным фактам литературной жизни, что вопрос: «Кому земля достанется?» – был предметом широкого обсуждения в той общественно-политической ситуации, в которой оказались в 1917-1920-е годы сибирские литераторы. Из автобиографии Иванова известно, что он в 1917 г. вступил в партию эсеров, членом этой партии был Худяков, бывший секретарем редакции эсеровской газеты «Земля и труд», где печатался сам и публиковал рассказы Иванова. В 1918–1919 гг. лозунг «Великой Крестьянской Демократии» выдвигался правительством адмирала Колчака в противовес «всеобщему по-равнению» большевиков. Какими бы ни были политические воззрения молодого Вс. Иванова, вопросы о судьбе деревни при меняющихся властях и политиках являлись для него достаточно значимыми. Свидетельство тому – произведения этих лет, где крестьянская тема одна из ведущих: «Вертельщик Семен», «В зареве пожара», «Мать», «Купоросный Федот» и др.
Переезд в Петербург в 1921 г. и общение с «серапионовыми братьями» на какое-то время существенно меняют литературные пристрастия Вс. Иванова в сторону, можно сказать, большей «литературности». В 1920 г. умирает от тифа К. Худяков, прерывается переписка с Сибирью и, соответственно, ненадолго отходит в сторону «есенинская» лирическая тональность произведений Иванова. Переезд в Москву в 1923 г. стал для писателя во многом возвращением к главным темам сибирского периода, а общение с С. Есениным и другими новокрестьянами дало возможность по-новому прочитать уже знакомые Иванову темы. В наибольшей степени это возвращение отразилось в «Тайное тайных».
С художественным миром Есенина связано в «Тайное тайных» многое: сюжетные мотивы, характеры, типы героев и т. п. Так, сюжетная линия рассказа Иванова «Плодородие» – обман мужиками городских властей, – возможно, восходит к одному из эпизодов поэмы Есенина «Страна негодяев» (1922–1923), где Рассветов во время спора в поезде, восхищаясь богатствами Сибири, в частности золотоносными жилами, рассказывает, как в Америке, на Клондайкских золотых приисках, несколько мошенников, купив немного золотого песка, расстреляли его из ружей в горах и представили как открытую ими золотоносную жилу. Заключительная сцена рассказа «Жизнь Смокотинина» содержит почти прямые переклички со знаменитыми строками Есенина: «Чтоб за все за грехи мои тяжкие, / За неверие в благодать / Положили меня в русской рубашке / Под иконами умирать»182 («Мне осталась одна забава…», 1923). Есенинская лирическая маета, с «отчаянным хулиганством», отказом от веры отцов и тоской без нее – эти и другие настроения присущи героям рассказов «Тайное тайных». Слова Номаха из поэмы «Страна негодяев»: «Я потерял равновесие…/ и знаю сам – / Конечно, меня подвесят / Когда-нибудь к небесам…»183 – мог бы, наверное, повторить любой из них.
С Есениным и шире – с новокрестьянской поэзией – связана и одна из ключевых тем книги «Тайное тайных» – тема матери. Один из первых рецензентов «Тайное тайных» писал, что в «Яицких притчах» и «Бегствующем острове» Иванов решился на «интересную и героическую постановку»184 темы матери. Природу «героизма» критик не уточнял и ограничился просто констатацией. «Художник подошел к хаосу не затем, чтобы его оправдать, а чтобы его преодолеть, как преодолевает мрак в своей душе необыкновенная казачка Марфа („Яицкие притчи“), идущая солдатом в красные ряды, вопреки казни пятерых сыновей для спасения шестого, – отметил еще один критик, С. Пакентрейгер, рассмотревший тему матери у Иванова в горьковском ключе. – Эта притча, несмотря на грустный конец (шестой сын оказался недостоин подвига матери), дышит, как море, освежающими ветрами революции, переродившими не только мать-казачку, но и того безымянного сказочника, от имени которого Иванов и передает легенду революции»185. Однако тема взаимоотношений матери и сына решена Ивановым в «Тайное тайных» скорее полемично по отношению к его учителю Горькому, для которого «правда» была связана с детьми и дорогой, выбранной ими. В этом смысле тяжелым раздумьям Иванова гораздо более близки поэмы и стихи С. Есенина и Н. Клюева, проза А. Платонова и М. Шолохова, которые «в 20-е годы <…> внесут в развитие вечной для литературы темы „отцов и детей“ и „блудного сына“ как центральный ее эстетический и этический центр образ матери»186.
Истоки этой темы в творчестве Вс. Иванова обнаруживаются в его ранних произведениях. Показателен рассказ Иванова «Мать», выявленный нами в фонде Антона Сорокина (ГИАОО). Приведем фрагмент из этого неизвестного текста – диалог повествователя и матери, проводившей сына на войну:
«Я попробовал утешить ее:
– Ничего не сделаешь, бабушка, – так нужно.
– Знаю нужно, а жалко. Умной парень-то, башкавитой. <…> Там, грит, не война идет, а грабиловка. Всех от мала до велика обдирают…
– А ребята что?
– Ребята не верют. Народ нынче безверный идет – ничему не верит. Спаситель придет, и не поверит.
– Почему же так?
– А не знаю. Людей должно много убили, верность в человека-то потеряли. Убил – и нету. Легко убить-то, ну значит и в слова не верют, потому из человека эти слова.
– Пожалуй… Старушка помолчала.
– Не верют. В людей не верют, в Бога не верют – не знаю, как жить будем…»187.
Образ матери, с горечью видящей неверный путь, на который вступили дети, оформляет своеобразный цикл «материнских» мотивов и сюжетов лирики С. Есенина, начиная от знаменитого «Письма матери» (1924); стихотворений и целой поэмы Н. Клюева («Песнь о Великой Матери», 1932). Совсем не в горьковском ключе написан диалог матери и сына в романе Л. Леонова «Вор»: «…Митька стал рассказывать матери, как это случилось. Склонив голову в черной косынке, она слушала Митьку, и губы ее шевелились. Митька даже различил слова: вас Бог накажет!..»188.
В «Тайное тайных» голос матери, глубже других чувствующей гибельность того пути, на который вступили дети, начинает звучать с рассказа «Ночь», где Марья Егоровна, обращаясь к сыну, нарушившему традиционные основы крестьянской жизни, «громко и внятно, будто на целый мир», произносит: «О, Господи, жисть-то как переклубилась! И ты туда же!» В «Яицких притчах» материнскую правду высказывают две героини. Молитва матери включена Ивановым в притчу «Про двух аргамаков»: «Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу: „Утиши, Господи, их сердца“, – молю». «Яицкие притчи» имеют общий финал, созданный Вс. Ивановым в традиции народного плача – причитания: «Сердце-то у меня с того времени будто полынью обросло… Все-то времечко на нем горечь, все-то времечко на нем слеза не высыхает…». В финальных строках рассказа появляется образ плачущего месяца. Вспомним у Есенина: «Как прежде ходя на пригорок, / Костыль свой сжимая в руке, / Ты смотришь на лунный опорок, / Плывущий по сонной реке»189 («Заря окликает другую…»).
Говоря о есенинском контексте «Яицких притчей», следует назвать также поэму Есенина «Пугачев» (1922). Рассказы Иванова и по месту действия – Урал (Яик), и по упомянутым историческим событиям («наши степи уральские – еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли…» – «Про казачку Марфу»), и по соотнесенности времен («…пришла намеднись воля. <…> по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты» – «Про двух аргамаков») непосредственно связаны с поэмой Есенина о Пугачеве, имя которого для автора ассоциировалось с послереволюционной эпохой. Разор в деревне, и в целом в России, осмыслялся в поэме в библейских символах: «И теперь по всем окраинам / Стонет Русь от цепких лапищ. / Воском жалоб сердце Каина / К состраданию не окапишь»190. К библейской истории Каина и Авеля восходит история братьев Егора и Митыпи из притчи Вс. Иванова «Про двух аргамаков».
На новокрестьянский поэтический космос идеологически и стилистически ориентирован рассказ «Поле», которым Вс. Иванов откликается на идущий в 1920-е годы «спор о мужике». Рассказ также возвращает нас к философско-историческим размышлениям молодого Иванова: «…погибнет народ сибирский, не сделав великое. Нужно нежно отнестись к земле, ибо это мать ваша; но вы не сыны ее и не может быть она матерью вам, потому что вы люди волки, люди пасынки земли..»191 – пророчествует один из героев рассказа «Сон Ермака». Каллистрат Ефимович из «партизанской» повести «Цветные ветра» «скучает по вере», ищет ее у христиан, у магометан, у большевиков, в лесном скиту и находит – на пашне. Частью могучей Земли предстает в лирических отступлениях повести человек: «Земля мычит, течет слюна, жует снега Земля. Дышит в сердце человека запахами вечными, нерукотворными.
Осилишь ли человек?
Не осилишь!
Плечи, как взбороненная земля. Грудь, как стога свежие. Голос в лугах теряется»192. На земле и находит человек истинную веру. Финальный эпизод повести символичен: Каллистрат Ефимович на поле, за плугом, развязывает мешок, достает ковригу: «Из мешка густо пахнуло на Павла хлебом»193.
Земля, поле, трава в «Цветных ветрах» Иванова, как и ветра, теплые, цветные, радостные: «на земле тепло», «обнимите дожди поля – и радуйтесь», «Вот горсть земли моей – цветет!» и т. п. Такими же предстают они в рассказе «Поле»: «Солнце стояло в теплом красном круге – смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна», «пашня походила на зеленую коломенскую скатерть».
Для критиков 1920-х годов была очевидна близость поэтики и миропонимания Вс. Иванова и С. Есенина. А. Воронский писал в 1924 г.: «У Есенина есть немало поэтических последователей, подражателей. Достаточно сказать, что проза Всеволода Иванова очень сродни „неизреченной животности“ и образности Есенина»194. Как и в ранних стихах С. Есенина, в ивановском «Поле», если воспользоваться словами критика, «деревенский уклад и деревенский быт взяты <…> исключительно с идиллической стороны. <…> В поле „вяжут девки косицы до пят“, <…> сохнет рожь, не всходят овсы: нужен молебен. Все тихо грезит, все издревле отстоялось, прочно осело. <…> От этой неподвижности хаты, овины, поле, речки, люди, животные кажутся погруженными в полусон, в полуявь»195. Описание посева в рассказе «Поле»: «Когда расцвела черемуха, начали сеять…» – отчасти перекликается со строками Есенина: «Сыплет черемуха снегом, / Зелень в цвету и росе. / В поле, склоняясь к побегам, / Ходят грачи в полосе»196. Отзвуки «стальной конницы» слышны в рассказе Иванова, как и в лирике Есенина: «черные обгорелые лесины» по краям поля, напоминающие «стаканы с кирпичным чаем», возвращают читателя к поезду, где Милехин пил чай с товарищем, и к другому поезду, в котором тоже пили чай, а Милехин, возвращаясь в деревню, прятался два дня под лавкой. «Идиллический» мир в конце рассказа разрушен: возвращение героя домой в «святое время» не состоялось – его арестовывают как дезертира.
Несмотря на отсутствие «висельных» мотивов, сцен убийства и насилия, рассказ «Поле» вызвал у критики столь же злобное негодование, как и книга в целом. Уничижительные сентенции Ермилова о «завязшем в своих липких испражнениях человечишке» относятся именно к мирному «Полю».
Возмущение критиков понятно: уже опубликованы «Злые заметки» Н. Бухарина, где осуждена «есенинщина»; праведный гнев «бодрых людей, в гуще жизни идущих храбрых строителей» обрушился на «внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни»197. Строки Н. Клюева «Маета – змея одолела / Без сохи, без милого дела»198 (поэма «Деревня», 1927) в это время расценивались как проявление «темного биологического инстинкта». Что касается работы крестьянина в поле, то о ней предлагалось, видимо, писать примерно так: «Хорошо в лучах на сенокосе, / Если ветер по полю разносит / Крепкий запах кулеша и хлеба… / Мы неделю на поемах жили, / И тюремной клеткой были / Нам земля и голубое небо»199.
«Греза мужика о земле»200 – так сформулировал сам Вс. Иванов основную мысль рассказов «Полая Арапия» (1921) и «Дите» (1921) – определила еще одну важную тему книги «Тайное тайных» – тему праведной обетованной земли, так же, как и у новокрестьянских поэтов, представленную в традициях народного утопического идеала.
Первые послереволюционные годы в литературе вообще отмечены возвращением к жанру утопии: «Инония» С. А. Есенина, «Белая Индия» Н. А. Клюева, «Ладомир» В. Хлебникова, «Голубые города» А. Н. Толстого, «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А. Чаянова и др. Стремясь увидеть в революции воплощение крестьянских ожиданий, традиционно выраженных в русской народной культуре символическими образами сокровенного Китеж-града, Индийской земли, Беловодья, новокрестьяне широко использовали их в своем творчестве, «…в революции они усилились видеть прежде всего начало осуществления чаяний, запечатленных в образах „Китеж-града“, „мужицкого рая“»201, – отмечает С. Г. Семенова. Однако буквально через несколько лет эти образы предстанут в творчестве новокрестьянских писателей в трагическом свете – как знак обманутых надежд. Так, Есенин в «Песни о великом походе» (1924) сопоставляет представление о мужицком рае: «За один удел / Бьется эта рать. / Чтоб владеть землей / Да весь век пахать. / Чтоб шумела рожь / И овес звенел. / Чтобы каждый калачи / С пирогами ел»202, – с реальностью: «Опустели огороды, / Хаты брошены. / Заливные луга / Не покошены. / И примят овес, / И прибита рожь. / Где ж теперь, мужик, / Ты приют найдешь»?203. В 1928 г. Н. Клюев в поэме «Погорельщина» создает реквием стольному граду Лидде на «славном Индийском поморий»: «Где ты, город-розан, – / Волжская береза, / Лебединый крик / И, ордой иссечен, / Осиянно вечен / Материнский лик?»204.
Тема обетованной земли не раз звучала в ранних произведениях Вс. Иванова. Первое упоминание мы находим в рассказе «На горе Иык» (1917): «Голубые кони бросили шамана и не слушаются его, и дух, благословлявший их, ушел от белого хребта гор Абакана, ушел от отдыха в тени березы с червонными листьями. <…> Ничего не осталось, ничего нет – сглодало железо ваших ружей нашу свободу, а духи скрылись. Помню, <…> приходили тут ваши люди, да со значками, разорвали землю и кровь выпили… <…> Кровь побежала, земляная кровь – отняли у нас землю – хотят пустить огненные телеги… <…> Все наши ушли туда <…> к людским коробам, – деньги утащили их»205. К русским народно-утопическим легендам у Иванова восходит описание «золотого века», решение тем земли – духовной опоры, утраченной народом; власти «железной» цивилизации, противопоставленной природному, естественному бытию среди «берез с червонными листьями», и другие.
О сокровенном Граде, о богатом Индийском царстве, о благословенных островах грезят герои ивановских рассказов 1920–1922 гг. (сборник «Седьмой берег», 1922). В рассказе «Полая Арапия», написанном Ивановым после поездки летом 1921 г. в голодные Поволжские губернии, звучат слова деревенской пророчицы: «… за Сыр-Дарьей открылась земля такая – полая Арапия. Дожди там, как посеешь – так три недели подряд. И всех пускают бесплатно, иди только. Земель много <…>. Идите все, кто дойдет песками, через сарту, оттедова по индейским горам. На тридцать семь лет отверзлись врата. Кто первой поспеет, тому близкоземлю вырежут. Трава там медовая, пчелиная»206. С мечты уйти «за Китай и Индию в синие непознаваемые страны» начинается рассказ «Дите». В душе мужика Кузьмы из рассказа «Жаровня архангела Гавриила» живет «одна только мысль о чудесном городе Верном»207, именно она определяет путь героя: «Иду в город Верный, который под водой плывет»208. Отметим характерную черту ивановских утопических исканий: через традиционные народные идеалы проверяется в рассказах писателя утверждающийся в России новый идеал – «Коммуния». «Над Кузьмой ухмылялись – верит, пущай верит, большевицких неизвестных вер человек»209 – «Жаровня архангела Гавриила». В рассказах Иванова 1920–1922 гг. мечты о новой утопии сопровождаются тревожными вопросами и сомнением. «Не имеет права человек свет перестраивать без объяснения своей жизни. <…> И веровать в вас нечего, веровать в Бога надо… а у вас и душа-то разграфленная. Никакой цены такой душе нету! У нас в России таких правителей не было»210, – обращается дьякон Полугодье к упродкомиссару (рассказ «Глиняная шуба») и получает недвусмысленный ответ: «Я ведь правитель самодельный и человек жестокий»211.
Народная утопическая легенда является философско-историческим ме-татекстом повести «Бегствующий остров», завершающей книгу «Тайное тайных». У образа воссозданной Ивановым раскольничьей обители Белый Остров не один источник. Прежде всего это легенда о Беловодье, происхождение которой напрямую связано со старообрядцами. Вс. Иванов хорошо знал быт и веру раскольников. В автобиографической статье «О себе как об искусстве» (1923) он вспоминал спор о вере во время Гражданской войны в Сибири с одним «широкобородым», как кедр, красным командиром: «И пошел у нас тут спор о вере – старожил оказался, кержак-раскольник. Веру я мужицкую знаю крепко <…>. Пили всю ночь, ширококостная баба пекла блины, и спорили мы о треперстном кресте»212.
Рассказывая о Белом Острове, писатель акцентирует его реальность. Так, бегуны, принимавшие активное участие в создании легенды о Беловодье, «по-крестьянски жаждали царства Божьего на земле» и «„грядущему Граду“ придавали вполне реальное практическое выражение»213. Об этом свидетельствуют также известные в истории многочисленные побеги крестьян в Беловодье. Беловодье было «земным царством», с идеальным строем общественных отношений; без светской, но с праведной духовной властью, без попов, осуждаемых в народе за стяжательство, без «татьбы и тяжбы». Несмотря на изобилие земных благ, оно не было царством веселья и безделья. Жизнь в Беловодье проходила в молитвах и служении.
В соответствии с народной легендой и создавал свой Белый Остров Вс. Иванов. В 1685 г., спасаясь от преследований царских властей, некий «юный мудрец» Семен Выпорков возглавляет бегство раскольников на Белый Остров, располагающийся у Иванова между крепостями Тюменью и Тобольском. Живут раскольники на горе Благодати в пещерах, схимниками-пустынниками, или в кельях, на полянах. Возглавляет общину кроткая старица Александра-киновиарх. Упоминание в повести Вс. Иванова «поморского мудреца Денисова» придает описываемым событиям еще больше связи с реальностью.
С нескрываемым интересом всматривался писатель в созданную им на основе реальных народных упований утопическую модель. Уже семь лет как в России, на совершенно иных основаниях, строилась иная социальная утопия, черты которой также отражены в повести. Так, в главах XIII–XIV описан послереволюционный Тобольск: «Улицы-то широкие, как елани, дома сплошь кирпичные, гладкие, а среди них народишко спешит, подпрыгивает <…> город-то каких-нибудь пять верст, а спешки у людей на тысячу»; «По лику – Русь, а по одеже – чисто черти <…>. А девки стриженые, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты»; «Двери в Совете табачищем пропахли. Стоят в каждую комнату люди в затылок. Ругаются, плюются, вонь от них».
Противопоставление двух утопий, двух вер в повести Вс. Иванова очевидно. Сложность в том, что далеко не однозначна авторская позиция, прояснить ее помогает мотивный анализ повести и литературная традиция, которой следовал Вс. Иванов.
Мотив «блудного пира» вводится автором не только в характеристику тобольского совета, но и в описание жизни Белого Острова: рассказ об опившихся пустынниках в доме постельной дряпки-Авдовки (гл. 12). Правда, по отношению к старцам автор более снисходителен, чем к «чертям» и «голору-ким девкам» из Тобольска. Согрешившие пустынники «всем миром встали посреди улицы на колени <…> три дня молились. От такой молитвы показалось им, что образа просветлели, улыбнулся им кроткий лик Христа, – все мы, дескать, люди, все человеки». Но, тем не менее, и для читателя, и для писателя очевидно, что жизнь в пустыни далеко не так благочестива, как в легендарном Беловодье. При этом под сомнение ставится даже не столько «праведность» земли, сколько праведность людей, стремящихся к ней и не умеющих жить по ее законам.
Авторскую позицию проясняет и сопоставление «Бегствующего острова» с известными Вс. Иванову повестями сибирских крестьянских писателей – «Белым скитом» (1914) А. П. Чапыгина и «Беловодьем» (1917) А. Е. Новоселова. От них повесть Иванова отличает прежде всего то, что у названных авторов Беловодье предстает как мечта о «божьем береге», но не как реальное, земное царство. И «Белый скит», и «Беловодье» заканчиваются на том этапе страннического пути героев, когда звенят невидимые колокола и среди вод открывается тихая обитель.
Однако есть важные точки соприкосновения у повести Иванова и произведений его предшественников. Чапыгин вводит мотив смертного греха героя – пролитой крови (Афонька Крень убивает брата). Тот же мотив появляется в кульминационной сцене повести Иванова «Бегствующий остров», где встреча защитников старой и новой веры – старообрядцев и комиссара Запуса, – начавшись с непонимания, завершается смертью раскольника Гавриила. И герой Чапыгина, Афонька Крень, ищущий Бога, но в то же время сомневающийся в нем, близок утратившим веру героям книги Иванова «Тайное тайных». В отличие от этих персонажей Панфил, главный герой повести Новоселова «Беловодье», верен отцовскому завету и древлему благочестию до конца: ему единственному, не отступившему от своего пути, открывается озеро с островами, скитами и храмами. С этой повестью у Вс. Иванова иные точки соприкосновения. И он, и Новоселов противопоставляют живую жизнь, с любовью и материнством, аскетическому служению истинной вере. У Новоселова любящие друг друга Иван и Акулина отказываются идти в Беловодье, хотят вернуться в мир: жить «по-людски» в деревне, ладить хозяйство, растить детей. В повести Вс. Иванова в мир бежит с Белого Острова дочь старицы Александры Саша, чтобы рожать «румяных детей», которых не бывает в скитах. Да и сама Александра-киновиарх с испугом и болью отмечает, что «лица (у раскольников. – Е. П.)строгие, будто у мертвецов, щеки провалились, и будто бороды-то чужие».
Очевидно, что слова «старая» и «новая» вера имеют у Вс. Иванова, как и других его современников (Н. Клюева, С. Клычкова, А. Платонова, Л. Леонова, А. Толстого и др.), символический смысл и связаны не только с расколом XVII в., но главным образом с наблюдаемым ими в XX в. «расколом» традиционной русской жизни. Но если, скажем, для Н. Клюева грядущая судьба его единоверцев однозначно безысходна, «индустриальные небеса» новой Советской России, под которыми «нет ни святых, ни злодеев», столь же однозначно неприемлемы и им противопоставлены «Матерь-Русь» и «Китеж родной» как поруганные, но все же незыблемые ценности, то у Вс. Иванова, судя по всему, позиция иная. Новая вера и новая, замешенная на крови утопия были для него сомнительными с самого начала. Однако принимать за «золотой век» «Избяную Русь» и ратовать за создание на прежних основах крестьянской утопии он тоже не готов, хотя 1924-1925-е гг. – это время, когда писатель больше чем когда-либо искал основания для такого возвращения и возрождения национальных традиций правды, справедливости и праведности. Искал, но, видимо, не находил – ни в самой реальности… ни в самом себе.
Отраженный в книге «Тайное тайных» утопический идеал русского народа вновь возвращает нас к «спорам о мужике» 1920-х годов. Вопреки представлению о русском крестьянине как о темном, невежественном мелком собственнике, движимом стихийными биологическими инстинктами, обращение Вс. Иванова к утопическим легендам, в которых выразились народные представления о Правде – истине, справедливости, праведности и безгрешности, стало одним из направлений раскрытия таинственной и глубокой народной души.
Наконец, назовем еще один важный мотив книги «Тайное тайных», сближающий ее с произведениями новокрестьянских писателей, – мотив сокровенного слова.
К слову, «как к средоточию, сходятся все тончайшие нити родной старины, все великое и святое, все, чем крепится нравственная жизнь народа»214, писал выдающийся русский филолог Ф. И. Буслаев. Люди, пришедшие к власти в России после революции, это хорошо понимали. Поставленная грандиозная задача – оторвать «нового человека» от прошлого – определила и сущность процессов, происходящих в советской языковой культуре. «Языковые переживания» (выражение A.M. Селищева) 1920-х годов отразились в дискуссиях о русском языке первого советского десятилетия215. «…В этих новых словах нет ощущения так называемой внутренней формы, – писал последователь А. А. Потебни филолог и критик А. Г. Горнфельд о языковой ситуации в современной России. – Наши слова обозначают нечто потому, что нечто значат; иногда их этимология <…> нам ясна, иногда темна; но мы знаем, что она есть, что слово имеет корень, из которого выросло. У ЦИКа же нет корня»216.