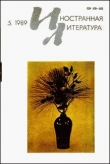Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 49 страниц)
Красноармейцы расходились с песнями. Анна Осиповна жалким и грубым голосом сказала:
– Мне вот страшно спать одной, а я буду спать одна. И я никого не боюсь. Всю жизнь буду спать одна.
И она, делая руками круги, побежала. Все это – и нелепый разговор, и бегство, и это размахивание руками в иное время огорчило бы Плешко. Но тут он хотел было ей крикнуть вслед, остановить и чем-нибудь утешить, но затем подумалось, что нет при нем таких слов, которые б могли ее утешить, да и есть ли при ком, сомнительно? Ему стало легко, и в это время он увидал, как тачанка, окруженная несколькими всадниками, проскакала по улице к штабу. Люди показались у ворот. Повторяли несколько раз слово «Бессонов». Плешко побежал. Ему стало еще легче, он вспомнил бегущую Анну Осиповну, засмеялся и замахал руками, как она.
У стола, заслоняя широкой спиной лицо Болдырева, стоял одетый в крестьянскую свитку волосатый и горбоносый человек. У него была как-то необыкновенно гордо вскинута голова, он сверкал глазами и изо рта у него плохо пахло. Кабардо, должно быть, пьяный в лоск, вздергивая плечи, подскочил к Плешко:
– Матанин мне предложил такую мысль! Мужичка мы давеча одного подозрительного в поле поймали. Мужичок Матанина струсил, а тот его… Да. У мужичка лапы – корову задавит! Поговорили, а впоследствии выяснилось, что Бессонов подле нас, на правой стороне Днепра, сидел всю ночь. Мы в село… Он, знаете, во двор вышел, у него, у Бессонова-то, прах его бери, несдержание мочи, не иначе… На двор вышел, а я ему пояс на шею.
– Глупо влип, – сказал Плешко.
Бессонов раскрыл рот и торжественно проговорил, не поворачивая головы:
– Можете меня убивать. За меня бог и народ!
И пластуны и бригадные, видимо, уже освоились с Бессоновым. Они расселись на лавки, вдоль стены, закурили. Пузыревский попробовал допросить, Бессонов затрясся, забрызгал слюной и отказался отвечать. Матанин, весь дрожащий, напуганный, оглядывал Бессонова совершенно счастливыми глазами. Плешко смотрел на Матанина и думал, что бригада стоит на совершенно неправильном, партизанском пути. Бандитов ловят без распоряжения; начались грабежи; на двадцать процентов состав бригады текучий, – он сказал:
– Послушайте, Бессонов, я предлагаю вам немедленно разоружить так называемую Половецкую республику.
Пузыревский, видимо, мучаясь все еще смертью Феоктисты, отозвался:
– Баба-то, может быть, его любовница была. Сведенья посылал искать… бабу! Посылал, ясно!
Широко разевая пухлый и красный рот, Бессонов ответил:
– У меня нет любовниц. Моя любовь – бог, народ и справедливость.
Он опять затрясся. И Плешко подумал: сколько страданий нужно было вынести этому человеку, чтобы столь убежденно обрасти бородой, с такой алчностью к смыслу восклицать эти высокопарные слова! Сколько он голодал, скитался, наверное, по монастырям, искал правды и вот теперь, полусумасшедший, едва ли уже помнящий друзей и знакомых, попал к людям, тоже ищущим смысл или, вернее, нашедшим. Плешко сказал:
– Вчера ночью у нас на правом берегу убили красноармейца. Дабы показать, как расправляется советская власть с бандитами, предлагаю немедленно расстрелять Бессонова. Труп выставить напоказ.
– Все равно хлеба нет и не дам, – вскидывая руки, крикнул Бессонов. – Хоть десять Железных!
Затем Плешко попросил позвать к нему немедленно Щербакова. Тот пришел заспанный, его остренькая голова, покрытая реденькими волосами, вся была осыпана соломой. Выдергивая соломинки, он объяснял, что выехать сейчас и опасно, и дорогу найти невозможно. Завтра чем свет. Ему хотелось в баньку, попариться, покряхтеть!.. Он вспомнил про Пермь, там он бывал в молодости, «и какие там жаркие бани, господи ты боже мой, через полчаса чувствуешь и окорок ты и ангел!» Изба опустела. Бессонова увели. Плешко остался один. Под окном на бревне сидел пьяный Кабардо и выкрикивал, что напрасно поручили исполнение приговора Матанину. Он задушит бандита, потому что ему все время будет казаться, что и револьвер-то не выстрелит и что бандит у него револьвер вырвет. Плешко долго прислушивался, но выстрела не было. Где-то капала вода; кони дышали под навесом; пахло сосновой корой от бревен под окнами.
«Сила, заставившая Матанина сделаться таким, – и страшна и прекрасна», – думал Плешко. Сон на мгновение овладел им, но он вдруг почувствовал столь необычный прилив радости и нетерпения ехать или разговаривать (великолепные планы чудились его голове, слезы восторга уже почти выступили у него на глаза), – он проснулся. Светец сильно чадил. Протокол приговора над Бессоновым, забытый, лежал подле светца, несколько капель жира сползло на бумагу. Плешко долго ходил по избе.
Светец давно потух, рассвет был уже у окон. Плешко накинул шинель и вышел. У палатки, подле трупа, покрытого рогожей, стоял часовой – курносый и белокурый мужичок. Он сладко зевнул и почтительно взглянул на Плешко. Плешко откинул рогожу. У Бессонова было такое же надменное и высоко вскинутое лицо, только губы были втянуты в рот. Случайно убили. Значит, случайно и царствовал царь Половецкой республики… А говорил: хлеба не дам.
– Но из всего мне ясно, одно, что, по-видимому, Железная не имеет хлеба…
– Как? – спросил часовой.
Глава девятнадцатая
Дорога шла по глубокому песку. Тачанка шла шагом. Щербаков и Матанин сопровождали Плешко. И по-прежнему хмельное настроение не покидало Плешко. Он с радостью слушал, как Матанин всю дорогу восхищался то храбростью Кабардо, то успехами его среди женщин. Он, Матанин, рассказывал, что у Кабардо даже здесь, в этих гнилых местах, где ни одной бабы не встретишь, у Кабардо есть любовь. Голос у Матанина был благоговейный и песенный. Немного погодя, он затянул песню. Щербаков, тоненьким тенорком не без приятности, подпевал ему.
У большой киево-переяславской дороги, шагах в двухстах от себя, Плешко заметил отряд. В отряде было человек семьдесят-восемьдесят, несколько тачанок, окрашенных в густо-зеленую краску. В тачанки было впряжены тучные и высоконогие кони, сбруя на них сияла, да и день был веселый и солнечный. Впереди отряда скакала разведка с большим черным знаменем. Тотчас же вспомнились разговоры об анархисте Бессонове. «Анархисты, – подумал недоуменно Плешко, – но откуда попадет сюда отряд анархистов!» Он выхватил револьвер. Их заметили.
Отряд мгновенно раскатился в лаву и поскакал на них в обход – вправо и влево. Было противно смотреть, как Матанин вытаскивал гранату бледной и мокрой рукой. «Назад!» – крикнул Плешко. Но уже поблизости мелькнули странные папахи с «жовто-блакитными» лентами, какие обычно бывали у петлюровских частей30. Кони с лентами в гривах. У одного всадника подле седла ведро с остатками зеленой краски и курджумы31, наполненные какими-то книжками.
Командир отряда, в черкеске, востроглазый и чем-то похожий на крота, с саблей наголо замер в седле. Плешко, стараясь улыбнуться, чувствовал холодок и дрожание в руке, держащей наган на взводе.
– Кто вы таки есть? – спросил командир.
Матанин порывисто, со свистом, вздохнул. Щербаков сидел неподвижно. Плешко, вглядываясь с недоумением, как человек с ведром у седла развернул черное знамя и как мелькнула странная надпись: «Долой пионеров», – в то же время подумал, что на шапках звезды, в карманах френча красные билеты…
– Начальник политического отдела 28 Железной дивизии!
– Документы есть?
– Конечно.
Плешко через Матанина передал документ. Командир, поводя носом, усыпанным мелкими волосиками, долго мял удостоверение.
– А вы кто такой?
И командир, глядя в удостоверение, ответил сквозь зубы:
– А мы петлюровцы.
Щербаков уперся спиной в бок Плешко. Спина ерзала. Плешко приподнял наган, но чувство омерзения, которое охватило его, когда он стрелял в пластунов, опять овладело его телом. Тусклая пелена на мгновение упала перед лицом, и ему стало сразу же стыдно и еще более стало нехорошо, когда он пригляделся и увидел, что Щербаков держит его за руку, а сам орет, тыча пальцем в черное знамя:
– Вы на другой стороне читайте – «Долой контрреволюционеров!». Так ведь если б я его за руку не дернул, он бы в упор и на два шага, сволочь ты такая, пулю бы в тебя впустил, командир ты или нет?
Командир протянул удостоверение.
– У нас система борьбы такая, браток. Мы бандитов на петлюровские лозунги, чтобы язык раскупорить скорей, ловим.
– Благодари за вежливость, стукнули бы тебя, иначе.
Командир сделал под козырек.
– Начальник отряда полтавской губчека Смирнов.
– Про Железную слышали?
– Говорят, будто у Борисполя Железная ходит. А у Борисполя бандит Бессонов сидит, ездить туда одним не советую. И, кроме того, во всякой дыре – поляки. И банды, и поляки.
– А почему вы от Бессонова не очищаете?
– Другие важные задачки, браток, – сказал он как бы с сожалением и сдвинул папаху на ухо. Он подтянул стремя, и отряд с гиком, красуясь перед Плешко, поскакал на Переяславль. Щербаков плюнул и долго смотрел на свой плевок.
– Предпочитают легкие успехи над безоружной жертвой да простачков на лозунги ловят, вот и все их важные задачи. Куда направляемся?
– На Борисполь, – сказал Плешко, пряча наган32.
В сумерки показалось волостное село Рогозово. Волостное правление напомнило им корыто – было скользко, сыро и пахло водой. Матанина они оставили в тачанке, подле пулемета, в десяти шагах от правления, а сами с револьверами в руках вошли в правление.
Распоряжение было Матанину такое – никого ближе десяти шагов не подпускать, а если раздастся крик из правления: немедленно огонь – по улицам.
Матанин устал, плохо выспался и плохо поел. И благодаря этому, наверное, ему трудно было считать шаги: десять ли шагов, пятнадцать ли шагов сделали подходившие мужики. Он их тихо окрикнул. Они подошли еще ближе. И тогда Матанин, крепко прижавшись к пулемету, вспомнил удалого чекиста с черным знаменем и спросил:
– Вы за кого? Мы-то есть от Бессонова.
– И мы есть за Бессонова, – ответил ему из синего сумерка почтительный и в то же время строгий голос. И по этому голосу Матанин понял, что необходимо действовать дальше, и он, гремя пулеметными лентами, прокричал:
– Во-о, бандитская власть! Выбирай немедля комиссара по продовольствию и по пяти пудов со двора, а то сейчас же огонь по всему поселку… Я вам покажу Бессонова…
И тот же почтительный и строгий голос ответил ему спокойно:
– Чего кричать! Вот и будет комиссаром кузнец Петро. Петро, иди!..
Высокая лохматая фигура вышла на дорогу. Папаха на нем шире плеч. И, увидав эту папаху, Матанин заорал:
– Отходи дале, открываю огонь!
Плешко встретил представитель исполкома, закутанный до самого носа в шарф. Он, обеими руками придерживая шарф и жалуясь на хворобу, ответил уклончиво, что в Борисполе совершенно неизвестно кто стоит.
– Телефонная связь есть?
– А кто ее знает.
– Овса надо, подкормить коней.
– Это никак невозможно! Ехали б вы по своим делам.
Плешко прошел к телефону. Собрались еще мужики. Какой-то маленький, с длинными волосами принес бумажный фонарик со вставленной в него церковной свечой. В телефоне задмыхал, заворчал уклончиво Борисполь. Наконец Плешко спросил:
– А Железная есть? А красноармейцы есть?
– Да нету красноармейцев. Были да выгнаны все.
– Кем?
– Нами, петлюровцами.
К фонарю пробрался кто-то в очках, с длинным носом. Долго и пристально разглядывая разговаривавших, он, наконец, сказал меланхолически:
– Вот это и есть Щербаков?
Щербаков выпрямился.
Второй голос отозвался еще спокойней:
– Вот он какой есть Щербаков? А как он думает…
Здесь они услышали крики Матанина. Они выбежали на крыльцо. Кто-то завопил во тьму: «А ну держи Щербакова!». Матанин кинул гранату. Тачанка рванулась и через минуту на большой дороге, Матанин хотел похвастаться, как он смастерил комиссара продовольствия, но ему стало стыдно, и он сказал:
– Богатое село, а овса не дали.
– Поворачивай к бригаде, – сказал Щербаков.
Глава двадцатая
Поляки шли правым берегом на Киев. Видны были зарева, сверкали ракеты, доносился далекий гул. Сведений о точном местонахождении Железной все еще не было. Прибежал какой-то раненый, заикающийся коммунист и сказал, что Железная защищает переправы у Дарницы. Ему мало кто поверил, да и коммунист через два дня свалился, охваченный тифом. Красноармейцы перестали исчезать, и хотя в бригаде было не более трехсот человек, но уже стало ясно, что остались только те люди, которые умрут, но не разбегутся и не предадут. И это, как ни странно, было неприятно сознавать Плешко, потому что голову его теперь больше занимали мысли о Железной и ее состоянии, чем о положении бригады. Все последние дни накрапывали дожди, бригада шла «Половецкой республикой», проселочными скучными дорогами, среди полей. Изредка попадали болотца, серые какие-то топи, и небо над унылыми и тощими полями было серое и скучное.
Кабардо для устрашения бандитов и для доказательства удали бригады предложил не закапывать труп Бессонова, а везти его с собой и показывать во всех селах, мимо которых пройдет бригада. Как это предложение ни было странно, но на него быстро согласились, и вот впереди бригады шла бричка с громадной черной колодой, внутри которой лежал труп Бессонова. Вокруг колоду обложили бочонками со льдом и, перевертывая бочонки, Кабардо сверкал глазами и исступленно восклицал, что он эту мужицкую породу превосходно знает! И бочонки со льдом, и длинная колода, и лошади с такими умными мордами, везущие свою странную поклажу, – все это было страшно нелепо и походило на дикий сон, и в то же время вот эта-то нелепость и делала реальным все то, что происходило вокруг Плешко и в нем самом. А в нем происходило то, что все окружающее и самого себя он принимал все проще и проще, и то многое, что вначале раздражало его или вызывало улыбку, теперь умиляло до слез, до отсутствия сна. Вот зажигали ночью костры, красноармейцы подходили и отрясали в огонь вшей, слышна непередаваемо похабная брань. Запах отсушившихся онучей; слякоть и грязь и все это отвратительное зловоние полей и грязные тесные хаты, и грязный крестьянский царь в колоде, Иванушка Бессонов; – какая, казалось бы, чушь и чепуха! Но сколько, если вдуматься, во всем этом превосходного и сколько крепких и настоящих людей окружает теперь Плешко!
Вот первым полком идет и командует Пыхачев. Он харкает кровью, ходит, сильно сутулясь; желтый, раздражительный, ворчит на солдат. От смерти он, кажется, ускальзывает как-то боком и словно бы этого стыдится. Он говорит длинные скрипучие речи, и он всех неприятнее. Но если бы он умер – какая огромная пустота осталась после него и в бригаде и в жизни Плешко! За ним идет Матанин с пулеметной ротой; затем Савка Ларионов с полком пластунов; мятущийся и бешеный Кабардо с двумя эскадронами. Второй полк ведет Болдырев, рыжий и спервоначалу казавшийся очень бестолковым мужик. Гавро, разговаривающий со своими китайцами на портовом жаргоне и неизменно записывающий каждый свой и день своей роты в дневник. Кабардо наклоняется, смотрит на дорогу, на унылые поля и ведет бригаду все уверенней и уверенней на Борисполь. Есть ли там Железная, нет ли там Железной, но бригада должна выйти к Борисполю!
– Откуда тебе так дорога известна? – спросил Плешко, и Кабардо ответил, стукнув себя в грудь:
– Сердце знает, а не я!
Изредка из соседних деревень подъезжали мужики, просили показать труп Бессонова, крестились и говорили: «Вечная память». Присоединилось еще несколько коммунистов; учитель в высокой шляпе и с длинными волосами, уверявший, что его вешали петлюровцы и что он полчаса висел в петле. На шее у него, короткой и грязной, был большой кровавый круг. Присоединившиеся коммунисты отъезжали в сторону, на день-другой, и к обозу бригады тогда еще присоединялись воза с хлебом. «Для Железной подарок везем», – говорил Болдырев, и лица у всех делались удивительно трогательными и в то же время сухими. И вот однажды Кабардо, бледный и вытянувшийся, указал на синее болото и далекий лес за ним:
– Там, в восьми верстах Бессоновка, Ипполит Егорыч. До нее труп довезем, там у него церковь и вся основа его власти. Они на труп придут смотреть, прощаться.
От болота несло гнилью, осокой. Птица, удивительно громко хлопая крыльями, пронеслась над обозом. И Плешко подумал, что в эти дни он даже не посмотрел на клубный фургон, не узнал, как живет Анна Осиповна, он заметил только мельком ее взгляд – испуганный и тяжелый. А ей, наверное, очень тяжело и ведь места-то, казалось бы, округ самые тихие и мирные: изгороди, коровки кое-где пасутся, седенький пастушок и белые церковки, – а вот триста человек, оглядываясь по сторонам, большей частью ночью идут тихо, стараясь не шуметь и не стрелять.
Бессоновка стояла над рекой. Маленькая церковка с остренькой колокольней, кресты и железные ограды. Но все облезло, грязно, скучно и трава-то какая-то гнилая. Вот семейство Бессоновых, давно привыкнув ко всей этой грязи и мерзости окружающего, тихо отдыхает, а последнего потомка их привезли в колоде, из которой поят коней, где по краям остатки конской слюны, сапная слизь, а вокруг рыхлый и желтый от глины погребов противный лед. Тело Бессонова уже сильно пахло, и возница вел коней под уздцы.
Глава двадцать первая
Труп стоял перед палаткой комполков. Плешко подошел к колоде. Прямо перед ним на облезшем холме, обсыпанном мелкими тропинками, стоял бессоновский дом. Крестьяне, в длинных платьях, спускались с холма. В палатке три комполка: Савка, Пыхачев и Болдырев рассказывали друг другу свою жизнь. Рассказы были пустяковые: у кого работа, да сколько получал в день, но все трое почему-то сильно смеялись в конце каждого рассказа. Затем Савка рассказал с удовольствием, как умер Белов, бывший командир пластунского полка. Савка, видите ли, все время сомневался: стоило ли ему быть командиром пластунов. Показались тут в сторонке, вроде как бы, три бандита. Белов сидит на телеге и поглядывает на Савку презрительно. Савка спрыгнул с коня и сказал: «Качай с пластунами, героем придешь, полк получишь обратно!». А Белова привезли убитого бандитами, – и в спину. «Собаке и собачья смерть», – отозвался спокойно Болдырев и опять заговорил о своем барнаульском хозяйстве. Затем они поговорили о покосах, о дождях.
Бессоновские мужики, вяло опустив руки, стояли перед трупом и уныло смотрели в надменное лицо Бессонова. Было жалко на них смотреть и ненужным казалось здесь и тело и эта церемония с выставлением трупа. Подошел Кабардо и, указывая на мужиков пальцем, свирепо сверкнул глазами и заявил, что вот, наверное, среди них один или два «члена правительства» имеются! Мужики, крестясь и стоная, шарахнулись. Кабардо быстро заговорил:
– У меня в селе единственная на свете любовь. Вот меня интересует вопрос: почувствует она меня или нет? Если почует, то придет к бессоновскому трупу, потому что она знает: с трупом только один я мог такую придумать!..
Анна Осиповна, в брезентовой накидке, шла за Пузыревским и просила у него для клуба свечей. «Читать же книги не с чем», – говорила она и тут же рассказала, как один пластун читал книгу при лучине старательно всю ночь, но почему-то с конца. Она прикрыла глаза ладонью, стараясь не глядеть на труп. Мелкий и серый дождь делал ее руку старческой. Она сказала о Феоктисте:
– Мицура охраняла свою любовь. Она любила Бессонова, она ему была верна, это доказано.
«Что доказано, – подумал Плешко, – доказано ли, что любовь есть доброта, а за доброту, в окаянную нашу жизнь, можно полюбить самого неинтересного и некрасивого человека? А Бессонов был дико зол, его трудно было выносить и нельзя было любить».
Павла Черкасова, та любовь, про которую говорил Кабардо, пришла к трупу уже совсем к вечеру. У нее была ровная походка, словно она знала, сколько ей остается пройти и что спешить некуда; полное, лунообразное и даже, пожалуй, некрасивое лицо и пристальный взгляд серых и как бы убедительных глаз. Она сказала Плешко, что необходимо уважать человека, то есть она сказала не так, но вначале ее всегда понимали иначе, чем позже, когда вдумывались в ее слова. Она сказала, что Бессонов безумец, который называл себя и верил себе, что он крестьянский царь, способный учинить религиозную республику. Он кончил жизнь свою как безумец и его везут теперь для устрашения люди, похожие на безумцев. Безумцы и несчастные люди мчатся с трупом вперед…
– А где Железная, не слышали? – спросил Плешко.
– У нас ее давно ждали, а все нету.
– Так у Бессонова было известно о Железной?
– Да, говорили, она должна усмирить Бессонова.
Пузыревский наклонился к Павле:
– А любовница у него была? Феоктиста, скажем.
Павла посмотрела на него с жалостью. Пузыревский был волосат, широк, с четырехугольным подбородком, покрытым желваками мускулов. Его круглые и громадные кулаки с казанками величиной в пятак и рыхлый толстый нос – угнетали, видимо, ее. И эти руки! Обтянутые твердыми и синими жилами; пальцы искривленные; все облепленные мозолями, – громадные руки бездарности и тупоумца!..
– Опросите население.
Павла взглянула на Плешко, словно спрашивая, что разве у вас есть женщина, несчастная и глупая, которую подозревают, что она была шпионкой Бессонова? Плешко понял ее вопрос и так же мысленно ответил, что такой женщины нет, умерла похожая на нее… Павла продолжала говорить, что Бессонов погубил дом ее родных, убил брата, но она не злится на него. Он был несчастный и пустой человек. Ему иногда казалось, что к нему придет какая-то женщина, которая подробно расскажет ему, сколько в Железной дивизии, состоящей сплошь из жадных и крепких мужиков, награблено и бережется золота, серебра и бриллиантов. Они берегут, чтобы увезти его с собой в Сибирь, а Железную надо заманить к «половецким», разбить…
– Бред! Романтический бред, – сказал Плешко. – Я, видите ли, парикмахер и мне иногда стыдно командовать, когда вокруг меня почетные пролетарии: столяры, литейщики… Но, как все парикмахеры, я, во-первых, лыс (он улыбнулся плоской своей шутке), во-вторых, я страшно боюсь причесанного человека, а романтизм – это причесанность. Бриллианты и деньги! Кому они нужны, когда пылает весь мир? Феоктисте нужна была любовь! Она любила и, наверное, хотела чем-то доказать свою любовь, хотя бы тем, что перед мужиками надеть бриллианты Железной дивизии…
– Первый бриллиант: звезда на шапке, – высокопарно отозвался Кабардо. Он, увидав Павлу, кинулся к ней с объятиями, а она протянула ему руку. Три комполка в палатке хохотали над ним. Кабардо сказал, что это всегда так – «встречает холодно, а затем разгорается».
– И сейчас мне пришло в голову, что ни одной женщине я не говорил – парикмахер я, дескать. Вам первой, а?
– С ней легко, – сказал Кабардо, хлопая ее по плечу.
Она, отталкивая его руку, ответила Плешко:
– И напрасно сказали. Я б, может быть, с вами по первому слову ушла, а теперь как же с парикмахером по первому слову уйти? Смешно! А глаза у вас добрые. Однако добрые глаза только на дорогу выведут, а дальше с ними идти не стоит: заблудишься.
– Я бы предложил вам с нами поехать, но впереди самые крупные опасности.
Она посмотрела на колоду и медленно ответила:
– Я, наверное, откажусь: нельзя жить на войне.
Тон ее речи и ее глаза смутили его. Он хотел было (чтоб не думать много) предложить дать отпуск Кабардо на неделю, но тотчас же стала ясна нелепость такой мысли. Он улыбнулся, и ему опять стало легко. Он, видимо, привыкал к радостному чувству, которое жгло его все последние дни и которое началось со станции Магалево. К тому ж не прошло и минуты, как Павла опять заговорила о Бессонове, лицо ее выражало боль, и Плешко, пожимая ее руку, обещал ей, что труп будет немедленно похоронен, как только бригада выйдет из бандитского очага – Бессоновки.
Глава двадцать вторая
Когда бригада двинулась, мужики (надо думать, напуганные безмолвием и вежливостью солдат и тем, что село не разгромлено) вышли за околицу и там, подле болота, у камышей выдали главарей Половецкой республики. Главари оказались очень благообразными, тощими мужиками, неустанно бормотавшими молитвы. Болдырев настаивал на продовольственной контрибуции, мужики соглашались, но Плешко, опасаясь озлобления, отговаривал. Вода, цвета ржавчины, пахнущая тиной и смолой, колыхалась среди камышей. Небо было низкое и пустое. Связанные мужики, садясь на подводы, крестились на небо и на камыши. И затем один из главарей сказал длинную речь пред собравшимися мужиками о бесполезности бандитизма и о том, как хороша советская власть. Труп Бессонова ухнул в болото. Бригада пошла дальше.
Плешко шел ошеломленный тем чувством радости и счастья, которое не покидало его. Он думал о Павле и был убежден, что перед ним только теперь разверзлось чувство настоящей любви к настоящему человеку. Это чувство и служит теперь оправданием всей его прежней и теперешней радости. И хорошо, что она не пошла за ним, что она не боится мести мужиков (хотя бы из-за Кабардо), и осталась в селе проверить себя и свой приход. Она придет сама! Анне Осиповне он тоже нравился за простоту, но не за ту простоту, настоящую простоту, которую поняла только Павла и которая заставила его признаться, что он парикмахер, цирульник, а в то же время человек, помогающий другим людям устраивать свое счастье.
Давно уже рядом с ним шел Болдырев, у него было веселое лицо, такое, каким его давно Плешко не видал. И Плешко вспомнил, откуда началось веселое лицо Болдырева. Мужик говорил над трупом Бессонова о бандитизме, а позади его стоял Болдырев с листом бумаги и с такими глазами, по которым можно было понять, что он прикидывает в уме: сколько же можно взять с Половецкой республики контрибуции. Как только мужик начинал говорить с волнением, – он прибавлял сотню или полторы к своим расчетам, а когда мужик крикнул: «Да здравствует советская власть», у Болдырева стало такое доброе и снисходительное лицо, что Плешко сразу понял – Болдырев будет настаивать на пересмотре решения о контрибуции. И теперь, глядя на него, Плешко подумал что, пожалуй, вернее будет пересмотреть этот вопрос.
Пыхачев догнал их и, кашляя и указывая на тусклое небо, сказал: «Ну, разве это страна? Ну, разве могут в Европе, при ее уважении к личности, хоронить человека в болоте и от похорон еще зарабатывать продовольствие? А вот ведь пишут: окрестности, красота… гадость».
Приглядываясь к Плешко, он всплеснул руками:
– Вы тогда помните, в Житомире, к мосту бежали? Я умею быстро ориентироваться, и, кроме того, у меня семья. Я понимал, что если мне кинуться вброд, а плаваю я хорошо, то через полчаса буду я у своих, в полной безопасности. Но у вас был такой глупый вид и командовали вы так смешно, что я остановился. И смешней всего, что и прочие командования этого слушались. Сильно у вас желающий добра всем вид был… я было и покаялся тогда на полянке, что за вами кинулся…
Он, прижимая руку к хрипящей и тощей груди, с трудом влез на коня. Пузыревский поравнялся с ним. Они ехали рядом и молчали. И на Пузыревского Плешко смотрел с удовольствием, и даже кулаки его, казалось ему, имели какой-то беспомощный и смешной вид. Вот парень тянется; скоро эти руки, эти кулаки возьмутся за карандаш – и будут смешны.
Голова горела – надо бы выспаться, и у Плешко мелькнула мысль, что все окружающие его смотрят на него с такой любовью и радостью, может быть, из жалости, из-за того, что он болен, ведь видят же они его бессонницу, болезненное беспокойство, сменившееся вдруг медлительной уверенностью в мыслях и движениях? В зеркало б посмотреть, что ли?
Казалось, что говорит о Железной, – но это слово повторялось все чаще и чаще. Люди уже не чувствовали себя заброшенными под чужим и в то же время по-родному серым небом. Они словно с трупом Бессонова сбросили в болото усталость и уныние. Да ведь и поговорка, кажется, есть: «а ну, в болото». И еще ему казалось, что вот он едет, а сейчас его окрикнет какой-то необыкновенно родной и близкий голос и выкрикнет ему такие слова… он уже чувствовал дрожь в горле от этих слов; виски кололо от восторга. Ему было приятно видеть вокруг себя человеческие лица, рваную и грязную одежду солдат, измученных коней и связанную бечевками сбрую. Нищета, голь, ветер… Понятно, что переход, который обычно делали в два дня, сделали в один. Глаза у всех устремлены на дорогу, пробовали запеть, – песня от волнения не вышла. Пластуны горели в седлах. Матанин, с огненной метлой вместо головы и с растрепанным голосом, бегал среди своих пулеметов. Гавро шел прямо, высоко подымая квадратную, честную и добротную грудь, у которой прекрасный безукоризненный дневник и верное сердце.
И чем ближе к городу, тем среди крестьян больше разговоров о Железной.
– Как же, стоит!..
– Еще бы да про Железную не знать!..
И об командире Железной и обо всех других бойцах самые отличные сведения. Еще бы!..
Вот подскакали и сообщили командирам полков разведчики: да, сведения самые превосходные. Веселая трава в колеях дороги! Пепельное, веселое и близкое небо. Песен побольше бы и шагать покрепче бы! Шагай, коммунисты, шагай, черт возьми, побыстрее! Во-о, Железная дивизия! Во-о, в полном составе ее политотдел мчится к ней по шоссе, а впереди всех низкорослый человечек в коротеньком френчике с красными пятнами на скулах (нет-нет да похлопывающий себя ладонью по щеке) – Плешко. Ипполит Егорыч!..
Глава двадцать третья
Ближе к городу на шоссе, желтом, попорченном артиллерией, они увидали пятерых конных. Одного из них, Спенных, инструктора по гимнастике, Плешко знал давно. Кабардо кинулся его целовать. Он к поцелуям и к появлению бригады отнесся спокойно, пожал руку Плешко, сказал, что про него думали и говорили, будто он поляками в плен взят, – и тронул поводья. Плешко мотнул головой, расстегнул кобуру и позвал было к себе Кабардо, но тотчас же понял, почему он позвал, ему стало стыдно, и он пустил коня галопом. Он подумал, что Павла (если взбешенная бригада убьет Плешко) достанется Кабардо. И еще стыд был в нем силен от того, что он подумал тогда же, что Кабардо женат и не надо бы Павле разрушать его семейную жизнь и что лучше, если погибать, то погибать обоим!
День был к концу. Вокзал, красный и приземистый от солнца, казался еще багровее и угловатее. Было тепло, днем выпадал дождь, и широкие лужи через края брызгались солнцем. Еще один знакомый, начальник канцелярии, Еремин, встретился у вокзала. Он тоже хмуро поздоровался и сказал.
– Втикать надо. Киев наши, кажись, сдали.
Переулки и пути были забиты колоссальным обозом Железной. Эти обозы были еще более растрепаны и не нужны, чем даже в Житомире. На возах Плешко увидал клетки с птицами; сундуки с громадными замками в виде гирь; несколько жаток33 мелькнуло среди каких-то бетонных труб и пятерых возов, груженных плетенными из камыша циновками. Красноармейцы ходили с шинелями в руках; в расстегнутых рубахах, без фуражек, и на лицах у них было то самое выражение, какое бывает у очень старых людей, которым надоело спать, есть, разговаривать. Какой-то красноармеец шел пьяный и слабеньким голоском хныкал: «А вот и Киев сдали, а дале што-о?». Он упал у забора, возле телеги, у которой трое красноармейцев варили кашу на костре, разведенном из сломанного платяного шкафа.