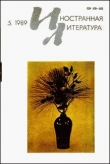Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц)
Сын человеческий*
Я вошел в город во время большого пожара.
Огненные драконы лизали небо… Вились по ветру их дымные хвосты серыми клубами… Брызгался блестящий вихрь искр пьяной свободой… Огонь торжествующий, смелый, красивый и гордый – начало всего – огонь пожирал серые здания…
Люди безумно и жалко метались, плакали – тащили из одного места в другое имущество – для того, чтобы ему было удобнее сгореть!..
Я им сказал спокойно, совсем спокойно – среди криков и воплей. И они услышали тихое слово – ведь мгновения спокойствия только и можно остро почувствовать во время урагана:
– Разрушите эту улицу, и огонь потухнет…
Слово было простое, а они удивленно и странно глядели на меня и говорили:
– Он безумец!..
Да, я безумец – потому что не походил не них! И я повторил вновь прежнее… Повторил тихо, но настойчиво. Тогда они будто проснулись и поняли, и сказанное мной казалось им за придуманное ими – оно было так просто.
Они сделали, и пожар прекратился.
Они подошли ко мне после пожара, испуганно смотрели на меня – ибо они стали вновь люди, и гнилая змея каст1 поползла между ними вновь! Был я в лохмотьях, и на ногах моих засохла кровь – я шел издалека. Они спросили:
– Ты спас нас! Кто ты?
– Я тот, кого вы ждали. Я – жизнь! Я пришел из той страны, где редко закатывается солнце, когда приходит ночь – северные дивные мосты лучей покрывают небо! И ночь не бывает ночью. Я узнал, что вы день превратили в ночь и не поднимаете глаз к солнцу – и вот я пришел к вам… Я семью свою бросил, я родину бросил – и одинокий пришел сказать вам про солнце – прекрасное, лучезарное, волшебное, миллионноликое солнце!.. И как музыку тайн они слушали слова мои и кричали:
– Слава тебе, Пришедший, слава!..
Ввели меня в храмы свои, и я говорил про солнце, про красоту мира, про красоту признаний вечности.
Меня окружали сотни друзей и тысячи женщин, искавших моей любви.
И вдруг я увидел, что они превратили меня в сказку, слушали и чрез минуту забывали. Это огорчило меня, и я сказал им:
– Уйдемте из городов, из каменных глыб – к солнцу!..
Но я еще не знал их; они думали только о покорении земли, о машинах и каждый винтик их знали. Рассматривали под микроскопом капельку воды – и видели там тысячи жизней – но вот себя не знали! Души своей не могли изучить… И машины поглотили у них истинно человеческое!..
Все покинули меня. Друзья пошли к другим пророкам, которые говорили, что зло и мрак – это и есть цель жизни, а любимая женщина ушла к развратнику, потому что у него были деньги, а у меня их нет.
Я смеялся. У меня остался смех, который еще слушали, – здесь ведь никто не смеялся! Чтобы они хотя немного были веселы, я смеялся, а под одеждами рвал тело ногтями, дабы болью заглушить плач сердца…
– Он над нами смеется, – рычали они. – Уничтожить его!
Бросили меня в тюрьму. Было там слизко и сыро, стены шептали ужасы. Однажды в день сторож бросал мне через окно кусок хлеба и бутылку воды.
Я ходил по каменному ящику и хоронил прошлое. Впереди ничего не было – только злоба… Она оплела мое тело крепкими невидимыми сетями и в глаза дышала серыми миражами, поднимала мою голову и гордо шептала:
– Забывай прошлое!..
Протекло время… я не знаю сколько! У ночи нет числа. Единственный час ее – смерть, единственная стрелка, указывающая на час, – забвение. Я сгорбился, и на волосах моих был белый пепел, только в глазах стало зло.
Однажды зачем-то вошел тюремщик – я кинулся, я убил его. Как при еде иногда раздавливают голову цыпленка – только мозг брызгает, так и я раздавил эту плоскую, хищную голову. И в одеждах его, старый и хилый, вышел в город.
Я уходил на родину!
Я убегаю от людей – я так презираю их, а они идут за мной! Я перехожу на другую сторону улицы, но и тут, в уголках, я слышу шепот похоти и хихиканье. Тогда я свертываю в пустынную улицу, я рад, я избежал их – но впереди меня идут двое и громко разговаривают. О, когда же я убегу от них, когда? Город так велик.
И злоба давит меня – мне нужно убить кого-нибудь. Мне все равно кого – я вхожу в первые раскрытые двери, беру попавший под руки лом.
В бедной комнате на кровати больная мать. Маленькая девочка кормит с ложечки своего брата и подносит кашку матери. Она говорит:
– Я наелась, мама, и брат тоже… Ты покушай…
Я плачу – она ведь не ела сегодня – она сама еле жива. Я целую грязную маленькую ножку, я целую все человечество, я спрашиваю:
– Почему у вас ночь, когда есть любовь?
Она говорит:
– Еще рано, и солнце не встало…
И смеется над глупым старым человеком, не знающим, почему ночь.
…Я выхожу на площадь. Я хочу говорить про красоту моей страны, хочу быть хотя сказкой, не клича на подвиг, но… не могу…
Каменные глыбы сожрали мою любовь к солнцу. Я не могу петь свет, потому что я стал сыном тьмы.
Тогда мне говорят:
– Ты стар и хочешь есть. Ступай и помогай воздвигать жилища для людей!..
И я кладу каменные исполинские колыбели для младенцев человечества!..
Дед Антон*
По Лебяжке чешуится рябь, будто тысячи рыбок скользят, бахвалясь1 серебряными плавничками. У берега, где зеленые облака тополей тонут в воде, – тихо. Туда почему-то не влизываются блестящие язычки ряби.
На яру нахмурился поселок. Серые шершавые крыши пригорбились к земле, как курицы от жары, – разинули ворота и изнывают…
Минька сполз на пузе по горячему песку с яра к берегу и лежа смотрит – дед Антон робит парнишкам пароход. Миньке хочется подойти, – а если Петька атаманов блямбу2 даст? Сердится, анадысь3 в бабки его обдул Минька, да всего-то три гнезда4.
И доспел же Антон пароходище, чистой «Алкабек», с двумя трубами – здоровый. Когда будет Минька большой – купит себе настоящий пароход, выкрасит его в голубой або в бордовый цвет, нагрузит – бабками да привалит в Лебяжье; Петьке атаманову – фигу, а не бабки покажет! И закружились тулупчиками с одуванчиками, что клюются в воздухе, разудалые мысли в лохматой Минькиной голове.
Антон – даром, что старик – узрел меж репьями Миньку:
– Ты, оглашенной, айда к нам!
– Не пойду!.. Петька атаманов отлупит.
Но Минька уж знает, что теперь Петька его не заденет, дед Антон не даст. Да и Петьке надо скорей видеть пароход на воде, поэтому он орет, струбачив5 облепленные ципками пальцы:
– Не трону, айда!..
И, чтобы сорвать свою злость совсем, пускает гальку по воде – считать блиночки.
– Слышь, парнята6, теперь руль пригвоздим – и готово! Антон козырнул на солнышко.
– А поужинать не время? Хе-хе-хе! Испугались! Да ладно, слышь, на-стримнежим7 – и пойдем… Давай-ка, Минька, вот тот гвоздь!.. Пароход начали спускать…
Минька с восторга на спине у Петьки рубаху всю располоснул: маленькая дырочка была, а как потянул – только затрещало!
Антон отодвинул ребятишек подальше и поглядел – хорошо!
– Деда! – Сенька-попенок дернул Антона за изодранную полу бешмета8. – А как мы пускать его будем – уплывет ведь?
– Верно, парень! – Антон шлепнул легонько Сеньку по стриженой рыжей голове. – Сразу видать попа! Дуй, брат, к бабушке Фекле да попроси у ней ниток, мы причалы сробим.
– Не даст…
– А ты скажи: матушка-попадья, дай ниток суровых, Антону, мол, бешмет починить надо. Даст, парень. А я погреюсь на солнышке…
…Дохнуло холодком. Солнышко нахмурилось на облачко, обнимавшее его, а потом опять засмеялось. Пригревает Антона на золотце песочка и выжигает будто у него с души все, что давно накопилось. И сердце быстрее потукивает, давно не щекотало так.
– Да-а, ребятки, – ласково тянет Антон, крепко швыркнув с ногтя нюхательного табаку. – Давно вот так не грелся на песочке. Все дела! А каки-таки, спросят добры люди, дела у тя, Антон? А вот, братцы, не угодил на сыночка…
Миньке не занятно, как возится Петька атаманов с толстопузым Митькой Сметаниным. Выпучил бельмешки на Антона:
– Не угодил, значит, и ступай старец во все четыре стороны. А то, что был отец атаманом в поселке, – ничо? А епутатом ездил к атаману отдела9, когда у нас большую заимку киргизье оттягивало, – ничо? Да ведь я – все! Износились бродни10, так, значить, под порог! Сы-но-чек!.. С молодости бился, как перец в ступе, – облегченье, думаю, под старость…
– Деда, а пошто у те в бороде солома?
– Солома? Соломой-то у тебя вот пока, брат, башка набита. А вот раз везем мы солому, расскажу я тебе, молод я был… Лежу на возу вверх брюхом, напеваю… Бах! И на те – на дороге, в грязи. Бастрик-то11 у меня крепко был подтянут, лопнул – и меня огурцом с воза-то! Подвязал я опять бастрик и пошел пешочком. Прошел версты две, только, думаю, залезть надо на воз, грязища была матерая! Смотрю, – на-те язви-те, – порфелише толстый на дороге лежит, чиновник какой-то ехал – и обронил… Ладно… У меня руки и ноги затряслись; открываю – а там денег-то! Тьма-тьмущая!.. Ну, думаю, счастье. Приехал домой, уж и не помню, как и распрег, – слышу, орут: «На сходку12, атаман зовет!». Я этот порфель туда-сюда – положить вот нехорошо – украдут, думаю. Вот так тоже… Порешил на сходку с собой сносить, а потом и перепрячу… Прихожу – в Поселковом народу полно. А вижу, верно, чиновник стоит, потому летом у нас по тракту акромя чиновников никто и не ездит… Да… Стоит это, бледный, как алебастр, скажем, жженый. Так, – говорит, – братцы… Потерял я деньги – восемь тыщ. Спасите, скажите, что, дескать, когда я приехал к вам, денег у меня не было! Станичники тут галдеть – ахинею парень порет!.. Шум тут… А я и говорю: «Пропустите-ка, братцы, Антона-то Пустынина». Выхожу, да и говорю: «Получай свои деньги!». Да-а… А нынче сделают так – жди! Лаврюшка, сыночек, отдал Докаю-киргизу делянку заместо двадцати рублей, по его бедности, за три – ну, так две недели и звонил!.. А ничо не поделашь – выкис народ…
Антон поднимается с песочка и горбатится вверх по яру.
– Деда, куда? – орет Минька. – А пароход – то?..
Вокруг поселка желтыми лопаточками зубатятся дрова. Пристанний поселок, и дров тут навозят много – каждый пароход останавливается.
Пошаркивает Антон мимо радужных старых окон, мимо чистенькой часовенки, мимо школы, – к своему сынку Лаврентьюшке. Купцом стал Лаврентьюшка, как отписал ему Антон свое имущество; все сдал ему, сам отдохнуть хотел.
– Бог на помочь, сыночек! – обнял любовно старыми глазами Антон пригоны13 новые, тесинами зубастыми обнесенные. – Давно не бывал я у тебя. Тянет вот на старости лет – на обогретое местечко-то.
– Спасибо, – отвечал Лаврентий, метнув черными зрачками на отца: что здесь старому надо, шел бы, умирал где-нибудь, а то ворчит, ходит. Но ничего этого не сказал, бросил оглоблю на пол – под руки подвернулась. – Иди на кухню, в горнице моют, тятя! Где был-то? По поселку болтают вон – отца, говорят, выгнал, шляешься, а я виноват.
– Да не сердись, Лаврентьюшка, гулял я. На Калистратовой заимке был, в гости ходил, – чо старому сдеется – не думай.
Смолчал Лаврентий. Легко вскинулся на белого большого иноходца – даром, что как медведь мужик, – схватил укрючину14 и погнал в степь. Только пыль закурчавилась, да щепки от новой теснины полетели, когда хозяин проезжал; рассердился – треснул укрючиной.
Кажется Антону – все теперь хорошо, хоть и не ласково сын принял, – а «тятей» назвал. И куда это редко бывает! Опять-таки, хоть и на кухне – да ведь и сам Антон понимает, что стыдно такому идти в горницу – только наследишь. Ковыряет из старой миски Антон кашу и ворчит ласково, словно бы поет:
– Завтра непременно в баньку – попариться. Потом можно будет и на рыбалку – ребятишкам пучек привезти, да и рогульки15 поспели, небось… Аль не поспели?.. Чудны эти парнишки: пароход смастерил – радости-то! Диви бы ладный, – а крюками моими много не сробишь…
Седой, старый, как и Антон, кот выполз из-под печки, уставился под лавку. Должно, мышь зачуял – буркалы16 как вонзил! – Ишь, ведь! – перестал Антон есть и ложку с кашей на скатерть положил даже.
А в кладовке, за дверью, – так-то слышно Антону – разговаривают:
– Какого хлеба-то отрезать старику?
– Дай – вон там заплесневели краюшки. Ладно с его… – трещит хозяйка работнице.
Ах, как будто расплавленным оловом плеснули на старое сердце!.. Шаркает опять Антон по селу, без шапки, да с испугом глядит на людей – кажется ему, показывают на него все пальцами:
– Вон он, Антон Пустынин, – пожалела сноха хлеба ему, краюшку плесневелую поднести захотела… Сам должен заботиться, сам!..
Вот галки, как Антоновы мысли, низко над землей кренятся… Черными пятнами углят землю. Зачем он? И будто целые тучи их в голове Антона каркают о чем-то, что и понять сам не может… Прогнать бы их, да плетью висят старые руки…
– Самому нужно, самому!..
…Из-за попова дома выглядывает Минька с товарищами. Искали, искали дедку, – а он вон – идет… Хотели только приударить к нему – Антон проходит мимо лавки Поклевского – останавливается, с надрывом кричит:
– Григорий Иваныч!
Вышел Поклевский, встал на крыльце, поблескивая на солнце лаковыми сапогами:
– Антону Степанычу особенное! – Приглаживает вихор казацкий, недавно из службы вернулся. – Чем порадуете, уважаемый?
Научился в городе ласково с покупателями обращаться, хочет и в поселке дать форсу.
– Местечка нет ли у тя? – щупает бороду трясущимися руками Антон.
– Как вы сказали? – удивляется Поклевский и вихор не стал расправлять.
– В работники возьми!
– Вас?
Закатился Поклевский, мелко так – как горох сыплет… А потом басом:
– Хо-хо-хо!.. Да куда вас, простите за выражение, прошлогоднюю картошку!.. Аль опять на сынка рассердились?
– Тебе-то чо!
– А какой вы работник! С рук кормить надо!..
Взметнулся Антон:
– А чо ты ржешь, как кобыла на овес? Молокосос!
– Сволочь! – заорал Поклевский. – Чего пристаешь?
– Как над тобой не смеяться – грабитель! У твоего отца-то ведь ноздри рваные – шпана каторжанская! Богатство-то как нажил – в тайге бродяг стрелял? Не отцу твоему разве бродяги на голову накалённый котелок надернули?
– Уйди, старый черт!.. Холера… – и понес…
Плюнул Антон и опять пошваркал по пыли старыми обутками.
– Деда? – выскочил из-за попова угла Минька. – А пошто ты ему ничо не сказал?
– С дураком грешить…
– Давай я ему окна вышибу? А ты ему ничо не говоришь – он тебя отколотил бы, деда а?
– Нет, не стал бы.
– Схлыздил17, деда! – Сенька удивленно взглянул на Антона и сам себе не поверил, что деда струсил. – А пошто ты без картуза, деда?
– Айдате-ка, парняты, пароход пускайте – я приволокусь ужо!..
– Пойдем сичас! – Минька тянет за надорванную полу бешмета.
– К бабушке Фекле схожу, вот тогда и приду…
– Айда, Минька! – Сенька одернул рубаху и выковырнул из носа кусок грязи; ему обидно. – Чо кланяться-то? Хлызда!
– Хлызда! – заорал Минька и ударился к реке… Знал Антон, что скоро вернутся к нему ребятенки, а вот грустно стало… Последнюю ребяческую ласку отняли…
Бабушка Фекла варила болтушку18. Виднелся из-под низко повязанного платочка только кончик носа, похожий на сваренную морковку. И вся-то она была как морковка.
– Долгонько, Антон Степаныч, не бывал! Загордился чо-то ты? А у нас Машу-то просватали – только ты молчи – тихонечко меж собой, мы уж никому и не говорим… Женишок-от из Ямышева, атаманов сынок, – работящий парень. На Николу Семенова покойного – царство ему небесное! – здорово походит – белоголовый такой!.. Белуха-то, Антон Степаныч, отелилась – я те как-нибудь теленочка покажу… Темно счас – не разглядишь ведь…
Тоненькими винтиками полз дымок из-под таганки…19 И такими же винтиками длилась речь и таяла незаметно. Плели белое кружево – и окрашивались радужными красками, как старые оконца, нити прошлого… Будто бы кто-то тряхнул старым мешочком, и посыпались оттуда старые, но старикам новые монеты… И бережно перебирали их, и на каждом пятнышке останавливались – скорее запоминались пятнышки. И пятнышки эти становились картиной – подойдет новый человек, скажет – смешно, а то и ничего не скажет, – потому что не поймет… Засиделся Антон.
Уж и «казачье солнышко»20 захохотало из-за Иртыша… Выбросило тысячи языков и слизало пыль… Пала роса.
– Прощенья просим, – Антон кряхтит и отрывается от кошмы, – отдыхать пора… Эхе-хе!.. Косточки-то старые ломит по вечерам, а бывало в старинку по сотне верст валял на вершине – ничего не было.
– Отзывается теперь молодечество, – бисерит словами бабушка Фекла. – Укатали Сивку… И здоров же ты, Антон, в лагерях был. Сколько уж тебе?
– Много, – тянет Антон. – Уж и не вспомнить теперь – поди, за восьмой десяток!.. Пойду-ка я, Феклушка.
– Да куда?
– На Калистратову рыбалку, – сердито отбрасывает Антон.
– Постой-ка, Антон Степаныч. Вот ведь ты как – в самую середину попал, сейчас я! – Темным волчком бежит по ограде бабушка Фекла. – Машка, да где тя лешак таскат? Айда вон с Антоном Степанычем – он на Калистратову заимку идет – на мельницу ей, по пути тебе. Возьми-ка ее с собой – боится. Девка – как осиновый лист, муха пролетит – боится…
…Хрусталем закидала улочка. Прозрачные лунные копья вонзаются в черные ямы…
– Чо ты, домой-то не идешь? – звенит Машка, дугастые черные брови удивленно вскидываются. – Пошто ночью на рыбалку идешь?
Роняет Антон слова, как светлые лунные петельки, – тихо и нежно. Обидели его – так он будет ласковым:
– Жись вроде как дорога, девушка. Ну, надоест человеку идти – вон он и свернет на тропиночку, цветочек сорвать, або ягодку съисть. Вот и я как бы, значит, что ягодок захотел, – и поплелся на рыбалку… По старине у нас там с Калистратом! А у вас новшества… да… все новое хочут – у стариков-то щепкой в горле новое застревает… А у молодых, ничо, проходит…
На углу гармошка повизгивает «матаню»21, и кто-то тонко и жалобно выводит:
Я иду, иду болотинкой,
Машу, машу рукой…
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой!
– Парни хороводят. Да… а утром, чем свет, робить надо – эх, жись!..
В темноте у плетня поблескивают папироски. Слетают, будто с папиросок, какиие-то круглые, неразборчивые слова и тонут в сумерках. Прижимается ближе к Антону Маша, – озорники парни!
– Кто идет? – искусственно басят у плетня.
Антон узнал Поклевского.
– Деда Антон идет куда-то!..
– Антон! – обрадованно кричит Поклевский. – Ишь, старый козел, с кем это? А ну – стой!..
Вышли на дорогу.
– Не лезь, парнята, – ласково кидает Антон и хочет идти, но Поклевский закрючивает его за плечо, несет на Антона горячей волной махорки.
– Да ведь он с Машкой Феклиной, язви его в нос! Подцепил товарец, ишь, буфера-то распустила! – хватает Поклевский Машу за груди. – Ишь, сволочь – а, на старости лет! За поселок повел, собака старая…
– Ночевать к мамушке я пошла, а он провожать, – плачет Маша.
– Провожать!.. О-хо-хо!.. – ползет над старыми крышами.
– Не трогай, говорят, парень! Слышь – словно задергал жилы кто у Антона, и голос покрепчал. – Не лезь, дурачье!
– Еще закурдачил22, стерва! На-а!..
Поклевский как-то странно изогнулся и нырнул на Антона, и вдруг упал, зажимая лицо руками.
Он хныкал как ребенок:
– Уби-или!..
Закрыл будто кто-то горячей рукой глаза Антону – и мечет его из стороны в сторону… И кто-то стонет, а он мечется.
– Зашибу!.. – Молоды еще! А-а…
Васька Кучерявый отбежал к плетню, вырвал кол и подобрался сзади к Антону. Хрястнуло что-то.
«Как арбуз раскололи», – подумал Васька, оглянулся – все разбежались. Тогда и он шарахнулся по улице, крича:
– Кара-ул, Антона убили!..
* * *
Посредине дороги, как большая черная птица с белой головой, лежал дед Антон. Вблизи на оборванной поле бешмета валялся корявый кол…
– Убили… – плакало по сонным огородам.
Купоросный Федот*
Пришли с войны солдаты. Стали рассказывать про пушки, автомобили да аэропланы. Казалась война одной кровавой громовой ямой, где нет места душе.
Подошел к солдатам Федот (лицом он был синий – потому и купоросным1 прозвали) и с корчей какой-то просипел:
– Врите боле, стервы! У меня вон книжка есть – Миликтриса Кирьбитьевна2. Там тебе и ковер-самолет и скатерть-самобранка. Так-то, хвороба. У вас с голодухи мрут, а?.. В инакову пору-то3, басче было…
И повернулся в лес, пни угаивать4.
Дальше обычная причесть5: самогонку гнали, пили. Баб избивали. Все в порядок входило.
Приходящему из тайги Федоту поведывали про жизнь городскую, обычаи нездешние.
Один солдат, руку переломанную показывая, сказал:
– Не веришь, купоросина, в людское летание. Черт гундосый, за тебя страдали, отдувались. Я с ароплана упал, руки сломал.
– Поди, так хлещешь?
– Я! Эх, и язва ты-ы… Это ты себе врешь – душу свою обманываешь, сознаться неохота.
– А Бог есь? – прищурив один глаз, спросил Федот.
– Ты к чему гнешь очки-то? – не понял солдат. – Не виляй…
– Нет, ты мне выклади – есь али нету.
– Ишь, зажига6, – поддался солдат. – Ну, есь.
– А есь – так пошто он тебе крыльев не дал. Ты бы и полетел. Значит, нету надобы… И хлопнулся7.
– Дурак ты! – взъелся солдат. – Ты механику знашь?
Федот ответил:
– Не-е…
– По причине такой и дураком растешь. Механика учит, как человеку ближе к Богу быть и спасение свое в раю подготовить.
– Магия?
– Може и магия. Нет – не магия. Черта там нету. Этой механикой все и сотворено.
– Та-а… – протянул Федот, снимая с плеча берданку. – Летают?
– За милу душу.
– А как?
– Наподобие птицы. Хошь, картинку покажу?
Солдат достал из-под лавки, из засаленного вещевого мешка номер журнала с изображенным на нем аэропланом.
– Мотри, челдония8.
Федот повертел журнал в угловатых пальцах и пошел к двери.
– Куда ты, лешак, – спросил солдат, – картинку-то чо попер?
Федот склонил голову и со стражбой в голосе9 сказал:
– Отдай мне. Нада.
Солдат залотошил руками, свертывая сигарку.
– Ну, бери, я человек мирный.
Федот вышел за поскотину, остановился, тупо глядя на речку в полдневном блеске.
– Ой ты, хлуп!..10
Топнул оземь ногой Федот.
* * *
В согры11 ушел купоросный Федот. Не зная зачем, бродил среди влажной полутемноты, в хмельнике, смородиннике. Шуршала под ногой персть12, сучочки, ломаясь под ногой, хрупали.
А сердце ела и зло сосала мысль: «Почему мир такой есь, што сказка. И даж руки люди ломают». Со злостью сказал Федот:
– А чо – я хуже?
Постоял на одном месте, подумал и просипел:
– Не хуже, знамо. Дуракам Иванушкам Ковры-самолеты да Жар-птицы доставались… Я не дурак, брат.
Радостно, откуда-то изнутри, прозвенело:
– Ты, Федот, не дурак…
Осиял весь, шапку на затылок сдвинул и напрямик, ломая кусты, пошел из согры.
И заполнила его новая жизнь в каких-нибудь два часа. С утра – хмур, к паужину – весел. Чудеса бывают!
* * *
А скоро из тайги в деревню вести дошли о затее Купоросного Федота, неладной. Из жердей-де орясину13 нескладную строит, обтягивает палатками, даже материну исподнюю14 на хвост своей змеевидимой оказии изрезал.
Подумали-подумали мужики да по воскресенью пошли на Федотово творенье смотреть.
И точно.
Стоит на елани15 бестелое, костятое чудище – не то птица, не то ящер. Из жердей да свежекедровика сбитое.
Округ сам Федот с топором да двустволкой ходит, да парнишка его Сенька, да собака Турко. Лицо Федотово гневностью обметано – лешак понапер вас? – думает.
Мужики спрашивают:
– Ты чо, спятил?
– Не дуре вас, – пробурчал Федот.
– А чо рукомеслуешь-то?
– Ароплан, – говорит Федот.
Так все и покатились – у старосты со смеху гасник лопнул.
– Талагай!..16
– Батюшки! Ароплан…
И пошло по деревне:
– Ароплан, взаболя, купоросной ладит.
– Ароплан?
– Куды иму? За белкой по кедру гоняться.
– Ой, милота! Ой, улыба!..17
Целым обществом ходили, журмя журили, отговаривали:
– Возьми, парняга, в голову: делатся ароплан на заводах, людьми век тому обучающимися. Дудочки на костие идут тонюсенькие, пленочки чуть морощатые, а ты жердины в руку толщиной влепил.
А Федот лицо косит да сиплым своим голосом отвечает:
– Завидки берут? Али зверь мудренее человека – а без науки большие ухватки знат. Вы мне тюрюрю не городите18. Полечу и никаких.
Отстали.
Почесь19 три месяца мужик бился – изомлел весь и сгородил такую штуку, аж самого дивеса дрожью пробирали.
Отойдет от работы, головой покачает да от удивления и ахнет:
– О-о-о…
* * *
В ту пору учителя нового в деревню определили: духом смирного, незатейливого, молчальника. Мужикам он понравился: не брякуша20 и под нос с расспросами не лезет.
Узнал первым делом учитель об самомнящем дерзновении Федота. На другой день приезда и пришел к нему на стройку.
Обошел машину, пощупал жерди пальцами, носом воздух потянул и, тыча пальцем Федоту под сердце, отрывисто бросил сухие слова:
– Полететь думаешь?
– Полечу, – твердо сказал Федот.
Тут взглянул хитрым серым глазом в лицо Федоту учитель и растянул:
– Не полетишь.
– Пошто?
Учитель послушал, как шумит ветер в кедрах, отломил веточку пихты, помял ее в ладонях и швырнул прочь. Потом просто и душевно сказал Федоту:
– Сердцем не вышел. Хлипок. Не полетишь.
* * *
И будто что вынули из груди Федота. Размяк весь сразу, словно угорел. Постоял, потоптался на месте.
Обедать пошел и не мог есть. Ослонила21 со всех сторон тоска, обдержания. Опять на стройку ушел…
Голову загнетала мысль: – «хлипок, а? куричье сердце?» И точно спрятана где была эта мысль, а теперь выскочила, заполнила все существо и сразу вера в себя и бодрость пропали.
Душно было, будто сердце – раскаленная каменка и брызнули на нее водой…
И остекленивши, сказал Федот:
– Их, оглух…22
Скрипнул зубами, топор схватил и работу свою взлелеянную разрушил.
– На!.. Лопай.
А по вечеру напился самогонки, с гармошкой ходил по деревне, орал матерные песни. А позади шел сынишка, Сенька, дергал отца за пояс и пикал:
– Тя-тя… пойдем домой… тя-тя..
И ночью, когда все полегли спать, подошел Федот к школе и все окна выбил.
– Вылазь, сука!.. – сказал Федот с колом в руках у крыльца. – Вылазь!
Вышел учитель – в белой рубахе и белой фуражке и тихо, грустно сказал:
– Коли горит голова, – лучше не кричать… А коли болит душа.
И попросил прикурить.
Непонятно и пугающе звучали его слова, вместо выстрелов, как ожидал Федот, вместо матерщины. Едкий и незнакомо больной осадок на сердце впускали слова.
И не мог Федот придумать, как ему отсюда уйти без позора, без насмешки впредь.
– Стерва ты, – сказал Федот, поворачиваясь, – стервой и подохнешь…
…Учитель вошел в комнату и, сдвинув брови, хрустнул пальцами. Сквозь разбитые окна врывался теплый августовский ветер.