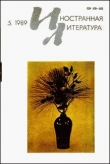Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц)
– Это мой дом и моя мебель, – ответил Ефим Сидорыч, доставая из кармана газету. Красногвардеец взглянул на газету, зевнул, глаза у него были сонные и голодные, и он неожиданно ласково сказал Ефиму Сидорычу, что здесь был великий князь, – верно, был и позавчера расстрелян, а теперь в этом особняке поселится с секретарями и штабом комиссар Петров. «Это который настаивал?» – спросил Ефим Сидорыч злорадно. Красногвардеец ответил: «Не. Брат. Который молчал. Семен Григорьич». Ефим Сидорыч не поверил красногвардейцу, сел подле дома на камушке. Вскоре приехал на машине комиссар Семен Петров – веселый, плечистый, с охотничьей собакой на коленях. И стража и комендант дома особенно ласково смотрели на рыжую собаку. Красногвардеец-часовой что-то сказал комиссару, тот посмотрел в сторону Ефима Сидорыча, пошел даже к нему с радостным и добрым лицом, но на полдороге вернулся и, посвистывая, ушел в дом. Собака прыгала вокруг него, и даже слышен был ее веселый визг и прыжки в доме. Ефим Сидорыч сказал возмущенно красногвардейцу: «Я даже дома не прошу, отдайте мне мебель! Я же способствовал уничтожению великого князя. Я же им предложил…» Красногвардеец вдруг лениво вскинул ружье на руку: «А мне, дяденька, надоело на тебя смотреть. Ты вот сидишь, а я в тебя и в сидячего палить буду…» Ефим Сидорыч перекрестился и медленно отошел от своего дома. В совете ему сказали, что вопрос о мебели по-прежнему остается открытым. Вечером Ефим Сидорыч пил у Маркелл Маркеллыча чай.
– Я поддерживал эту власть, – воскликнул Ефим Сидорыч, – через все возражения друзей и родных поддерживал. А что получил?
Маркеллу Маркеллычу хотелось говорить; он открыл рот, но Ефим Сидорыч поднес к его лицу чашку с чаем и прокричал:
– Вы даже чай мне из ненависти жидкий налили! Я поступок Жиленкова одобрил. Я расстрел великого князя одобрил…
– Бодро держался, говорят… – задумчиво глядя на чай Ефима Сидорыча, сказал Маркелл Маркеллыч.
– Жиленков – патриот и офицер, а в Красной армии?.. Какая ему польза?
– Бодро держался при расстреле, – вдруг громко, глядя в лицо Ефиму Сидорычу, сказал адвокат.
Ефим Сидорыч растерянно улыбнулся.
– Бог ему судья.
– Бог ли? – завопил адвокат, и лоб у него стал багровый и потный.
Ефим Сидорыч встал, отодвинул чашку и резко сказал:
– Я виноват, каюсь. Старика убили зря. Но и вам, Маркелл Маркеллыч, вашего крика простить я не могу.
И Ефим Сидорыч ушел и от своей невесты, и от своего будущего тестя и, переходя двор, пустынный, некогда наполненный птицей, зерном и навозом, чувствовал в себе огромный стыд и смятение.
Глава пятая
Ефим Сидорыч часто ходил за справками из новых законов в исполком. Он долго вчитывался в законы, выписывал их себе на листок, а оттуда в заявления о передаче ему мебели. Едва сдав заявление, он вспоминал о том, что на его мебели лежат с сапогами красногвардейцы, комиссар удало стряхивает пепел на шелк его, Ефима Сидорыча, диванов – и составлял новое заявление. И каждый раз доводы, приводимые им, казались ему все убедительнее и убедительнее. Наступила весна и лето и осень; проходили по губернии и области мятежи, восстания и продразверстки; комиссар Петров обзавелся новой машиной, съездил на польскую войну3 и привез оттуда веселую и высокогрудую жену; жена принесла ему вскорости девочку. Ефим Сидорыч проходил мимо особняка, – там справляли рождение, хохотали и пили водку. Ефим Сидорыч забыл уже, какого цвета шелк на диванах и креслах, и только малиновый сафьян кабинета остался у него в памяти, и то только потому, что исполкомовский сторож вдруг появился в малиновых сафьяновых туфлях. И запах и рисунок кожи были знакомы Ефиму Сидорычу. «С дивана сорвали, что ли?» – спросил он сторожа. «Не знаю откуда, – ответил сторож, – только мне председатель подарил туфли». Пришел голод, и во время голода Варвара Петровна впервые в жизни исполнила желание сына – ушла от него. Хоронили ее осенью, могилу копал сам Ефим Сидорыч, а закапывать – вдруг руки ослабели!.. Он взглянул на свои руки: они стали морщинисты до неузнаваемости, и желтая краска сапожного мастерства залила теперь даже тыл ладоней. Ефиму Сидорычу стало жаль не себя, а старости и смерти матери своей, а затем стало жаль и старости Катерины Петровны, тетки, и зачем-то вдруг вспомнился расстрелянный Голофеев и недавно приехавший с войны Жиленков, все такой же подозрительный и напуганный, хотя он теперь заслуженный красный офицер. Жиленков работал по искусству: сооружал городской музей… Ефим Сидорыч, вернувшись с похорон, долго писал (как и десяток раньше, так и десяток позже) донос на дела и безделья комиссара области Семена Петрова. Сдав донос, он – многие годы уже так – ощущал себя непоколебимо твердым – «правым» (он так и думал «правым», уже не зная, в чем заключается его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике, или во власти вообще, а может быть, вообще в торжестве злости), и тогда он шел к Маркеллу Маркеллычу. Они уже давно помирились. Маничка Епич была по-прежнему верна Ефиму Сидорычу, – возможно оттого, что женихов не было. Случился какой-то комиссар-жених, но прошел непонятно-позорный слух про Маничку – и схлынули женихи. Она похудела было, но выправилась быстро и начала опять ждать Ефима Сидорыча. Маркелл Маркеллыч стал правозаступником и в важные минуты любит говорить, обращаясь к судьям: «Ваше пролетарское самосознание должно идти в ритме эпохи. Вот смотрите: Египет»… Жиленков был уже заведующим-хранителем музея и экспертом по отнятым ценностям. Подмигивая и прихихикивая, принес он к Ефиму Сидорычу документик, из которого явствовало, что «наполеоновскую» мебель Е. С. Чижов купил на трудовые свои деньги, ценности она не представляет, и люди, сведущие в искусстве, не возражали бы против возврата оной «наполеоновской», якобы, мебели ее владельцу. Маркелл Маркеллыч добыл такую же бумажку от профсоюза; а позже, когда Ефим Сидорыч поступил в кооперацию, и кооперация подтвердила ходатайства и людей искусства, и людей профсоюзной работы. Ефим Сидорыч смотрел на жизнь комиссара С. Г. Петрова – невеселая у него была жизнь! Комиссар, видимо, скучал: много пил, поигрывал 3 карты и пел по утрам военные песни. Голос у него становился все хриплее и хриплее, и собой комиссар грузнел, и не было в нем уже той прыткости, когда он, захлопнув калитку, бежал к жене. Да и жена заметно постарела: щеки у нее обвисли, и она начала носить капоты и перестала вспоминать о Польше…
И вот однажды произошло так, что комиссар по пьяному делу обругал ночью рабочих, работающих на прокладке водопровода. Ефим Сидорыч донес. Раньше, несколько лет назад, он доносил только на то, что он точно знал о комиссаре, а теперь он писал о любом слухе! Уважение и страх к власти исчезали; он видел, что эту власть можно обмануть так же, как он обманывал раньше учреждения или торговцев. Комиссара вызвали в партийный суд (неизвестно, из-за рабочих ли, а болтали – по оппозиционному делу)4; и отправился комиссар на Север! Уехал он бесславно, и секретари и многие собутыльники покинули его. Исполкомовский сторож в истертых сафьяновых туфлях пришел провожать комиссара Петрова. Особняк пустовал два дня, а на третий к железной ограде его подъехали две подводы, – Ефим Сидорыч и его невеста сидели на них! Исполкомовский чиновник открыл двери: «Да, конечно, обивку на мебели необходимо переменить, но особенно большой реставрации от мебели не требуется». Жиленков поздравил молча Ефима Сидорыча, и молча же стоял он у загса, куда пошли записать свою удачу Ефим С. Чижов и М. Епич. Затем молодожены, пригласив на свадьбу к себе, в волость, выехали на большую дорогу, за город. Маркелл Маркеллыч со слезами смотрел им вслед и, когда возы и таратайка с молодыми исчезли из глаз, обернулся к Жиленкову: «Стареем», – сказал Маркелл Маркеллыч со вздохом. Жиленков посмотрел на него со злостью и с подозрением, а затем испуганно и любезно улыбнулся.
Утром Ефим Сидорыч проснулся раньше всех. Он раскрыл окно. Перед ним была волостная площадь, и громадная желтая вывеска кооператива, в котором он служил, сияла росой и веселым солнцем. Он обернулся: пышная, украшенная бронзой, завитушками, заморским деревом, шелестя шелками и шнурами, мебель заполняла все комнаты. За перегородкой спала верная жена – ее ровное дыхание было солидно и хозяйственно, она имела право так спать потому, что честно, через многие испытания пронесла свою верность. Ефим Сидорыч достал из шкафчика малиновое варенье. На крыльце Катерина Петровна ставила самовар. Ефим Сидорыч пил чай, – стакан за стаканом, – и смотрел на великолепную дорогу, ведущую к волости. Темная пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья! Сердце Ефима Сидорыча было наполнено спокойным торжественным ожиданием. За окном, шепелявя, пело дерево, и птицы молча носились среди ветвей, неслышно перебирая теплыми и пушистыми крыльями.
Подвиг Алексея Чемоданова*
Это произошло осенью тысяча девятьсот двадцатого года в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.
Перед отъездом из Москвы и в приволжском городке Н. командир Н-ского стрелкового полка Алексей Митрофанович Чемоданов много пил, играл в карты и встречался с ненужными и противными женщинами. Алексей Чемоданов собой был хорош, весел той беспокойной веселостью, которая так нравится людям, ибо в ней люди всегда видят униженность. И в поезде, медленно катящемся по уральским степям, опять пили самогон, денатурат и бражку. Чемоданов хохотал, рассказывал приобретенные в командировке анекдоты, и чем дальше поезд уходил в степь, и чем чаще появлялась в вагоне охрана, и чем больше было разговоров о бандитах и казаках, – тем беспокойнее и шумнее чувствовал себя Чемоданов. Пили что ли чересчур много, – в голове постоянно ныло, а в горле стояла слизистая дрожь, которую никак не удавалось выплюнуть. В Олонках (от которых по всем расчетам оставалось не больше дня пути до станции Наньей, где стоял полк Чемоданова) поезд задержался и Чемоданов вышел погулять. Он вспомнил, что год тому назад полк проходил через Олонки, и от всего города Олонки в памяти осталась только вывеска над булочной в виде огромного кренделя. Станция заполнена народом. Степь за городком самодовольная и тускло-желтая. Твердый и самодовольный ветер нес из степи крупный песок, и песок этот с легким звоном бил о рельсы. Сразу же за паровозом начинался этот легкий звон, и паровоз стоял растерянный, грязный, тупой. Чемоданов повернул к станции. Старуха, повязанная розовым полушалком, предложила ему шепотом самогона. «Пьяная у меня морда, что ли?» – с удалым и привычным беспокойством подумал Чемоданов. Лицо старухи показалось ему знакомым. Он пригляделся и вспомнил, что в Москве, уходя пьяным от приятеля, на лестнице он встретил молодую женщину, повязанную полушалком, тоже, кажется, розовым. Было уже утро. Женщина держала в руке большой мешок из дерюги. Она пропустила Чемоданова, а ему вдруг захотелось с ней поговорить. Он догнал ее и, наверное, оттого, что лицо ее было несколько похоже на цыганское, предложил ей погадать. Она предложению этому не удивилась и, раскинув мешок на ступеньках, достала засаленные карты. Она говорила: Чемоданов проживет долго; ему предстоит увидеть много счастья; многочисленная семья ожидает его! Голос у нее был тоскливый, и по всему можно было понять, что она желает и видит в жизни людей то, чего не хватает у нее самой. И чем больше слушал ее Чемоданов, тем яснее становилось, что она крепко верит тому, что говорит, завидуя чужому счастью. И гадает она всем с такой охотой, дабы позлорадствовать! Чемоданов положил руку на бубнового туза и сказал, глядя в лицо женщине: «Утопишься ты сегодня, известно тебе это, ба-аба?». Женщина медленно стала собирать карты. Чемоданову стало жаль ее и стало стыдно от своего желания унизить человека и оттого, что руку лихо положил на бубнового туза. Затем подумалось: ведь и на самом деле – возьмет да утопится! Но женщина не обиделась, взяла мелочь, сказала, что утро жаркое, и ушла. И, когда она подымалась по лестнице, Чемоданов подумал, что все движения ее говорят о том, что ничего ей удивительного на свете нет; все она исполнила; все понимает. И жалость его исчезла. И теперь старуха, повязанная розовым полушалком, была с таким усталым же лицом, как и у той женщины, гадавшей на картах, и Чемоданов спросил то, что он и не посмел и не успел спросить:
– А что, бабка, все уже сделано, а?
– Все, родной, – ответила старуха.
– Помирать надо, а?
– Ну, вот, скоро и помрем.
И тогда Чемоданов быстро пошел в свой вагон, взял вещевой мешок, дождался, пока поезд не отошел, и затем направился в город. Здесь, совершенно уверенный, что его в Олонках хорошо знают, он явился в военкомат, и ему, точно, обрадовались. Лысый писарь, страдающий восторженной любовью к героям, торопливо выписал ему ордер на комнату. Хозяйка встретила его подобострастно. То чувство, которое овладело им после слов старухи, а именно: сейчас, немедленно же надо продумать и решить, ради чего он жил, пьянствовал, обижал людей и самого себя обижал, – уныло тревожило его. И даже словами надо думать не такими простыми, а как-то… Он спросил самоварчик, заварил чай: морковный, густой. Чай обладал удивительными запахами простой семейной жизни – Чемоданов лил его в синенькое блюдечко. Тревога овладевала им все больше и больше. Он с трудом допил чай. За окном на форточку сел голубь и, туго шурша, перебирал (розовым от закатывающегося солнца) клювом перья крыла. За дощатой перегородкой соседи, актеры, должно быть, разучивали роли из какой-то необычайно революционной пьесы. «Каким же надо быть чудаком, – подумал Чемоданов, – чтобы верить, что революция может свершаться по таким словам, а главное – аккуратно записывать эти слова на бумагу, печатать…» Усердие и уверенность звучали в голосах актеров настолько, что Чемоданову захотелось их видеть. Но не для разговоров с актерами он сюда приехал! Он схватил фуражку, вышел. Городок казался необычайно пустынным. Собаки смотрели на него испуганно, молча. На песчаных коричневых холмах за городком безмолвно торчали три мельницы. Украшенная жесткой желтой травой дорога огибала мельницы. Несколько парочек шло по этой дороге. Чемоданов поднялся вслед за идущими на холм. Большой луг, поросший по краям мелким и сухим лесом, открылся его глазам. Дальше речушка в трескучих камышах и песчаных отмелях заканчивала луг, и за нею рыжая степь простирала свои огромные крылья. Дорога свернула к лесу – болезненно искривленному, сухому, вызывающему мысли о пожаре. Парочки торопливо углубились в лес. Мещанин в короткополом пиджаке, седой с безумными глазами навыкате, обогнал Чемоданова. «Ишь, старик, а туда же, – презрительно подумал Чемоданов, – нашли, где зачинать детей. Любовь! Вешаться в таком лесу, а не любить». У дороги он увидал плотный забор из досок. Обогнавший его старичок мещанин смотрел в щель. Плечи мещанина, похожие на неумело стянутые узлы, вздрагивали. «Убивают, что ли, кого?» – лениво подумал Чемоданов, протягивая руку к кобуре. Старичок обернулся. Выпуклые глаза его уставились торжественно на Чемоданова. Старичок указал на щель рядом с собою. Чемоданов подошел. Должно быть, раньше во дворе были дровяные склады. Кое-где валялись бревна, рассыпанные поленницы шелковисто сверкали берестой. Под широким тополем он с трудом разглядел сторожку. «Начинается…» – прошептал мещанин. От ветвей тополя в сторожке, наверное, было темно. Длинный и синеватый свет спички скользнул над столом. Голова гитары, чем-то похожая на разверстую пасть щуки, отодвинулась от огня лампы. Низкий, несказанно тоскливый, мужской голос запел. Чемоданов отошел, поправил кобуру, сделал было несколько шагов. Голос повышался все выше, выше. Песчаная дорога мертвенно бледнела. Чемоданов вернулся к забору.
Не дивитесь, друзья,
Что не раз между вас
На пиру веселом я призадумывался…1
По ту сторону стола лампа освещала часть лица старушки, скорбный и сухой подбородок, тощую руку, вязавшую чулок. Рука эта была в бумажной перчатке с рваными пальцами. И перчатку, и эту руку Чемоданов разглядывал потому, что ему тяжело было смотреть на громадный пухлый рот и неподвижное белое лицо певца. Один рот лишь ясно выражал то отчаяние и страдание, которым была наполнена песня. Рот сжимался в бешеных судорогах. Он выпускал слова. Метался над столом, как бы ловя эти слова обратно! Наконец схватывал их и – выкидывал в долгом и тяжелом вое. Вот этот-то вой и заставил вернуться Чемоданова. Когда вой оканчивался, одно мгновение смятение озаряло лицо поющего, и это-то смятение только и напоминало людям, что поющий – женщина. И еще следы смятения, молнию любви; ужас тела, охваченного любовью, нескончаемой любовью, увидел Чемоданов на лице мещанина с выпуклыми глазами. «Старуха-то, старуха-то не чует, что ли?» – туманно подумал Чемоданов, и тотчас же знакомая слизкая дрожь заполнила его горло, опять заныла голова, и мещанин стал ему несдержимо противен. Мещанин же бормотал ему в лицо:
– Третью неделю поет, гражданин! Старуха белье распродает, которое осталось, да варежки вяжет на армию. Белье тоже на картошку меняют, кормит ее, а она поет.
– С голоду поет, – не понимаешь?
– И с голоду, и со всего дурного. Всю ночь напролет поет. К полуночи-то у забора все горожане сбираются, на цыпочках. А она думает – пустыня, лес; никто не слышит, старуха-то глухая. Вот и поет.
– Дура, оттого и поет!
– Согласен с вами. Все же и тоска. Жениха, что ли, у ней повесили, али убили, али другую полюбил? Как вы думаете? Земля тесная, – куда со своей тоской деваться? Третью неделю поет и на моих глазах сохнет. Лицо-то все белей и белей.
– Мажется, вот и белей. Актриса будет. Актриса из нее получится, оттого и поет. Нельзя иначе по другой причине так петь, – понял?
– Кабы не такая жизнь да кабы не картошка, может быть, и вышла бы актриса, гражданин. А теперь еще недельку, самое крайнее – две, попоет и сдохнет. И как же быть иначе, гражданин? Судите сами хоть бы и со мной…
Чемоданов уже был на дороге. Об актрисе он сказал больше для старичка, чем для себя. Пускай старичок думает, что человек с револьвером остановился в городе не для того, чтобы слушать, как сходящая с ума баба поет. Любовь солдата должна быть быстрой, веселой и немедленной. Он остановился:
– Как ее зовут-то?
– А Христиной Васильевной зовут, – отозвался мещанин.
Н-ский полк, стоявший на станции Наньей, в отсутствие командира заметно поредел. Тиф, дезертирство. В полку было не более трехсот человек. Казаки готовятся к наступлению. На юге в степи видны зарева; крестьяне опять не подвозят фуража; пополнений нет, а штаб дивизии требует, чтобы полк готовился к выступлению на казаков. Посылали конную разведку, а она попала в Огород богородицы…
– Куда, в какой огород? – недоуменно спросил Чемоданов.
Заместитель и комроты первой, Игнатий Луба, лобастый, кривоногий, с маленькими желтыми глазами, всегда смотрел вбок, и даже когда он говорил правду, – а он ее всегда старался говорить, – все же казалось, что он лжет и скрывает что-то необычайно важное. И, как все в полку, Чемоданов мало доверял Лубе. Чемоданову хотелось упрекнуть Лубу в разгильдяйстве, распущенности, но после долгой дороги надо выспаться, выпить молока, а если начать разговаривать, то Луба потребует перенести вопрос и на ячейку, и в бригаду. Утро было свежее, звонкое. У сарая из длинных корыт кони ели мешанку. Толстые воробьи носились над гривами. А в сарае жеребята тонко стучали копытами, ржали и путались в арканах. Луба гикнул, жеребята примолкли, и он сказал:
– Солдаты наши не устоявшиеся – не разберешь, что у них на уме. Я сам в разведку поехал. А какие мы на коне вояки? Сам знаешь! Нам перед казаками устоять трудно, – вот если к штыку моему казака подогнать, я тогда увижу его слезу, – это правда. Ну, и погнали казаки мою разведку и меня в том числе. День и ночь, целые сутки гнали. Двоих моих убили, а один, Митька Смолых, от раны да от жары с ума сошел. Выгнали нас в долинку такую, называется чудно, верно, Огород богородицы, – там, видишь, колодец, и не то тебе пещерка, не то яма имеется, а вокруг богородская трава растет и дыня одичалая. Кто их знает, – и на самом деле какой-нибудь пустынник проживал и рассаживал огород!
– Нам это ни к чему, одни глупости. Пулемет бы захватили!
– И пулемет был, да патроны все порастрясли. Митька при последних и сошел. Вот какие дела… Прибегаем в эту долинку, в Огородик этот. Митька нам дорогу до этого указывал, а как увидал: пулемет пустой да долина эта перед ним, пал на колени и давал богу молиться. Вот и оказались мы из-за него в незнаемом месте, а кроме того, пески подули. Казак с песком подойдет неслышно, – а куда нам в пески от казака бежать? Стоим и ждем.
– Окопались, по крайней мере?
– Окопались. Стоим и ждем. А тут кони ржать начали, сначала один, а потом другой. К чему бы, думаем? Оказывается, трех кобылиц взяли, а они, видишь, по ребятам скучают, а ребята-то ихние при станции остались, в сарайчике. Так вот мы подумали, посоветовались, да и кобылиц-то вперед и пустили на свободной узде. Вот они материнским сердцем и пошли. Прямо через пески идут и идут. Поржут легонечко так, ниточкой, вроде между собой переговорят, и дальше…
– Компас надо иметь, а не кобыл. Вообще к жизни надо математичнее относиться, – сказал Чемоданов и сразу же понял, что сказал не то, что должен и мог бы сказать. И он тотчас же рассказал Лубе о Христине Васильевне. Рассказ этот получился глупый, бессмысленный и даже смешной, хотя и можно было рассказать очень смешно, как женщина в тоске поет густым-густым баритоном перед глухой старухой и горожанами, прячущимися за забором. Луба сказал, что с немцами происходят и не такие чудные вещи. И на этом весь разговор кончился. Чемоданов пошел спать. Выспаться ему не удалось: из бригады прискакал нарочный с пакетом, в котором приказывали немедленно сниматься и идти в степь на казаков. Видимо, в бригаде только и ждали приезда Чемоданова, и это понять ему было и лестно и неприятно. Особенно неприятно было потому, что все время его преследовала мысль (пустяковая и неправдоподобная, но в которую хотелось верить), что вот даже и в том, что Чемоданову не дали выспаться, есть какая-то скрытая каверза Лубы. Красноармейцы плевались, шоркали ногами, запах сонного тела шел от шинелей. Чемоданов с намеренно громким хохотом вскочил на коня; выругался трехэтажным ругательством, – красноармейцы захохотали, сразу стало веселей, и Чемоданов спросил: «Жеребят оставили?» И тогда Луба отозвался: жеребята идут с полком, но полк-то, видно, опять пойдет Огородом богородицы, да и для казаков-то больно уж там хороша позиция. Чемоданов догнал Лубу и опять начал рассказывать о Христине Васильевне и об городе Олонки. И опять получалось, что Луба понимает Олонки по-своему. Он думает: Чемоданов потому заезжал в Олонки – жалко ему Христины Васильевны; любит он ее и тоскует по ней, и, наверное, старая эта любовь у него. Луба недовольно и даже презрительно мычал. И только помкомроты первой, белобрысый и весь пухлый Афанасий Леонтьич, сочувственно сказал Чемоданову: «Вам необходимо было б пожить денька три там». «Действительно, – подумал Чемоданов, – если б пожить в Олонках несколько дней…» Но что он мог придумать, с кем бы он мог поговорить? Полк шел мимо ряда песчаных и скучных холмов. Светало. Небо было серенькое, тепленькое, чем-то похожее на развернутые крылышки. Вот у наседки под крылышками, наверное, так же тепло и так же противно ждать, когда нападет ястреб. Лица людей были наполнены утомленной бодростью, тем выражением, которое приобретается привычкой к войне. Они просто и по-своему понимают войну, а сам Чемоданов…
Чемоданов засвистал. Луба взглянул на него с одобрением; кривые ноги его заковыляли быстрей. Хриплый голос из рядов солдат хватил песню. Рота гаркнула. Чемоданов размахивал руками, кричал, вертел нагайкой, – у него было бледное и бешеное лицо. Полк сухими, срывающимися голосами ревел сильней и сильней!
К вечеру полк остановился перед долиной, которая называлась Огород богородицы. Тотчас же напали казаки. И напали они так, как ожидали все: то есть из-за холма с пиками наперевес выскочат лохматые люди в странных папахах, низенькие иноходцы зарябят по песку. Нет, цепь солдат в фуражках со скатанными шинелями за плечами мелькнула на большом холме, похожем на верблюжий горб. Обрывок резкой команды донесся по ветру. Казаки открыли правильный, систематический огонь, и, услышав этот огонь, Чемоданов сразу почувствовал, как в горле отхлынула и исчезла слизистая дрожь; прояснилась голова, и на мгновение он как бы почувствовал в руках руль огромной машины, который он повернул и остановить который ему и не в силах, да и нужно ли? Он пристально посмотрел в долину. И только теперь ему стало действительно смешно и непонятно – как можно было эту долину назвать Огородом богородицы. Хороша же богородица, если у ней такие огороды! Небольшой овраг со следами дождевого потока пересекал долину. Еще можно было, напрягая зрение, разглядеть следы конских подков на глине оврага. По этому оврагу, наверное, бежали кобылицы. Чемоданов приказал открыть пулеметный огонь. Биение громадной и в то же время неслышной машины все сильнее и сильнее отдавалось в его теле. Временами он приказывал прерывать огонь, прислушивался, махал рукой – пулеметы опять взвывали. И когда биение громадной машины высушило глотку и глаза начали ныть, требуя влаги, Чемоданов скомандовал цепями двинуться на холм, похожий на верблюжий горб. И он правильно себя понял: казаки побежали. Верблюжий горб господствовал над долиной. Солдаты вкатили на горб пулеметы. Первая рота во главе с Лубой кинулась преследовать казаков. В долине сильно стемнело, но все же можно было разглядеть, как исполнительный Луба твердо и верно ведет вперед свою роту. Казаки оставили на холме несколько кошемных вьюков. Чемоданов сидел на одном из вьюков.
Руки Чемоданова тряслись. Пулеметчики напряженно смотрели в долину. И здесь произошло то, чего не предполагал Чемоданов: казаки поняли, что, покинув верблюжий горб, они должны признать себя разбитыми. Они остановились. И опять биение огромной машины почувствовал Чемоданов. И опять, даже не глядя в долину, он понял, что первая рота повернула, бежит. И впереди роты бежит Игнатий Луба! Вот где сказались его косые глаза! Чемоданов прикрыл ладонью лоб. Рука у него была мокрая. Пуля пробила ему плечо. Тихая, какая-то конфетная сладкая боль ползла от плеча к хребту. В висках звенели желтые круги. Но биение машины неустанно продолжало властвовать над всем его телом. Растерянные и усталые красноармейцы лезли на верблюжий горб. Гиканье преследователей слышалось поблизости. Чемоданов расстегнул кобуру и достал наган. Он хотел подняться, но поскользнулся, упал. И с земли уже он крикнул, чтобы его положили на вьюк и вынесли перед пулеметами. Афанасий Леонтьич подскочил к нему. «Неси, курва!» – сказал Чемоданов, поднимая наган. Афанасий Леонтьич испуганно схватился за кошму. Красноармеец с простреленной глоткой упал перед ними. Он корчился, хватал руками богородскую траву. Лобастое лицо Лубы, грязное, потное, показалось перед Чемодановым. Луба смотрел на него растерянно. На лбу у него была красная полоса от снятой шапки. Чемоданову стало на мгновение жалко и противно его видеть. Он хотел было сказать: «Ты куда, Игнашка, побежал? И чего тебе бежать? Убей меня раньше», – но мушка нагана уже скользнула перед глазом. Луба упал. Рота его остановилась.
«Цепью, вперед!» – сказал Чемоданов. Ему показалось, что он крикнул необычайно громко. Помкомроты Афанасий Леонтьич еще громче повторил его приказ. И трепет, и ровный ход огромной машины опять овладел телом Чемоданова. Он уже ничего не видел, но знал и радовался, что солдаты идут и идут! Пулеметы за его спиной наполнены необычайно ровной и спокойной работой. Его на вьюке подымают все выше и выше! Казаки бегут! Винтовки их смолкают, и чувство необычайно веселой сонливости овладевает им. Он понимает все и теперь только может рассказать без всякой лжи и путаницы всю правду о себе. Но ему смешно, и сон мешает ему рассказывать…
Чемоданов умер, и те трое, которые вынесли его на кошме к краю холма, тоже умерли. Их схоронили неподалеку от верблюжьего горба. Казаки бежали. Командование принял Афанасий Леонтьич. Утром полк двинулся громить станицы.
Этим закончился подвиг Алексея Чемоданова в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.