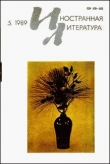Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 49 страниц)
– Самовар-то поставлен, – тихо ответила Анна, и голос ее был хриплый, чужой.
Разговора за чаем не получалось, у сестер были испуганно-ждущие лица, и вскоре сам Кондратий начал ждать от себя неизвестно чего. Надо б было сразу, после чаю, пойти на овин, а он вышел на улицу, оглянулся; повеселевшие лица сестер смотрели ему вслед, словно они угадали, куда он идет, – он и пошел. А затем получилось так, что все в деревне стеснялись разговаривать с ним, и ему пришлось напиться, хотя пить ему вовсе не хотелось, и, значит, вышло так, как ждали сестры. Самогон с непривычки отрыгивал, и было такое ощущение, словно он всполоснул рот керосином. Он пил три или четыре дня, несколько раз в кровь избил жену, куражился, кричал, что все теперь в хозяйстве испорчено, – и все молчали и словно бы одобряли его. Раз ему попал под руки ножик, источенный так, что посредине получилась выемка; он сунул ножик в карман, а когда проснулся утром и почувствовал в кармане нож, ему стало и страшно и весело. Он велел, – именно велел, а не сам, – запрячь лошадь и поехал в уездный город, в тюрьме которого сидел его отец. Звонко лязгала копытами в подмерзшую грязь подкованная вчера лошадь, небо было ясное, высокое, и железо на шинах было почти что белого цвета.
Когда к Ермолаю Григорьичу подошли и крикнули под ухо: «Огурец, иди на свидку», – он в это время стоял перед стенной газетой камеры и с горечью и страхом старался вникнуть в переписанные аккуратно стишки:
И теперь, чтобы в этапы
И в исправдомы13 не попадать,
Нужно меньше водки пить
Да и в карты не играть.
Он легонько провел ногтем по стишкам, оглядел себя: борода росла клочьями, парусиновая рубаха и штаны были грязны и помяты. И вдруг он понял, о чем написаны стишки. «В карты не играть!» – повторил он с усмешкой и выпросил у соседа, смоленобородого молокана, судившегося за конокрадство, чистую рубаху. Туго затянув тесемки на воротнике, он думал: «Кто бы мог приехать?» – и сразу же решил, что некому приехать кроме Кондратия. Он распустил тесемки и вновь затянул. «Не с добром приехал», – подумал он, и сразу же горечь и страх, нестерпимо мучившие его, прошли и еще более стали понятны прочитанные стишки. «Главно, меньше водки пить да и в карты не играть», – сказал он молокану, и молокан, увидав его резвеселевшее лицо, неизвестно чему подмигнул. Ермолай Григорьич вытер тряпкой громадные солдатские ботинки, тоже занятые у соседа, и, осторожно ступая, направился по длинному, тусклому и вонючему коридору. И он тоже, как и его сын, заметил, что день был высокий и ясный. Двор тюрьмы был весь в траве, и, переполненный неизвестно откуда хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну. Кондратий сидел у стены, на грудке кирпичей. Перед тем, как прийти в тюрьму, он выпил полбутылки водки, и хмель еще не успел ударить в тело, а где-то под сердцем лежало и таяло дешевое как от табаку томление. Ермолай Григорьич остановился перед сыном, откинул назад голову и ждущим, в то же время успокоенным голосом сказал: «Ну?» – и тогда Кондратий встал, не спеша сунул руку в карман и ударил отца ножом в живот. Нож как-то необычайно быстро выскочил обратно, и Кондратий ударил еще. Ермолай Григорьич стукнул зубами, схватился пальцами за усы, затем за глаза и подогнул колена. Руки у него упали на грудь да так и остались, впившись в чистую, с аккуратными тесемочками на вороту рубаху. Тут только Кондратий увидал на его ногах огромные тщательно начищенные сапоги, крепко стянутые толстым кожаным ремешком. Сразу же хмель зашатал его, и Кондратий устало присел на кирпичи. Уже трещал напуганный свисток, к трупу бежали с мокрыми раскрытыми ртами арестанты, а лицо у убитого делалось все более и более успокоенным и благодарным.
Счастье епископа Валентина*
Епископу Валентину (умилявшему граждан молодой своей хилостью, от которой казалось, что голос епископа звучит как бы во вчерашнем дне) председатель церковного совета Трофим Николаевич Архипов сообщил, что паства, собрав последние крохи и скорбя сердцем за епископа, жившего у мужика, отремонтировала светелку, где ранее помещалась ризница1. Епископа умилило все, даже голос Архипова (не одобряющий мир и трескучий по звуку), хотя Архипов, промышляющий кожами и кадушками, был во многом противен епископу. Архипов был мужик увлекающийся, горячий, религией он занимался не потому, что верил в бога, в боге он сильно сомневался и даже просматривал изредка богохульствующие журналы2, – он был честолюбив, отважен. Отец Архипова семидесяти двух лет повесился в витрине своего магазина: всю революцию торговал старик, а вот на восьмой год слопали, не мог осилить их, – а также не мог осилить себя. Сын рос в отца.
Паства уважала епископа, епархия была маленькая, недавно образованная: в церковном центре не знали, что уездный городишко И. вот уже полгода превращен за ненадобностью в волость3. Добро, если епархия насчитывала полтора десятка сел. Все ж епископ приехал в епархию свою с радостью, исполненный надежд и любви. Дело в том, что вот уже как год епископ полюбил девушку, назовем ее Софьей, – ничего в ней отделяющего ее от толпы иных девушек не было; она в меру боялась жизни, нежно берегла свое девичество, епископа, может быть, полюбила потому, что он был не очень боек, – и поцеловал ее один раз в щеку. Каждый день епископ Валентин писал ей письма, длинные, со вздохами, со следами слез и с надписью в конце каждой страницы «продолжение на обороте». Шапка епископа, высокая, потертая, из поддельного котика, была починена ее руками. Епископ тихо любовался неровно лежащими синими нитками, привык за последнее время часто снимать шапку: перевернет ее в тонких и бледных ладонях, вдохнет холодный и необозримо широкий воздух пустынного городка, – печальные мысли все чаще и чаще посещали его голову…
В собор епископу Валентину приходилось ходить мимо дровяного и сенного базара. Ласковые запахи мерзлого леса и сонных трав издавна умиляли его. Он воспитывался в городе, в деревне бывал редко, мужиков привык жалеть по картинкам и книгам. Деревню епископ представлял кроткой и в то же время жестокой, чем-то похожей на его детство, и когда его назначили в И. (он знал, что И. превращен в волость), он вдруг поверил, что счастье, которое его ждало с Софьей, – здесь, в простой и ровной, земной и скотской, то есть ясной по своим плотским желаниям, жизни. Счастье здесь придет и возьмет его дни без замедления. Несколько дней ему даже казалось, что он как бы возвращается в свое детство. Его комната у мужика пахла животными и картофелем, тихо превшим под полом.
А от него требовалось постоянно мыслить, что он, епископ Валентин, слуга бога и живой церкви, борется с тихоновщиной4 в своей крошечной епархии; что епархии, такие крошечные, открывают для прельщения глупых и неразумных чад блеском епископского служения. Хлеб и паства доставались с трудом (даже служение из великих церковных композиторов надо было назначать с выбором, ибо постоянно стоял подле хора агент, бравший налог за исполнение песнопений5, а миряне в кружку опускали мелкие монеты, и больше всего раздражало, что вот уже год, но каждый день в кружке находят николаевский двугривенный, и никак не удавалось уследить, кто так озорничает), и кроткая радость, с которой он встретил мужиков, медленно угасала в нем.
Так и теперь, идя базаром, епископ Валентин холодно, с неясным томлением, переходившим в раздражение, разглядывал тощие воза, мужиков, завернутых в грязные бараньи шкуры, плохо выделанные и плохо скроенные. На многих мужиках уцелели еще солдатские шапки, а от былых бравых движений не осталось и следа. День был светлый, морозный и как бы далекий. За базаром, среди сверкающих сугробов, сразу же начинались две тропинки: одна черная (сажу роняли, должно быть, когда несли железные трубы и печь) к светелке; другая, желтая и широкая, к ветхому собору; эта тропинка, извилистая, была утоптана слабыми женскими ногами. Даже по тропинке можно было понять оскудение и пустоту веры! Собор блистал голубизной, древностью и веселым величием.
Длиннорукий мужик в черном тулупе, белой шапке с громадными наушниками, из которых один был полуоторван, носился по базару. Он наткнулся на председателя церковного совета Архипова. Архипов снисходительно оттолкнул мужика, мужик не отставал, и тогда Архипов окрикнул епископа. На Архипове были щегольские сапоги с выгнутыми голенищами, отчего сапоги походили на полозья, поставленные торчком. Епископ медленно благословил председателя.
– Еле отвязался, восемь копеек ему дай! Восемь копеек на земле не валяются. Морозно-с? – присвистывая сквозь редкие зубы, спросил епископа Архипов. – Мороз-то душу радует, если знать, что дома тебя ждет отдохновение. Я вам для светелки дров торговал. Мужик нынче пошел на деньги жадный, за сажень ломят бог знает что, им хоть церковь, хоть трактир.
Он бойко, одним глазом, посмотрел на епископа. Всегда такой взгляд смущал епископа Валентина. Всегда после такого взгляда Архипов начинал выказывать унижение, даже просил исповеди, отпущения грехов, – и невозможно было понять: смеется он или действительно томится в страданиях. Архипов, продолжая бранить мужиков за отсутствие веры, шагал по желтой тропинке к светелке. Любовь мужицкую он сравнивал с собачьей, – и здесь опять епископ Валентин вспомнил свою любовь.
Догнали их еще двое членов церковного совета: чахоточный с одутловатым серым лицом и до нестерпимости выразительными глазами, низенький, жизнерадостный и постоянно строящийся Любирцев и мрачный, непомерного здоровья и столетней, наверное, жизни и как бы каменноволосый Егор Чирков. Они были друзья, во всем почти соглашались, только святых уважали разных: один Николая Мирликийского6, а другой Марию Египетскую7. Архипова они чтили как знатока законов, а епископа сразу же, когда он приехал, хвалили за безбрачие: легче, дескать, с тихоновцами бороться. И епископ вспомнил – тогда же Архипов, уже какой-то тайной мыслью унизив себя, исступленно, полушепотом, воскликнул: «Смущение веры, думали, произойдет, ваше преосвященство! Вы будто пламень, ваше преосвященство». Епископ Валентин растерялся и, хотя не верил Архипову, подумал – «скажу им о Софье позже…», и чем дольше он жил, тем все труднее и труднее было признаться в своей любви. Письма к ней становились все длиннее, часто в стихах. Она в ответ называла его своим Данте, а себя Беатрисой, письма так и подписывала: «твоя Беатриса», и это было неприятно и в то же время радостно читать.
Архипов, берясь за выпачканную известкой скобу низенькой двери, воскликнул:
– Нам ли, ваше преосвященство, не понимать ваших мучений? Живете вы у мужика, спите на досках, у Митрия-то клопов-то, поди, больше гвоздей, господи. И все из-за веры… Я же понимаю! Вера и терпение, – да мне ль не понять?..
Митрий, квартирохозяин епископа, был сапожник, – и клопов действительно было много. Помимо клопов епископа мучила духота: кроме Митрия, в комнате спали трое детей, теленок, стояли вонючие кадушки с огурцами и капустой. Митрий, сутулый, с грудной жабой, сильно некрасивый, настаивал перед епископом и перед живой церковью, чтоб требовали христиане уничтожения икон: «Больно святые ликами прекрасны», – озлобленно хрипел он. Тоже, должно быть, любви в своей жизни не встретил.
Епископ Валентин благодарно взглянул на Архипова. Епископу стало весело. Перед тем как войти в светелку, он радостно оглянулся. Морозный и звонкий шум базара умилил его. Голуби, суетливо хлопая крыльями, носились над собором. Купол собора отдаленно напоминал крыло, голубое крыло. И в светелке, когда они вошли, все бледно голубело, даже сапоги Архипова и те казались нежными. Пахло известкой. И простая мысль, что наконец-то милые женские кудри упали на его жизнь, непреодолимо завладела сердцем епископа Валентина. Стих затеплился внутри его. Он присел на лавку. И мужики, словно поняв его умиление, тоже присели на лавки. Они глядели в пол, молчали. Снег от их валенок светло и тихо таял на пахучих сосновых досках. Да, такая именно тишина ему необходима. Маленькое окно, стекла, закапанные белой краской, которую, наверное, забудут отмыть и которую так важно именно не отмыть. За окном сугробы, крепкие, словно бы столетние. За ними чуть-чуть мерцают голубые локоны на главах собора, над ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера… Он вздрогнул, обомлел.
Надо сказать мужикам о Софье! Он понимал, что теперь у него сил хватит бороться: как бы ни вопили тихоновцы о женитьбе епископа, сколько бы прихожан ни отвернулось от него, как бы ни позорили его святость. Возвышенная дрожь охватила его, – он перекрестился в угол. И то, что в углу не было образов, что епископ крестится на пустой угол, – мужики поняли по-своему, умилились, и только Архипов мельком подумал, что тут неладно, хитрый поп намекает и язвит, что вот светелку-то отделали, а иконы забыли поставить. Намекает на суету! Но Архипов верил в себя и знал, что он-то сумеет уровнять епископа. Излишне подобострастно Архипов проговорил:
– Тишина, ваше преосвященство, всего на свете слаще. Вот вечерком и сможете переехать. Помещение обширное. Одному скучно только мирянину…
Епископ смущенно осмотрелся: сводчатый потолок пересекала железная балка, тоже побеленная и как бы распухшая оттого. И епископ подтвердил, что да, комната, верно, большая. Архипов встревоженно взглянул ему в глаза (епископ понял, что сейчас, именно сейчас, надо сказать о Софье) – и опять смолчал. Архипов, должно быть, уже кое о чем догадывался. Он встал с лавки, и тогда епископ взял шапку, витиевато поблагодарил членов совета за хлопоты о нем и сказал, что пора идти на служение. Тяжело и устало бухал соборный колокол. По желтой тропе шли старухи в длинных черных платьях. На базаре, будто передразнивая благовест, лихо скрипели полозья. Члены совета отстали, епископ шел один, на душе у него было ясно, Архипов уже не тревожил его. Он с умилением думал, что вот: собор дряхл, служат в одном зимнем притворе, через весь притвор тянется к алтарю ржавая труба железной печки, и ладану никак не удается осилить запах сырых дров, а колокол гремит так, будто ему надо сзывать тысячную паству. Снег забился в калоши. Епископ остановился, и когда поднял глаза, перед ним стоял длиннорукий мужик в черном тулупе, недавно споривший с Архиповым. Полуоторванный наушник шапки болтался подле его инистой бороды. В руке он держал варежку, несколько монет позвякивало на дне ее. Лицо у мужика было веснушчатое, украшенное тонкими и веселыми губами, руки у него были упрямые, он взмахивал ими так, словно и посейчас не выпустил топора. Да и по всему можно было понять, что никакая работа ему не страшна, что к людям он относится снисходительно и многое успеет (и хорошего, и плохого) сделать в своей жизни. Епископу Валентину подумать так о мужике было приятно, и он спросил:
– Как имя-то твое, милый?
– Сумишев, – бойко, давая понять, что он все на земле знает, даже и то, почему епископ спрашивает его об имени, ответил ему мужик. – Сумишев, Митрий Максимыч, батя. Я вот с Архиповым говорил, Архипов твой… тьфу. Дай мне, батя, восемь копеек.
– Зачем тебе восемь копеек? – спросил епископ, думая в то же время, что в радости даже самые отвратительные голоса могут звучать прекрасно и что трудно понять: хороший или плохой голос у мужика.
Здесь подошел Архипов, но он не оттолкнул, как давеча, мужика, он наклонился к епископу и тихо сказал, что, верно, приходы бедны и епархия самая беднейшая, может быть, во всем мире. Жалованье епископу увеличат не скоро, причту8 где справиться. Он протянул синюю книжечку уложений о квартирной плате, и епископ смятенно прочел, что ему за квартиру надобно платить девять рублей за сажень. Он взглянул на Архипова, – «пять сажен», – сказал тот тихо и оглянулся на прочих членов совета. Члены совета сжали руки. Сорок пять рублей! Мужики молча переглянулись. Сумишев тараторил:
– Развожусь, батя9. Развод-то стоит семь с полтиной. Ну и наскреб я эти семь с полтиной, прихожу, едрена мышь! Надо им еще! Еще требовается двадцать копеек за прошенье писать. А зачем мне прошенье? Никак невозможно, оказывается, без прошения. А меня одна баба ждет разводиться, да другая ждет – венчаться. Самогон для свадьбы приготовлен, пироги мамка печет, прямо как в песне… А у меня двадцати копеек не хватает, едрена мышь!
Сумишев скинул рукавицы, щелкнул пальцами и притопнул даже, не имея силы, должно быть, сдержать свое восхищение миром: таким шутливым и трогательным. И дальше он уже говорил не для попа (да и поп-то глядел под ноги, слушая, должно быть, себя), а потому, что восторга у него так много, что стыдно и даже больно не поделиться им с прочими такими же счастливыми людьми. Он глядел на епископа – и тоже ничего не замечал в нем. Не замечал острого, усталого лица, красных пухлых век, длинного пальто с отрепанными рукавами и шапки в руках, шапки, снятой, несмотря на мороз и на то, что волосы у попа жидкие, серые… Шея епископа, закутанная грязным оренбургским платком, казалась необычайно длинной, а голова (все от того же пухлого платка) испуганной и больной.
– Чтобы мне да и двугривенного не хватало на свадьбу, как же так, едрена мышь! Я говорю писарю: «Ты обожди, гражданин товарищ, я сейчас». И на базар. Кричу: «Граждане, товарищи, дайте двугривенный на развод. У меня корова стельная, весна на носу, а по весне мне надо избу новую рубить, а от старой бабы как от пуха на воде: ни тебе колыханья, ни потонуть. С такой бабой мне какая выгода жить? С такой бабой мне разводиться давно пора!» Ну, они кричат: «Разводись, Митрий Максимыч Сумишев! Давай шапку али рукавицу, соберем мы тебе на развод». Весь базар кричит, вот какой мне почет. Ну, пошел я по базару. Смотреть ведь, кто сколько бросит – стыдно. Обошел всех, гляжу в рукавицу, весит тяжело, а сосчитал – накидали мне двенадцать копеек. Восьми копеек не хватает, батя! Второй раз мне идти по базару амбиция не позволяет, да и ни кляпа не бросят. Не ехать же мне из-за восьми копеек в обратную! А может, к тому времени и девка моего позора не перенесет, откажется. Что мне, по весне без избы быть? У меня изба должна быть новая, не могу я в осиновой избе жить, я хочу в сосновой. Правда, батя?..
– Правда, – ответил епископ на громкий возглас мужика. Но епископу даже и думать не хотелось, о какой правде спрашивает его мужик. Надо было б епископу обернуться туда, куда смотрит Сумишев, Митрий Максимыч: грудастая с крепкими, как бы деревянными, ладонями девка, обутая в раскрашенную катаную шерсть, полуоткрыв жесткий рот, стоит у дровней и ждет своей ночи и своей избы. И он, епископ Валентин, за восемь копеек подарит эту ночь девке. Горькая влага смочила б его сухие щеки. Но епископ, думая о своем, порылся в карманах. Попалось три копейки. Он сунул их мужику. Мужик, разгладив варежку, пересыпал деньги в карман, звякнул ими – «Ну, и за пятнадцать уговорю. Напишет покороче», – и мужик быстро побежал к крыльцу управления. Епископ уронил шапку, Архипов подобострастно подал ее. И епископ, все еще тиская шапку, сказал:
– Я не лед, братия. Я не могу моститься без досок, без топора, без клина. Мороз умерщвляет меня. Деньги мои ничтожны. Я отказываюсь. Счастье мое, видно, опять у мужика на печи пребывать.
Он взглянул на реку, виднеющуюся за обрывом, снежную, пухлую, – и Архипов и другие члены совета вздрогнули: от радости и от беспокойства. Радостно потому, что стало ясным, что архиерей святой человек, мученик, и подлая тихоновская паства кинет своих недостойных пастырей и перейдет на лоно истинной церкви, и беспокойно потому, что святой человек скоро поймет многие грехи, ранее им не замечаемые, многого потребует, возропщет, найдет других, более достойных сподвижников. Епископ опять уронил шапку. Шапку теперь ему не подали. Он склонился сам.
Мужики ушли далеко вперед. Соборный колокол трескуче гудел. Озябшие пальцы епископа неумело выдергивали из шапки длинные легкие и синие нитки. Поземка подхватила одну нитку. Легкое шипение перекатывающихся снежинок скрутило нитку, понесло. Сонная и пушистая туча подымалась из-за оврагов, из-за реки. Будет буран. Ветер обматывал синюю нитку вокруг тонкой вечернего цвета ветви, беспомощно тянувшейся из огромного сугроба. Какая пустыня, какое одиночество… И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которого знают мужики… Снега темнели, туча надвигалась. Еще полдень только, еще бы сиять снегам… Купол собора походил на голубое крыло…