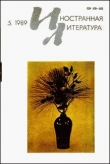Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 49 страниц)
Старухи Смородины караулили блаженного всю ночь, заснули у порога баньки под утро. Солдаты с хохотом указывали на их скорченные и жалкие тела. Лушка, все еще полуголая, совершенно пьяная, пыталась влить в рот старухам самогону. Стакан, мокрый от ее пота, вонючий, скользил из ее рук. Тогда рябой солдат схватил ее в охапку, влил ей в глотку самогон и заявил, что если блаженный хотел всю жизнь девку, – дать ее ему. Глаза у Лушки были осоловелые.
Солдат сбил поленом замок (старухи спали крепко), втащил девку, откинул у блаженного одеяло и, подталкивая девку коленом в бок, положил ее на кровать. Блаженный испуганно завизжал, замахал тонкими ручками. Уже показалось солнце, и солдату почудилось, что у блаженного с пальцев сыплется как бы шелуха. Старухи, проснувшиеся от вопля блаженного, рвались к дверям. Солдаты держали их за юбки, хохоча и стреляя вверх. Рябой солдат схватил блаженного за длинные масляные волосы и положил его на длинные потные груди девки.
В лицо блаженному лился густой запах спиртного перегара. У девки большие зубы, вогнутые, как бы вылизанные! Ананий попытался поднять голову – сил не было. Блаженный чувствовал небывалую слабость. Груди девки у его пылающей щеки твердели. Кожа ее упруга! Одеяло подле ее длинного уха розовело. И вдруг омерзение, владевшее им, исчезло, – запашистое и теплое дыхание окутало его лицо.
Лушка проснулась, почувствовав на груди тяжелый холод. Покачиваясь, чадила лампадка. На полу валялся стакан и бутылка самогону, заткнутая тряпкой. Девка спокойно сняла голову блаженного, сложила ему руки на груди, перекрестилась и сказала: «сухой-то какой!» Затем она налила самогону в стакан. Через дно стакана она увидала мутное пятно: голову на подушке. И перед тем как выпить, она пошарила: нет ли под матрацем и в подушке денег. «Одни образа», – сказала она. Опять перекрестилась, выпила водку, и, накинув на озябшие плечи одеяло, пошла искать старух Смородиных.
Глава седьмая
Сторож, посмотрев непочтительно Саше на ноги, виляя руками, подвел его к высокому черному памятнику. Деревянную ограду украшали золоченые вензеля. Человечек, запахивая латаное, без пуговиц пальто, смотрел полуоткрытыми тусклыми глазами на дорогу к городу, по которой шли военные обозы. Саша спросил. Человечек не отвечал. Тогда только Саша разглядел, что надпись на черном памятнике сбита, и в камне торчат медные гвозди. Саша переспросил: «Не правда ли, это ведь могила Максима Смирнова?» – «Максима Смирнова, – слабо, нервно дыша, сказал человечек, – казначея, торговца скотом, отца блаженного Анания…» Саша удивился вычурности его ответа. Человечек, видимо, сдерживая себя, заговорил:
– Напрасно смеетесь над древностью, милостивый государь! Я уже имею сообщение, что блаженный Ананий умер. Уже теперь надо мной смеяться не будут. Я сегодня над трупом все ему скажу… Меня вызвали сказать ему правду…
– Правду…
– Древность достойна сомнений, но не смеха. Здесь похоронена моя мамаша: Наталья Сухорукова. Я грязен, но не древен, и она не была древна, она умерла пять лет назад. Вы смотрите на эту могилу с сомнением? Правильно, потому что вы не видите на ней надписи. Надпись эту администрация кладбища приказала сбить. Почему же сбита надпись? Потому, что я не мог внести плату за могилу, а сдунуть с лица земли памятник у администрации нету сил, средств, ибо он весит тысячу двести пудов. И вот, чтобы досадить, они сбили надпись. Но сбили, конечно, не они, а вот этот ради насмешки сказанный вами Максим Степанович Смирнов, казначей и скотом промышлявшая дрянь.
– Уверяю вас…
Пафос охватил господина Сухорукова неудержимо:
– Разорил всю семью, по ветру пустил из-за страстей своих исключительно! Не мог сдержать себя Максим и в аду не сдержит. Его черти жгут, а он к бабе хочет! Многим это неизвестно, так как многие забыли Максима. Двадцать лет прошло с его смерти. Сынок знаменит, но и сыну я скажу правду! Меня призвали сказать ему перед гробом правду… Блаженному братцу Ананию! Тридцать лет лежал Ананий на смертном одре, каждый день сбирался умереть, забыть об этом грешном мире. И не умирал. Горел по женщине. Похотью исходил! Все надеялся – встану! И если б знал, что не встанет, что суждено лежать ему до самой смерти, тогда бы на пальцах своих рук пополз бы он к женщине. Десять верст бы прополз. Приполз, а ее нет. Она померла. И тогда Ананий, не отдыхая, полз бы дальше, к ее могиле. Могилу разрыл бы зубами. Он верит, что она жива и его ждет. И она, действительно, живая лежала бы в могиле… Вот я Ананию и скажу! Вот обозы пройдут, я и на скит, чтоб не задержали обозы, солдаты. Я скажу: врешь, Ананий, промахнулся, помер.
– Я вчера был…
– Поступайте подобно им. Вот я спущусь в ад – я нарочно грехов больше делаю, вот, например, на бога мне наплевать. Я встречу Максима Смирнова… Я слов здесь приготовил. Максим Смирнов – злодей, убийца. Мамаша моя, Наталья Сергеевна, красотой не отличилась. Но чресла ее были приготовлены господом для многих рождений. Так вот Максим Смирнов, прельстясь ее чреслами и будучи семидесяти лет возрасту, пригласил ее к себе. В сенях, на охрану, поставил приказчиков. И опозорил. Три года плакала мать, запустила торговлю – и скончалась. Я был зол и бессилен, не мог я овладеть хозяйством. За могилу даже не мог заплатить! Вот, смеетесь, но надпись сбили. Мамаша моя без фамилии теперь!.. Всякий может подойти и назвать самую обидную фамилию… Сестра у блаженного Анания была красоты адовой. И ее Максим Смирнов положил на свое ложе. Ребеночка она с ним прижила, и ребенку тому Максим Смирнов хутор приписал… Ребеночек тот теперь муж, подобный мне, и на хуторе постоялый двор содержит… А еще…
Слабое дыхание, пахнущее укропом, носилось у самой Сашиной груди. Господин Сухоруков трясся, желая еще рассказать многое. Саша оттолкнул его и побежал к воротам. По крестам порхали синицы. День был высокий и ясный. У ворот Сашу остановил сторож и сказал, по-прежнему непочтительно глядя ему на ноги:
– Можете на могилку, опросталась. У нас на ней видный в городе человек молился. Боец, страдатель. Ну, я вас и не пустил.
– Молиться? – спросил утомленно Саша.
Сторож уже шел вперед. И вот Саша увидал оградку с бронзовыми ангелочками по углам. Дерн украшал могилу, цветы. Старушка в длинной пестрой шали с зелеными разводами, держа в руках букетик резеды, сидела в оградке, на скамеечке, недавно окрашенной.
– И вы здесь же молитесь? – спросила она.
Саша посмотрел на нее недоуменно. Старушка начала объяснять: видение было одному человеку, чтобы пришел на эту могилу и помолился. А он был хром, молился горячо, домой ушел отсюда, не хромая. Сапожник он. Теперь для облегчения жизни и исцеления сюда ходят многие.
– Но знаете ли вы, кто здесь лежит? – спросил Саша.
– Смиренный человек, видимо, лежит, – ответила старушка.
И могила, точно, была смиренна: чугунная распростертая ласточка лежала на кресте, подле чугунного венка. Ласточки сверкали в небе. Что намекало на те ужасы, которые опочили в этой смиренной и опрятной могиле? Кто говорил, что здесь лежит тело прелюбодея, ростовщика, истязателя?.. Сашей овладело отчаяние, – он невольно перекрестился. Он схватил руками золоченого ангела решетки и залепетал: «Вот и уйду от них, уйду… к черту, к черту…» И здесь голос, который звенел в нем и томил его тело все последние дни, окрикнул его. Он оттолкнул ангела. Бирюзовые сережки порхнули в небо. Перед ним, спуская розовый зонтик, стояла Марья Александровна.
Глава восьмая
Едва лишь обозы скрылись в городе, господин Сухоруков поспешил в скит. Его никто не звал, – он соврал Саше о зове. Он ожидал пожарища, боя, – скит мирно спал. Подле церквушки была разбита нарядная палатка (даже с окнами из целлулозы). Перед палаткой, на медвежьем ковре, усыпанном белыми блестками нафталина, дремал часовой. Квокча, бродили по траве куры. Многое радовалось веселому дню. У открытой двери в церковь дремали старухи Смороднины – плечо в плечо. Слова исчезли с гневного языка господина Сухорукова! Он поспешил в церковь. Блаженный, длинный и сухой, лежал, прикрытый парчовым покровом. Лицо у него было желтое и веселое! Свечи чадили очень торжественно. Господин Сухоруков на мгновение растерялся. Ему стыдно было сознаться, что мертвому Ананию он не может сказать обличительных, давно приготовленных своих объяснений. Но сказать необходимо, – ибо он опять пылал гневом. Он выскочил. В огромном двору, подле сада, где жил блаженный Ананий, спали на кошмах солдаты. А в саду топилась банька. Господин Сухоруков пошел на дымок.
Девки окатывали друг другу головы водой из колодца. Они узнали его. «Комар пришел, – закричала лениво Манжет, – сейчас загудит…». Из бани несло раскаленными камнями. На голое тело ее было надето бархатное платье и поверх, чтоб не замочить, клеенка со стола. Высокие полусапожки девок были туго зашнурованы и ярко начищены. Господин Сухоруков выкрикнул азартно: «И обличу… будет так жить…» Лушка отвязала клеенку, вытерла мыльные руки, взяла его за рукав и ввела в предбанник. Она подала ему стакан самогона. У стены лежал смятый ворох веников. Подушки были усыпаны сухими листьями. Господин Сухоруков вздохнул, выпил. Девка прижала его к груди, и когда он затрясся, когда колени его стали сгибаться и он потянул девку неуверенными руками за юбку, – она, гикнув, ударила его в живот коленом! Господин Сухоруков с воем бился на вениках. Девки хохотали. Лушка вернулась к корыту, взяла свернутую жгутом юбку и стала выжимать ее. «Синьки кабы, и совсем красота», – сказала она. Манжет послушала всхлипывающего Сухорукова и протянула: «Хоть без слов воет, все веселей». Девки опять захохотали. Ворот скрипел, колодец оброс мхом; на каплях, падающих с деревянного ведра, плыли отражения дыма из бани.
Глава девятая
Номер был в два окна. Одно, полуприкрытое ставней, разбитое, тихо звенело, когда ходили по комнате. Марья Александровна, заикаясь и по обыкновению глядя на свои руки, сказала, что старушка Смолина посоветовала ей поехать к блаженному Ананию. Приехала, было скучно, говорили, что блаженный помер, она пошла помолиться в собор. Здесь знакомая направила ее на святую могилку, благо и кладбище-то было недалеко… И она хотела добавить еще о горе Ипполита Селифантьевича, но вспомнила, как ночью, стараясь не шлепать туфлями, пришел он к ее ложу, – и как она отогнала его. Она умолкла. На жестяном крашеном подносе стоял чайник. Она налила стакан. Чай уже остыл.
Она подошла к окну и раскрыла ставень. «День-то какой», – сказала она тихо. И Марья Александровна и Саша поняли, что теперь только остается высказать ту мысль, которая сейчас их обоих и веселит и умиляет! Преступления, о которых они теперь узнали и которыми наполнена земля, столь велики, что их грех, – мучительный и длинный, – теперь забавен и ничтожен!..
По слегка наклоненному, чем-то похожему на извивающееся тело подоконнику скользнули два клочка бумажки, обрывки писем, которых много написала в эти дни Марья Александровна. Клочки эти, затейливо крутясь, опустились на мостовую. Тихое дыхание реки чуть-чуть поиграло ими и покатило их дальше по булыжнику.
Особняк*
Глава первая
Началось это все с того, что Е. С. Чижов привез из северного уральского города Н. в Петроград на продажу партию кренделей. И хотя крендели частью заплесневели и сам Ефим Сидорыч в номере гостиницы долго счищал с них плесень, партию эту, как и предыдущие партии, он продал с большой прибылью1. Когда он торговался о цене с покупателем, толстым и угрюмым, в бешмете защитного цвета, на площади у вокзала послышалась стрельба. Но митинги и различные выборы и даже свержение царя торговле баранками не помешали, и Ефим Сидорыч скоро забыл о революции, так как другие мысли, неожиданные и более страшные, захватили его голову и его сердце. Однажды, проснувшись утром, он вдруг ощутил непререкаемую необходимость, что он должен иметь дом, жену, скот: коров, лошадей, много утвари и сбруи, то есть все то, о чем он раньше думал редко, так как считал себя человеком беспечным, способным прожить данные ему годы без лишних тревог, беспокойств и водки. Квартировал он вместе со своей матерью Варварой Петровной и тетушкой Катериной Петровной у переплетчика Смирнова, занимая большую комнату и кухню за четыре рубля в месяц, а кроме того, Ефим Сидорыч жил с женой переплетчика, крикливой и вертлявой бабой. Жена переплетчика была нетребовательна – ласкова настолько, насколько позволял ей характер. По воскресеньям она пекла хорошие шаньги и покупала где-то необыкновенно сладкую сметану. Жизнь была удобна и легка, и неожиданное обилие желаний, пришедшее к нему в номере петроградской гостиницы, очень огорчило Ефима Сидорыча. И, дабы отделаться от желаний, он их немедленно попытался исполнить и поступил так, как обычно поступают в таких случаях люди: он выполнил, если можно так сказать, тени своих желаний. Он написал письмо, давнишнему своему знакомому в город Н., штабс-капитану СМ. Жиленкову, и в этом письме среди других новостей упомянул о своей мечте купить дом. Затем он взял с Невского румяную, – городским едким румянцем, – девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком. И тому, что он заказал яичницу с молоком, не удивилась ни девка, ни он сам, – а молоко было жидкое, с каким-то известковым вкусом. Собой Ефим Сидорыч был строен, с бородкой клинышком, с пустыми и в то же время настойчивыми глазами. Его часто принимали за учителя, и никому в голову не приходило, что Ефим Сидорыч Чижов – бывший сапожный и шорный мастер, и что кожа пальцев его полна несмываемой темно-желтой краски и ногти его синие и необыкновенно твердые. И девка с Невского спросила: не учитель ли Ефим Сидорыч, потому что сейчас много учителей выступают на митингах? И, с неприязнью взглянув на девку, Ефим Сидорыч подумал: «Надо ехать, ехать надо».
И в тот же день уехал в город Н.
Но и в городе Н. тупые и мучительные желания, охватившие Ефима Сидорыча в Петрограде, не схлынули, а приобрели какой-то непонятно насмешливый характер. Например, в первый же день приезда Ефим Сидорыч встретил Жиленкова, штабс-капитана, – того, к кому он написал письмо. Жиленков служил в армии по призыву, а до призыва занимался, как он сам себе говорил, «землеустройством», а всем остальным: «Разыскиваю пастбища», и вообще у него была манера направлять мысли людей о нем в противоположную от истины сторону. А «землеустройство» его заключалось в комиссионной торговле усадьбами и главным образом лесом. Письмо Е. С. Чижова штабс-капитану показалось подозрительным, и он постарался встретить Ефима Сидорыча в первый же день приезда. Вперив взгляд постоянно меняющих цвет глаз и шевеля своими белесыми и необычайно длинными ресницами, как бы ползущими на лоб, штабс-капитан напряженно спросил: «В Оренбургскую степь едете?» – «Зачем?» – «Ну, в Оренбургскую, не скрывайте». – «Да, зачем мне в Оренбургскую?» – спросил недоуменно Ефим Сидорыч. Жиленков с таким видом, как будто этим разговором и обижают и обманывают его, отошел и в нескольких шагах крикнул: «А домик я вам подыщу! Поезжайте, наживитесь, а я вам пока подыщу».
Ефим Сидорыч сразу же понял, как можно наживиться в Оренбургских степях. Многие торговцы пытались пригнать оттуда в центр табуны скота, но дорога скудная, скот мер… Но и баранки возить в Петроград столь же опасно, и нажива, как и все в жизни, зависит от счастья. Ефим Сидорыч и направился в Оренбургские степи, удачно и быстро пригнал оттуда жирный и гулкокопытный скот. И вновь деньги Ефима Сидорыча увеличились, но одновременно с деньгами увеличивалась революция. Уже скот, пригнанный из Оренбургских степей, ели недовольные солдаты на фронте; уже Ефима Сидорыча торопили в следующую поездку, дабы уговорить жирным мясом бунтующих солдат, но тут пришел к нему штабс-капитан Жиленков, и в то же время привезли в город великого князя Б., – как носились слухи, – претендента на русский престол. Жиленков заявил: в центре города есть особняк, вполне по чижовским деньгам, два каменных этажа с деревянными пристройками в виде голубя. «Как?» – спросил оторопело Ефим Сидорыч. И точно: когда Ефим Сидорыч осматривал особняк, то деревянные сараи чем-то напоминали распростертого голубя. А за сараем виднелось соседнее поместье: угрюмый, трехэтажный, похожий на тюрьму, с узкими окнами дом. Тощий березовый сад как-то болезненно разбегался от этого дома. И как только два таких различных дома могли стоять рядом! Особнячок, рекомендованный Жиленковым, был обсажен елочками; песчаные дорожки походили на полосы созревшей ржи, колеблемой ветром; трава пахла медом. Ефим Сидорыч купил особняк и окрасил его в зеленую краску. Тотчас же пришел Жиленков, к зеленой краске отнесшийся подозрительно. Жиленков сказал, что в уезде, в имении князя Хаванского, удрученного революцией, спешно за бесценок, продается мебель. Купили мебель, обили ее шелком, а обойщики заявили, что мебель старинная и ценная. Насмешливая удача преследовала Ефима Сидорыча; в другое время он бы никак, а тут сразу поверил обойщикам и попросил тетушку Катерину Петровну позвать штабс-капитана Жиленкова.
Глава вторая
Жиленков сказал обидчиво, что Ефим Сидорыч, несомненно, знает, какую ценность представляла собою мебель, а впрочем обещал достать каталоги. По французским антикварным каталогам выяснилось, что мебель принадлежала брату Наполеона Первого и в Россию привезена в 1815 году, а стоит она… Жиленков от обиды и зависти даже зажмурился.
Катерина Петровна подыскала невесту – дочь местного адвоката Маркелла Маркеллыча Епич, Маничку Епич, такую невесту, какую хотел Ефим Сидорыч: семнадцатилетнюю, степенную и добросовестную. Катерина Петровна всю жизнь мучилась стыдом оттого, что жила на средства племянника; часто, глядя на опрятную бородку Ефима Сидорыча, хотела она сказать обиженно: «ухожу», а скажет совсем другое. Теперь Катерине Петровне казалось, что за хлеб как будто отплачено. Сам Маркелл Маркеллыч все время говорил, – и все время убедительно, а дочка Маничка все время молчала, – и это тоже было не менее убедительно. Семью Епичей уважал весь город, и семья уважала всех. Дела у адвоката были неважные; он с удовольствием отдавал дочь, тем более, что Ефим Сидорыч приданого не требовал. Утешаться бы Ефиму Сидорычу! Но беспокойство и новое желание овладело им, и беспокойство это охватило его на Соборной площади. А на Соборную площадь он попал вот почему.
Великий князь Б. вначале был поселен во дворце Строгановых, огромном, украшенном колоннадой здании, на Соборной площади2. Многочисленный караул из солдат и матросов охранял великого князя Б. В городе, а чаще всего на Соборной площади стали встречаться какие-то странные, тонкоте-лые офицеры с испуганными и в то же время наглыми лицами. Обыватели с гордостью гуляли по площади. И Варвара Петровна позвала сына и сестру погулять на Соборную площадь. У Варвары Петровны всю жизнь, с того дня, как подрос сын, было хотение слушать сына, а всегда происходило так, что слушаться его было невозможно. И даже в деле – важнейшем во всей жизни: в постройке или покупке дома – она считала, что сын поступил неправильно. Если город бунтует, то покупать дом надо в деревне! Старуха была выше сына на голову, с солдатским, решительным шагом и с такими же, как и у сына, серыми и настойчивыми глазами. Ефим Сидорыч политику презирал, на площадь он пошел с неохотой. Окна как бы вынутые из красного вина; плоская оловянного цвета крыша, похожая на серое облако; площадь, поросшая редкой и как бы чугунной травой, и воздух, в котором было слышно, как на дворе здания крякнул солдат, кидая ремень на булыжник, и как зазвенела пряжка; и колючая проволока, похожая на траву, – проволока, которой был обтянут фасад дворца, – все это как-то непонятно оживило Ефима Сидорыча. Подошел гулявший по площади Епич с дочкой. Епич познакомил Ефима Сидорыча с офицером, которого сразу как-то и не заметили, хотя он был и высок и плечист. Офицера звали Голофеевым Сергеем Сергеевичем; он некогда служил в гвардии, был монархистом, понимающим, что монархия гибнет, но не знающим, куда ему идти, и не верящим в людей. Его укоризненное и какое-то мертвое лицо кривилось, – так что смотреть ему в глаза было трудно и неприятно, а некоторым в разговоре с ним казалось, что они как бы разговаривают с мертвецом. Маркелл Маркеллыч заговорил о монархии и евреях. Он даже писал книгу о ритме Египта, в которой доказывал, что евреи погубили ритмический Египет, ибо они антиритмичны. Офицер Голофеев с безнадежной скукой смотрел в окна строгановского дворца. Темнело. Ефим Сидорыч пожал руку невесты. Она ему ответила. Ефим Сидорыч стал рассказывать о своем особняке. Все на него взглянули недоуменно, и он неожиданно предложил офицеру у себя квартиру. Офицер согласился. «Вот это герой!» – воскликнул Маркелл Маркеллыч, обнимая Ефима Сидорыча. «Я не герой, – ответил Ефим Сидорыч, – но признаю, чтобы поступки были немедленные». И все согласились с ним, понимая и не спрашивая, какие бывают поступки немедленные и после каких мыслей.
Глава третья
К великому князю назначили нового большевицкого комиссара. Комиссара этого звали Петров, Иван Григорьич, и у него был брат Семен Григорьич, председатель губернского совета. Комиссар Иван Петров настаивал на пленуме совета, что стыдно и агитационно нехорошо держать великого князя во дворце Строгановых. Великий князь теперь – обыватель, не больше других, да и вредный к тому же обыватель. Пленум совета согласился с доводами веснушчатого и короткорукого комиссара и постановил: перевести великого князя в более малое и менее требующее расходов от пролетарского государства помещение. И вот великого князя Б., грузного с бабьим голосом старика, перевели в трехэтажный дом, находящийся рядом с особняком Ефима Сидорыча. Ефиму Сидорычу было обидно видеть из окна своего особняка, как, входя в дом, великий князь снисходительно и, пожалуй, даже заискивающе разговаривал с большевицким комиссаром Петровым. Вечером Ефим Сидорыч, офицер Голофеев и будущий тесть Маркелл Маркеллыч, стояли у дверей балкона, с которого были видны окна, обтянутые колючей проволокой, – окна, где часто проплывал шатающийся силуэт великого князя. И Ефим Сидорыч первый пожалел, что балкон занесен снегом, и нельзя выйти и помахать великому князю белым платочком, да и к тому же белый платочек не виден на снегу. «Вы – ярый монархист! – снисходительно сказал Маркелл Маркеллыч, – вот не ожидал! А пора великому князю подумать и о повороте». – «Пора, пора», – повторил Ефим Сидорыч, и холодок восторга пронесся по его телу. Офицер Голофеев взглянул на него мертвыми, злыми глазами и отвернулся.
Из-за суматохи, пайков, приказов на заборах (а Маркелл Маркеллыч, кажется, потому, что надеялся на свадьбу и любовь Голофеева) Ефим Сидорыч соглашался на откладывание свадьбы. Да и к тому же он не особенно надеялся, что беспокойство, владевшее им, исчезнет. Теперь он уже сильно скорбел о монархии. Маркеллу Маркеллычу даже приходилось удерживать его скорбь. Комиссар Иван Петров опять степенно, потрясая длинными каторжными волосами, доказывал на пленуме совета, что в области заметна организация офицеров; военнопленные империалистической войны волнуются; нарастает контрреволюция, а великий князь Б. живет в громадном доме из тридцати комнат, в то время, как пролетариат заводов… Потрясая пустым и тусклым графином, комиссар завопил… Гул одобрения пронесся по залу губернаторского дома. Пленум согласился со словами комиссара Ивана Григорьевича Петрова.
И вот в теплый предвесенний вечер, когда на дворе играла снежная буря, больше похожая на дождь, и елки как бы проходили сквозь льдины, оставляя на своей хвое замороженные капли, – Ефим Сидорыч вместе со своей семьей и друзьями пил чай и слушал, как Маркелл Маркеллыч развивал ему план: через матросов можно провести большую партию муки в Петроград. Послышался робкий и короткий звонок: с таким звонком часто приходил Голофеев, приводя с собой приятелей, таких же, как он, мертвеннолицых, безнадежно-вежливых и неумело-переодетых. Ефим Сидорыч открыл дверь без спросу. Перед Ефимом Сидорычом стоял комиссар Иван Григорьевич Петров, дальше виднелись красногвардейцы и матросы с револьверами и бомбами. Комиссар не без удовольствия весело-деловитым голосом прочитал постановление пленума совета, из которого было видно, что совет признает жилищную площадь, занимаемую великим князем Б., огромной и дорогостоящей для пролетарского государства. Жилищную площадь эту он передает детскому дому, а великого князя переселяет в особняк, принадлежащий гражданину Е. С. Чижову.
– Как же меня выселять? – тихо сказал Ефим Сидорыч. – Меня не следует выселять, и, кроме того, у меня квартиранты!
– Вместе с квартирантами, – ответил комиссар. – Берите подушку и катитесь колбаской вместе с подозрительными вашими квартирантами.
– А мебель? – спросил Ефим Сидорыч.
– Мебель остается у коммуны! – ответил комиссар.
И Ефим Сидорыч взял подушку, одеяло и пошел спать к переплетчику Смирнову, по-прежнему живущему у кладбища. При расставании Маркелл Маркеллыч сочувственно поцеловал его, но в квартиру к себе не пригласил.
– Жизнь подле великого князя наложила на вас известные обязательства и известные подозрения, – сказал Маркелл Маркеллыч, – а у меня семья и дочь-невеста.
– Я вас понимаю, – ответил Ефим Сидорыч, и он действительно понимал Маркелл Маркеллыча, и ему даже на минуту стало жаль его.
Глава четвертая
Проснулся Ефим Сидорыч от вони и шипения подгоревшей картошки. В кухне разговаривали женщины. Старуха ворчала: «Надо было покупать дом в волости… И хоть бы отняли за долги!» Запах подгорелой картошки на мгновение даже обрадовал Ефима Сидорыча: он вспомнил начало своей любви к переплетчице. А теперь переплетчица растолстела, тело у нее ползет в стороны, и пахнет от нее нехорошо… Ефим Сидорыч озлился: «Донесли, позавидовали! Весь город завидовал наполеоновской мебели!., сколько разговоров было». И разговоры, и сожаления о великом князе, и то, что было жалко этого грузного старика, которого мучат, перетаскивая с места на место, а там, гляди, и судить будут – все показалось Ефиму Сидорычу вздорным и ненужным. Но он сразу раскаялся в своих мыслях и пошел есть картошку. Картошка была та же самая, которую он ел в особняке, но здесь показалась она ему невкусной и водянистой. Он подумал, что скоро придет переплетчица, которая начнет заигрывать с ним, а мать и тетушка деликатно уйдут. Затем переплетчица засопит, раскроет мокрый рот, похожий на луковицу. Он со злостью посмотрел на мать и крикнул: «А все ты!., все перечишь!.. Уходила бы ты от меня скорей». Мать громко и протяжно заплакала, и тетушка Катерина Петровна, вспомнив хлеба, которыми она себя попрекала, отложила вилку и тоже заплакала. «Нет, напрасно Ефим Сидорыч разговаривал о монархизме!..» Он сплюнул даже от таких мыслей.
На улице Ефим Сидорыч встретил офицера Голофеева. Голофеев шел в ту сторону, где жила невеста Ефима Сидорыча. «Отбивать пошел, обрадовался!» – подумал Ефим Сидорыч и не поклонился Голофееву. Тот сделал такое лицо, как будто пять лет назад знал, что Ефим Сидорыч его предаст, и выпрямил спину. Ефим Сидорыч быстро пошел в почтовое отделение, попросил бумаги, конверт и трясущейся влажной рукой написал донос в Чека. Опустив письмо в ящик, Ефим Сидорыч ощутил необычайный стыд и томление (вроде того, каким он страдал в Петрограде). Он поспешил написать заявление в исполком, чтобы ему выдали наполеоновскую мебель, как имеющую огромную «духовную» ценность. Ему стало как будто немного легче и, гуляя по городу, он убеждал себя, что поступил правильно – Голофееву терять нечего, поднимет восстание, а мертвых и без того хоть отбавляй. И у приятелей, что ходят к нему, тоже, небось, динамит в карманах. На другой день он пошел за ответом о мебели в исполком. На его длинной записке лежала резолюция – синим плохо очинённым карандашом: «Прс. гр-на Чижова оств. без последствий». И тут же он услышал об аресте Голофеева, и только тогда, когда узнал подробности ареста, он увидал, что рассказывающий – штабс-капитан Жиленков, уже в солдатской шинели и без погон. «Мебель моя представляет духовную ценность?» – спросил он Жиленкова. Тот подозрительно попятился и немедленно согласился. Ефиму Сидорычу было сильно грустно. Он пошел на обрыв, к пруду. Отсюда была видна Соборная площадь и дворец Строгановых. Во дворце находились уже военные большевицкие курсы. Через площадь шла Маничка Епич под руку с каким-то опрятно одетым солдатом. Ефим Сидорыч понял, что верит Маничке, и она верит ему, хотя он жених и пожилой и не совсем красивый. И она сразу же покинула кавалера, подошла к Ефиму Сидорычу, нежно пожала ему руку. Ефим Сидорыч отошел с ней в тень тополя, пожал ей локоток, хотя ему хотелось пожать грудки, а она так и поняла, что он ей сжал груди, потому что она стыдливо сказала шепотом: «Да что вы, Ефим Сидорыч». Маничка Епич умела очень искусно и молча сочувствовать людям, и те понимали, что она сочувствует им. Например, Ефим Сидорыч рассказывал ей об отнятой мебели, и она сочувственно добавила то, о чем забыл Ефим Сидорыч: «Сейчас мебель невозможно вывезти за границу, а ведь придет же время», – и добавление это к мыслям Ефима Сидорыча сильно умилило его. И кроме того, из разговоров он понял, что она действительно может быть верна, потому что не любит беспокойства.
Ночью Ефим Сидорыч написал письмо исполкому, где доказывал, что великого князя нечего переселять с места на место, а надо его вырвать с корнем, то есть расстрелять и расстрелять немедленно, ибо в городе организуются шайки офицеров и английских шпионов, и возможен переворот… Писал он искренно: иногда в трогательных местах, где он защищал права бедноты, слезы проступали у него на веках. Он вспомнил свое детство: и корки черного хлеба не было, а по толкучке когда скитался, видел, как там ели требушину за семь копеек порцию, – такой обед за счастье считал; ночевал на барке у пруда… мастера били колодками по рукам… в помещенье нестерпимо воняло мокрой кожей. И теперь он ввергнут в то же положение!.. И великий князь виноват тут тоже отчасти!.. Он хотел подписать своим именем, но раздумал и написал: «От имени пятидесяти рабочих – сапожников и шорников»… И дальше неразборчивые каракули. Ефим Сидорыч сам отнес свое заявление в исполком. На лестнице исполкома опять встретился Жиленков со звездой на солдатской фуражке. «Дают роту, – сказал он громко Ефиму Сидорычу в лицо. – Доносы на меня не помогают – верят». И Ефим Сидорыч ответил: «Да и я верю вам». Жиленков ехидно погрозил ему пальцем, тонким и длинным. Ефим Сидорыч три дня был наполнен ожиданием. Хотя он и не подписал адреса, но ему казалось, что вот-вот придут какие-то важные комиссары и поблагодарят его за превосходные мысли. Лицо его пылало, и он чувствовал сильную жажду. Спал он плохо и на третью ночь бессонницы пытался написать стихи: трехсотлетнее иго должно быть свергнуто, уничтожено! Но стихи не выходили, хотя внутри тела он ощущал трепетания, не похожие на все прежние трепетания, и к себе и к своей незадачливой жизни он чувствовал возрастающую жалость. Стихи он отнес в газету. Румяный секретарь бегло просмотрел и сказал: «Тысячи таких есть», – и подал ему номер газеты. Жирным шрифтом газета сообщала, что просьба Ефима Сидорыча о расстреле великого князя исполнена, и приговор приведен в исполнение. «Но ведь это же я! Я написал пожелание!» – крикнул Ефим Сидорыч спокойному секретарю. Е. С. Чижов, размахивая газетой, пронесся по лестнице. На крыльце губернаторского дома он сложил газету вчетверо таким образом, чтобы сообщение о расстреле можно было сразу прочесть, аккуратно оправил газету в кармане и подумал о подушке. Но мысль о подушке показалась ему смешной, и он торопливо пошел к своему особняку. Длинноногий красногвардеец в лаковых сапогах стоял у вороха колючей проволоки. Проволокой была обвита уже ограда особняка; телефонные нити были протянуты по елкам; красногвардеец на все это, казалось, смотрел с грустью. «Назад, – сказал он уныло. – Тебе кого?»