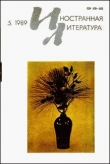Текст книги "Тайное тайных"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
Плешко взял портфель. Пузыревский посторонился. Болдырев, затягиваясь махоркой, смеясь и сплевывая, говорил:
– Не буду, не буду показывать. Во всю жизнь не покажу. Ближайшая для тебя станция Бровки будет. Парней для сопровождения я тебе хороших дам, вроде и местность знают, оттого что болтливы больно, а насчет языка и Киева поговорка известна. Савка! Савка…
Пулеметчик Савка Ларионов с белокурыми стружками волос на розовом гладком лбу в выпачканной маслом шинели встретил Плешко у тачанки ласковым хохотом. Другой сопровождающий, Саша Матанин, огненный, веснушчатый, похожий на сухую хвойную лапу, угрюмо мотался на поразительно сухопарой лошади. И лошадь и он казались злобны и сухи, что поднеси к ним сейчас спичку – вспыхнет и сгорят в одну минуту. «Конь-то выдержит?» – спросил Плешко кавалериста. «Я его так могу бить, что он и мертвый до Владивостока довезет», – ответил Саша Матанин.
Две женщины смотрели вслед мчащейся тачанке. Сонная и вялая пыль стлалась по дороге.
– Это великий, прекрасный, хотя и болезненный человек, – сказала Феоктиста Степановна, держа стакан с морковным чаем в руке. – Но кончит он, я уверена, плохо. В жизни необходимо спокойствие.
– А мне говорили: он веселый и все по лагерю ходит и анекдоты рассказывает. Я, знаете, по культурному анекдоту соскучалась… У меня брат был…
Но здесь ее Феоктиста вдруг прервала и заговорила быстро: она танцевала с братом, а в это время говорят: большевицкие полки мимо идут, сейчас обстрел сторожки начнется. Она выскочила из сторожки, на коня, она любит выстрелы, бой, и вот конь ее понес, несет, несет!.. А ездит она мало, неумело, – и попала в самую кашу битвы. А теперь вот и белья нет переменить.
– На самом деле смешно: нам солдатское белье придется носить.
– Не смешно, а страшно! Солдатское белье – это ж могильное белье. Оно и грубое как гроб.
Глава седьмая
Тачанка остановилась на пригорке, над станцией, в яме, вымытой дождями. Кони, стараясь выкинуть удила, тянулись к траве. Трава была высокая и покрытая розовато-желтой пылью. Савка Ларионов, разглядывая сквозь траву станцию, сказал лениво: «Жалезна дорога чисто рукомойник – всякому поклон. Спалить бы, по мне, все эти станции». Огненноволосый кавалерист посмотрел на него пренебрежительно и спросил Плешко: «Какие дальше нам распоряжения?» И Плешко подумал, что если послать вот их двоих, то один перепутает поручение от восторженности, а другой – от осторожности. Единственная грязная улица станционного поселка походила на прокуренный мундштук. Тощий теленок, наслаждаясь свободой и теплым ветром, мотался по улице. Он чувствовал запах свежей хорошей травы, но не знал, куда бежать. Тачанка бросилась с пригорка. Несколько лохматых кур мотнулось из уличной канавы. Старуха выглянула в окно избы и перекрестилась. Двухэтажный домик с зеленой вывеской остановил внимание Плешко. Он велел Савке-пулеметчику стать в тонком конце улицы, а Саше Матанину караулить к раструбу, а сам вошел в домик. Плотный широколицый человек с гранатой в одной руке и с револьвером в другой, грохоча сапогами, выскочил на лестницу.
– Вы кто такой? – завопил он испуганно.
– А вы кто?
– А вы?
– Нет, скажите вы. Ну-у!..
Плотный человек поднял гранату над головой.
– Я агент транспортного чека!17
Плешко назвал себя. Агент положил гранату в карман и попросил спичек.
– Вот, знаете, товарищ Плешко, если б вы отчеканили стальным голосом: «руки вверх», я бы несомненно их поднял. Судите сами: милиция сбежала, каждую минуту на станцию бандиты могут заявиться, сплю я в оружии и ежедневно меняю место ночлега, потому что предательства боюсь…
– Фамилия?
– Щербаков, Павел.
– Пройдите, товарищ Щербаков, к тачанке: мы присоединим вас к себе в случае чего.
Разговаривая с начальником станции, Плешко вспомнил Щербакова и подумал, что хорошо бы с пяток таких героев насбирать, и сказал вслух: «Пора ягод и героев». Начальник станции ходил перед ним шоркающей походкой, украшенный флюсом, несмотря на сухие дни (правда, в начале разговора он заявил, что станция Бровки находится в нездоровой и сырой местности), бормотал: «Какой там Бердичев? В Бердичеве, полагаю, поляки». «Ну, я подожду, пока они выйдут», – сказал Плешко, стараясь казаться возможно более беззаботным. Начальник станции долго бормотал над аппаратом, что и поесть-то не дадут, что зубы у него шатаются. В палисаднике неприятный детский голос тянул однообразно: «Папа, суп стынет!..». Наконец, послышался в аппарате Киев. К аппарату подошел комиссар штаба Рейх. Плешко хорошо помнил его: это был стремительный, честный и часто ошибающийся человек. У него были пухлые губы колечком и узенькие зеленые глаза. Он долго и осторожно мычал, словно боясь, что даже мычанием может выдать он какую-нибудь штабную тайну, а затем стремительно спросил:
– А какой нос у Керемеенки?
– Нос у Керемеенки нормальный, – ответил Плешко, – а на правой ноздре бородавка.
– Все бандиты знают про эту бородавку. Опиши твою жену!
– Я с женой развелся и разговор об ней мне неприятен.
– Когда развелся?
– Я не развелся с ней формально, но получил от нее письмо в Житомир.
– Ну, как тебе ни печально, а опиши.
– Да что она, в Киеве?
– А может, и в Киеве.
– Да ты что: с ней живешь?
– Отойду от аппарата.
Плешко торопливо сказал несколько фраз.
– Так, так, – бормотал комиссар штаба, и вдруг он зычно крикнул: – Валяй, докладовай, Плешко!
– Сводная бригада, сформированная из раздробленных частей, занимавших Житомир, под непосредственным наблюдением Плешко находится в районе станции Бровки. У нас имеется около пятисот штыков хотя малобое-воспособных, но сознательных. У нас нет обоза, почти нет снарядов, но мы готовы драться… Усиленно мы просим снарядов и в частности…
– Хорошо, я верю. Даю директивы.
– А также прошу сообщить немедленно о положении Железной дивизии, так как усталая красноармейская масса, состоящая большей частью из сибиряков… трудно ее вести… Железная дивизия нас интересует также…
– Как? Что вас интересует?
– Железная дивизия. Да выслушайте же вы, черт возьми!
– Хорошо. Даю директивы. Обождите у аппарата.
Аппарат на Киев безмолвствовал. Уже несколько раз приходил пулеметчик Савка. Подле подоконника на пол мелкими крошками осыпалась штукатурка. Кондуктор, седой, в рваной куртке и рваных сандалиях, поставил ящик с инструментами подле подоконника. Штукатурка вдруг рассыпчато забарабанила в ящик. Это прыгнул Савка и вытянулся подле порога:
– Прикажите, товарищ Плешко, огня!
– Сиди спокойно, Савка.
– С шарфами какие-то скачут на станцию. Петлюровцы18, что ли… Несколько всадников с развевающимися шарфами скакали к водокачке. Тачанка свернула в переулок, затем в лесок.
– Ну, как дела-то в Киеве? – спросил Савка, показывая станции кулак.
– Отлично. Агент вздохнул.
– Вот вы говорите отлично, товарищ Плешко, а я пост свой покинул.
– А если б не покинули, вас бы шарфы разрубили.
– Выходит, что я вроде мертвого, и теперь за свои поступки не отвечаю?
– Выходит. У вас есть жена, товарищ Щербаков?
– К сожалению, нет, так как война и любовь занятия несовместимые.
И Савка подтвердил:
– Кака там любовь? Вот я подъезжаю к поселку, в поселке-то, может, моя любовь живет – ожидает, а мне на душу выпало: «Савка, огонь по поселку». Вот я свою любовь и кончу, не зародив.
– Согласен с вами, – и агент еще раз вздохнул.
Огненноволосый кавалерист наклонился с коня и пытливо спросил у Плешко:
– А как же двизья-то, начальник? Я вот стою у водокачки: станция-то огромная, в каждое окно по три пулемета вставить можно, и все эти пулеметы на меня. Сгинем мы без двизии: и полячишки слопают, и петлюровцы.
Савка и агент Щербаков уставились на Плешко. Агент даже сухарь, который он сосал, вынул изо рта и крошки сдунул с усов.
И Плешко вдруг, чувствуя необычайную легкость на сердце, сказал:
– По полученным сведениям дивизия в полном порядке и ждет нас.
Глава восьмая
С колес веером скользил песок медового цвета. Топота почти не слышно. Ласковые и опрятные ели медленно подымались из песка. Кавалерист Саша далеко ускакал вперед, затем вернулся, опять ускакал. Конь у него оказался, действительно, превосходным. И глаза необыкновенно умные. Вот за такие глаза, подумал Плешко, иногда, смертельно любят некрасивых женщин. Из-за таких глаз погибают. И дальше Плешко вспомнил, что сейчас, разговаривая по аппарату с Рейхом, он описал ему жену свою некрасивой с хорошими глазами. Да и многие, любившие ее, находили ее некрасивой. Да и можно ли любить за красоту, да и что такое любовь? Вот бабник ли, любовник ли, Плешко? Может быть, то, что он называет любовью, есть постоянное стремление помочь людям, не только в борьбе, но и в душевном устройстве их, в душевном спокойствии, так сказать. Вот и Феоктиста Мицура, слов нет, – красавица, но есть ли у Плешко стремление полюбить ее? Едва ли. Возможно, не сегодня-завтра он будет стоять вечером у фургона. Сальная свечка, оползая на подсвечник, будет догорать. Свет от нее, очень теплый и рассеянный, будет освещать пустой фургон, а Феоктиста будет, закрыв глаза, лежать у его груди и тихо говорить, что ее никто так не целовал. И она сама будет верить этим словам, и он поверит им, и когда он отойдет от фургона и когда будет ложиться спать, ему будет казаться, что никогда он не был так счастлив, как сегодня. А все это оттого, что его наполняет стремление устранить неудобства ее жизни. А серьезно-то подумать: кто она? Сестра Филиппа Мицуры? А где ее документы? Она хотела их предъявить, а до сего дня не предъявила. Вот ведь наладится жизнь слегка в дивизии и Пузыревский научится наводить порядки, ведь он же потребует от нее документы. Конечно, пошло и плоско так думать, но она может оказаться польской шпионкой… многое в этой жизни надо исправить. И затем на деле к концу жизни выйдет, что любил-то по-настоящему он жену свою, которая в Киеве…
Плешко достал желтенькую книжку, подаренную ему Мицурой, и записал: «Щербаков. Савка Ларионов». Савка, фартово опираясь рукой о пулемет, спросил его:
– А пополнения в дивизию поступили, Ипполит Егорыч?
– Пополнения получены.
– Ну, значит наши не выдадут. Погонют наши полячишек. Мы им можем разъяснить, как капиталистический строй устраивать, – он глубоко вдохнул воздух: – Вот тебе и лес такой же, как и у нас, и тебе пашня… хоть я и пашней не занимаюсь, а все больше пасекой и мараловодством19.
Агент встрепенулся и переспросил подозрительно: «Как вы?..».
– Мараловодством, – повторил Савка с удовольствием длинное слово, – оленей таких…
– Ах, оленей, а то, знаете, слово подозрительное.
– Все так же… однако домой манит… Кавалерист Саша опять показался среди елок.
– Хоть вперегонки бы, а то что ж самостоятельно коня мучишь, – упрекнул его Саша.
– Мучишь, – хмуро ответил кавалерист, – а так приехал, что там скачут. Виртай, товарищи, в кусты.
Тачанка остановилась среди густых и запашистых елей. Плешко выступил несколько вперед. Рядом с ним, низко к земле держа карабин, стоял Савка. Руки его дрожали.
– Ты, Савка, охотник? – спросил Плешко.
– Я-то? Нет, дяденька. Я кровь животную не люблю проливать. Человеческую кровь можно со смыслом пролить, другим потом легче жить будет, а животная что, хорошо если тигр, а то ведь мясо и мясо, всего и пользы.
Глава девятая
Стемнело. Несколько силуэтов всадников показалось на дороге. Савка пополз. Шепотливо зашелестела хвоя. Затем раздались выкрики. Голос Савки: «Свои!» – и чех Гавро, командир интернациональной роты20, сутулый и чем-то похожий на монгола, подскакал к Плешко. Гавро всегда удивлял Плешко своей сосредоточенностью, важностью. Оборванный, в лаптях и рваном картузе, он каждый вечер долго сидел у костра, заполняя маленькую тетрадку мелким и скорым почерком. «Пишу дневник жизни», – ответил он Плешко. И тогда Плешко предложил ему вести дневник бригады, Гавро ответил ему медленно и сурово, что он не обладает таким великим слогом, который бы мог описать геройскую жизнь бригады, с него хватит, что если его тетрадь попадет к его сыну и будет им прочтена и хоть сколько-нибудь убедит сына вести жизнь, достойную памяти отца. Плешко обиделся и с того дня почувствовал неприязнь к Гавро. Теперь этот Гавро, качаясь громадной головой над стриженой гривой лошади, докладывал ему. Голос у Гавро был обеспокоенный, хриплый. Фонарь освещал его широкую ногу и стремя, скрепленное веревками.
– Назначенный комиссар и комиссар по продовольствию – сбежали. В бандиты сбежали, иначе куда! В полдень к нашему расположению подошел вновь пластунский полк под командой товарища Белова и сообщил, что им известно: поляки ведут наступление вдоль железной дороги и что пластуны обстреляли польскую разведку поблизости Ухавы.
– В какой, приблизительно, близости?
– Пластунский полк вновь отказался войти в соглашение и повел самостоятельно отступление на север…
– Ну и черт с ними, пускай катятся!
– Нам, кричат, на вашу Железную плевать. К таким словам нельзя относиться хладнокровно, я просил позволения разоружить пластунский полк. И теперь…
– К черту пластунский!.. Кроме того, что?
– Кроме того, догонявшая нас группа красноармейцев, проходя мимо одной деревни, была оскорблена, избита, обобрана. Да… Двое от полученных ран умерли. Мужики все… С другой стороны… – Гавро вынул ногу из стремени и отодвинул фонарь. Голос у него посерчал. – Если я делаю доклад, то мне необходимо освещать лицо, а не ноги, товарищ пулеметчик. С другой стороны, мною выиграно в карты триста пудов картошки.
– Причем же здесь избитые мужиками красноармейцы?
– В бытность свою военнопленным мне много пришлось играть в «очко», в двадцать одно, иначе. Теперь я применил свой навык, и выиграл у мужика поле картошки. Мужик мне говорит: «Ваша дивизия мужицкая, она всем мужикам счастье несет и освобождение. Ее одну поэтому вся земля прозвала Железной». Я не возражал. Мужик мне говорит: «Ты мне проигранное поле картофеля возврати, потому что ты теперь имеешь право даже его перепахать и таким образом загубить весь картофель», – я ему возразил, что хотя я и имею это право, но поступать так не могу: мне на родине будет стыдно. Мужик мне говорит: «Хорошо, что у тебя есть родина, а у нас и родины нету и насмеяться над глупостью некому. Но ведь и ты ради идеи можешь отказаться от родины». Я ему говорю, что ради идеи я могу отказаться. Мужик мне говорит: «Значит и перепахать поле сможешь ради идеи». Я ему отвечаю: «Если понадобится – перепашу». Мужик мне говорит: «Бери у меня зарытую в яме картошку, вместо поля, триста пудов». И открыл яму.
– Много говорят о Железной?
– Тот же мужик просил меня выдать охранную грамоту от имени Железной на поле. Но я, как не уполномоченный, отказался.
– Говорить везде, что Железная дивизия воюет за пролетарскую революцию, за пролетариат, за освобождение… Да, они правы. И за мужиков! – Плешко легонько потрепал себя по щеке, соскочил с тачанки. Легкий озноб, похожий на то, что тело его наполнялось теплым колеблющимся паром, охватил его. Он пожал руку Гавро и спросил: «Но ведь, несомненно, вы тоже хочете спросить меня об Железной? Она в порядке, в исправности и совершенно боеспособна! Сообщайте при первом же случае всем, что у нас сплошь Железные дивизии, мы… Передайте, возвратясь, что на завтра я предлагаю созвать общепартийное собрание коммунистов бригады. Теперь я желаю покончить с пластунским полком. В каком направлении он ушел? Так вот я еду туда с товарищем… Матаниным. А вы поезжайте и подготовьте… к общему собранию».
Рыхлый топот удалялся в лес. Плешко, свесив ноги с тачанки, долго прислушивался. Восторженный голос Савки, вопящего о том, что с Дальнего Востока пришли пополнения в Железную, донесся до него. Плешко подумал: «Этот сотню нумеров газеты заменит», – и потянул вожжи.
– А нам же сюды свертывать, Ипполит Егорыч, – сказал Матанин. – Вы ж к станции поворачиваете. А сюды, налево-то, мы выйдем на киевское шассе, а по шассе-то и к пластунам. Направо-то вы как раз попадете к линии.
– Пластунский полк, – сказал Плешко, хватая по коням бичом, – при его дезорганизованности свободно появится и на линии. Какая станция следующая за Бровками, которая могла бы быть свободна от петлюровских банд, товарищ?
– По-моему, Магалево. Сказывали…
– Ну, так вот и понесли на Магалево.
Глава десятая
Станция Магалево имела три улицы – опрятных, засаженных тополями. При въезде на станцию у кузницы с трубой, похожей на крендель, Плешко увидал пять ободранных конских туш. Свежий и яркий песок могильных холмов сверкал позади туш. Стоптанная поляна окружала могилы. В могилах вместо креста – колья. Стояла дивная луна.
И в Магалеве, как и на Бровках, представители общесоветской власти давно исчезли. Начальник станции, молодой, щеголеватый, даже как будто щеголяющий своим бесстрашием, не удивился появлению Плешко. Должно быть, за время своего пребывания на станции, начальник имел много властей, потому что он спросил деловито и вдумчиво:
– Вы от какого правительства?
– От советского, – так же деловито и вдумчиво ответил ему Плешко. Ему стало смешно. Начальник станции смотрел на него серьезно, не понимая его смеха. – Много правительств имели?
– Правительств с двадцать насчитается21, – все так же деловито отвечал начальник.
– Как ваша фамилия?
– Ирголин. Только фамилия моя при чем же? Сегодня вы вот – третий. От Половецкой республики22 приезжали, спирту спрашивали. Какой у меня спирт? Будто бы я не пьющий.
– Половецкая республика? Не слышал!
– Волость у нас такая есть. Вот если вас подальше в леса погонят, – узнаете. Так и называется: Половецкая республика. Лес да банды и никакой власти. Вам до какого города надобность?
– О Железной дивизии слышали?..
Начальник станции, положив правую руку в карман, с удовольствием простер левую к чистенькому и пустому перрону.
– Железная дивизия через меня не проходила, иначе слышал бы. А какой город и какой вы части сами?
– Город Киев, а часть… – Плешко с удовольствием смотрел на важность и медлительность начальника станции. Усы у него так подстрижены, словно он знает, что ни при каких правительствах его не убьют и надолго еще ему понадобятся такие опрятные усы. – Часть наша сводная бригада…
– Город Киев я вам дать не могу, потому что на город Киев провод перерезан, но представителей бригады как раз разыскивал бронепоезд.
– Из Киева?
– Раз бронепоезд, – думаю, из Киева. Сказал: приеду еще, а возможно, и не приедет. Вы меня извините: разрешите вам посоветовать поставить караулы, чтобы вас, случайно, не убили, а сами отдохните у аппарата: звонить-то наверняка бронепоезд будет. Там диванчик…
Все – и начальник станции, и сама опрятная станция с пустующими и светлыми рельсами, даже фонари – три больших фонаря – горели на перроне, – все сильно нравилось и умиляло Плешко. Начальник станции делает свое дело, он помогает справедливости. Что такое справедливость? – Совершенно неясное понятие. Справедливость всегда побеждает, а начальник станции помогает победителям, – вот и получилось, что он помогает справедливости! Плешко прилег на диванчик. Острые пружины впились ему в бок, вскоре и клопы поползли на него. Ему не спалось, и он чувствовал, что не заснет всю ночь. Часто из-за работы ему приходилось не спать ночи, но никогда он не чувствовал такого умиления, что не спит, и даже умиления от желания не спать. Он может заснуть. Звонок разбудит его! Мрачно-трусливый Матанин караулил бы исправно всю ночь, пытаясь спрятать в себя и трусливость свою и мрачность. Вот клопы ползут по крыльцам, в те именно места, где их не достанешь. В комнате пахнет сухой бумагой и шубным клеем. А он, Плешко, лежит и думает, что Железная дивизия не пропала и не пропадет, хотя она сейчас и без политотдела, без коммунистов. И даже не важно, если Плешко и его друзья не вернутся к дивизии, а сгинут вот тут в лесах, в какой-нибудь Половецкой республике. Железная дивизия есть справедливость, та хорошая мужицкая справедливость, которая лучше всякой грамоты охранит картофельное поле, пашню, покос. Все превосходно! – Бронепоезд прибежит. Кавалерист Саша Матанин караулит исправно. Ночь – теплая и веселая – идет быстро, и ожидание нисколько не утомительно! И как нехорошо, что он в начале организации бригады раздражался, обижал кого-то, ворчал… Теплый озноб неотступно владел им, голова его горела.
Матанин входил несколько раз, все повторяя, что вокруг станции будто люди какие ходят. Плешко вышел на крыльцо. Село было темное, пласты улиц лежали как гроба. Далеко где-то скрипели ворота. Их, наверное, забыли закрыть, они скрипят, хозяева трепещут, а выйти закрыть страшно. А пройдет десять-пятнадцать лет, и село будет освещено электричеством, и девки в шипящих новых ситцевых платьях, – грудастые и широкозадые, – в обнимку с парнями, горланя и смеясь, пойдут по улицам, и никто не вспомнит ни Плешко, ни трепещущего Матанина. «И отлично, очень хорошо, что не вспомнят», – с удовольствием подумал Плешко.
– От войны и собаки отучились лаять, – сказал кавалерист протяжно. – Стою, а мне все чудятся люди. Пластуны?
Они стояли долго. Вдруг тявкнула собака, – одна, другая. Издалека донесся чуть слышный пулеметный огонь. Кавалерист принес почему-то фонарь. И этот дрожащий и бледно-желтый свет на прямой траве у крыльца умилил еще более Плешко. «В Ухаве бой… – тихо сказал кавалерист. – Я им советовал один фланг, а они небось к речке…» Но Плешко уже верил, что произошло так, как он советовал – они, укрепив единственный свой фланг, держались с честью, и поляки отступили! Затем он услыхал несколько заглушённых орудийных выстрелов, похожих на то, как если хлопнуть ладошами в мешке. Ласточка пронеслась над головами. Лиловое облако склонялось к земле. Стало свежо. Светало. Кони заржали. У кавалериста были припухшие красные глаза. Он принес в большом деревянном ведре воды поить коней. Ведро холодным бисером окаймляла крупная роса. Кони, сверкая влажными ресницами, тянулись к ведру.
– Дуй к Пузыревскому, – сказал Плешко, – не то заснешь у ведра. Передай: на бронепоезде из Киева от Железной посланы снаряды. Могут приехать, получить!
– Во-о, браток, в Железной-то как в ружье: и масло, и смерть. Письменно бы, а то скажут – наврал.
– Только на словах. Дуй!
И Плешко вновь вернулся к аппарату. Ему думалось, что если бронепоезд со снарядами не придет (Плешко был в непоколебимой уверенности, что бронепоезд именно везет снаряды), бригаде будет передано – бронепоезд задержан поляками. Да, если даже и не везет снаряды, а письменные директивы – разве нельзя попросить взаймы снарядов у бронепоезда, и сказать бригаде – из Киева, от Железной?
И вскоре ординарец, подслеповатый, прикрытый дерюгой и в рваных галошах поверх лаптей, передал записку от Пузыревского: «Ночью подошла польская разведка и пыталась случайным нападением занять переправу через озерко и речку. Вначале наши часовые, стоявшие там, растерялись и было побежали, но через некоторое время начали отвечать и подняли на ноги всю бригаду. Польская разведка все-таки получила отпор и ушла. По последним сведениям, поляки заняли Бровки и ведут оттуда наступление на Магалево».
Глава одиннадцатая
Начальник станции, все такой же опрятный, бритый и хорошо выспавшийся, аккуратно выходил на перрон в те минуты, когда по расписанию должны были проходить через Магалево пассажирские поезда. Наступил полдень: жаркий, пахнущий созревшими листьями, травой. Плешко все еще сидел у аппарата. Радость не оставляла его. Рельсы вдали, среди леса, походили на зимние былинки: покрытые льдистой коркой, хрупкие – веселые рельсы. Начальник станции подошел к окну. «Дымок, – сказал он снисходительно, – вам, думаю». Голубой дымок, похожий на жучка, скользил над лесом. Наконец, квадраты бронепоезда, окрашенные в защитный цвет, шипением и гулким грохотом заполнили станцию. Бабы притащили продавать молоко.
Так и произошло, как предполагал Плешко: бронепоезд, согласно распоряжению Киева, привез снаряды. Начбронепоезда, румяный и длинноногий юноша, очень любивший свою машину, торопил с выгрузкой. К тому же опять от Ухавы послышались орудийные выстрелы. Опять поляки перешли в наступление! Плешко сказал начбронепоезду:
– Я предлагаю вам (Плешко понимал, что начбронепоезда откажется категорически, но сказать это необходимо хотя бы потому, чтобы укрепить в душе сознание: из этого катастрофического положения бригада обязана выбираться своими собственными силами и даже гибнуть, не надеясь, что о гибели ее будет известно кому-либо и что дневник Гавро дойдет до его сына), – Плешко отчеканил пронзительно: «Я предлагаю двинуться и обстрелять Бровки, дабы бригада находилась под защитой орудий бронепоезда».
Румяный начбронепоезда завизжал, вскинул руки и топнул ногой:
– Я не пойду! Мне приказано передать вам снаряды, а в темные операции партизанского свойства я вмешиваться не намерен.
– Ну и вались к черту!
Румяный начбронепоезда, ругаясь и совсем по-детски взвизгивая, побежал в свой вагон. Начальник станции сделал под козырек. Груда снарядов осталась на перроне. Голубой жучок опять появился над лесом. Прискакал Матанин. Его глаза еще больше покраснели, рыжие космы волос крутились на тощей и мокрой его шее. «Бригада в полном порядке отступает от поляков», – сообщал Пузыревский. И Матанин добавил: «Да, действительно, никого не покинули». И у Матанина необычайно многозначительно и мило получилось это «не покинули», по которому можно понять: и Пыхачев, и Болдырев, и Феоктиста Степановна, и Анна Осиповна, учительша, прикрепленная к клубу, вскоре будут на станции живы и здоровы, готовые на хорошие разговоры и на хорошие поступки. Плешко с удовольствием разостлал свою шинель подле снарядов, прилег, но ему не спалось. Он прикрыл глаза и подумал: Матанин стоит подле и зло смотрит на командира, который ничего не боится и может спать. Плешко открыл глаза – Матанин смотрел на него зло. Плешко стало еще веселей, и даже мысль, – что ни ему, ни начбронепоезда не пришло в голову спросить друг у друга бумаги, расписку в получении снарядов, наконец и Рейх неужели на словах не мог передать каких-либо директив, – не огорчила его.
Бригада заняла Магалево23.
А в сумерки, с песнями и воем, ворвался на станцию пластунский полк. Пластунский полк расставил свои караулы. Пластуны, рваные, длинноволосые, обвешанные оружием, в обнимку длинными рядами ходили по улицам станции и орали песни. Плешко пришел посмотреть, как красноармейцы грузят снаряды на подводы. Красноармейцы тоже были оборванные, большинство в лаптях. В баньку бы их… А Пузыревский предлагает отступать глубже, и едва-едва Плешко уговорил сделать сегодня собрание бригадного партактива. Несмотря на бессонную ночь, Плешко чувствовал себя превосходно и знал, что и сегодняшнюю ночь он не заснет. Руки у него горели и в локтях, выше к плечу, томительно и в то же время сладко ныли какие-то жилки. Ему понравилось, как красноармейцы бодро и весело погружают снаряды (а на самом деле у красноармейцев были восково-глиняные лица, и тот снаряд, который раньше несли бы двое, подымали теперь пятеро), и подводы ему понравились. Затем он направился на собрание партактива. Пластунский патруль остановил его. Пластуны не только план обороны, но и пароль забыли сообщить! Разговаривая с патрулем, он увидал в соседней ограде фургон клуба. Рыхлый свет сальной свечи падал на узенькую ступеньку. На ступеньке валялся розовый ситцевый лоскуток. Плешко поднял этот лоскуток и, разглаживая его в руке, спросил: многие ли пристают к Феоктисте Степановне и сильно ли надоедают? На Феоктисте была стеженая солдатская куртка и волосы, стянутые венком из березы. Она ответила, что сдерживать не трудно, тем более, что можно говорить о деле или о починках, люди так обтрепались. Вот разве пластуны. «С пластунами я договорюсь», – сказал Плешко, весело глядя ей в лицо. Ей тоже стало весело, потому что она положила свою руку к нему на плечо и тягуче выговорила: «Какая у вас маленькая и, видимо, теплая рука». Выступила луна, тень от фургона была густая, и Феоктиста сказала про эту тень, что она походит на плащ, и Плешко согласился с ней. Голова ее пахла березой, и она сказала: «Анна Осиповна услышит, засмеет. Подумает: я гулящая. А между тем, мы дали друг другу слово, что пока не будет найдена Железная дивизия, до тех пор мы никого не поцелуем. Нашли, Ипполит Егорыч, Железную?».
– Почти нашел, – ответил торопливо Плешко. Она вырвалась и, вскакивая на ступеньку, сказала шепотом: «Меня еще никто не целовал так, как вы… милый», – то есть произошло почти так, как он думал однажды: фургон, луна, старые слова, от которых бывает удивительно приятно. И старинный-старинный шепот. И деревья с таким запахом, прелесть которого никогда, за всю жизнь, не понимал раньше этого поцелуя и шепота!..
На перекрестке ругались два патруля: пластунский и бригадный. Плешко узнал пронзительный голос Савки Ларионова:
– Вы, суки, растыки каторжные, почему так пароля не сообщаете?
Пластун в длинной барашковой папахе и ружьем, украшенным зубчатым немецким штыком и цветочком в дуле, бурчал:
– Без пароля прожить можно, а ты вот без сапог проживи. Нашли у вас в бригаде одиннадцать пар сапог, али не нашли?
– Ну, нашли, а тебе какое дело до бригадных сапог?
– И не крякай тогда, пока в морду не дал!
– Мне в морду, ку-урва ты, ерник старый, мне в морду? Да я, да ты знаешь, с кем говоришь? Ты про Железную слышал?..
И Савка, подпрыгнув, ударил пластуна в зубы.
Глава двенадцатая
В узкой и длинной комнате пахло керосином и селедкой, с потолка свисали обрывки веревок, посредине торчали остатки перегородки, три широкие полки занимали угол. Раньше здесь была мелочная торговля, а теперь штабной писарь Петрых в коротенькой коричневой куртке и стоптанных охотничьих сапогах выстукивал обращение штаба бригады к пластунскому полку. Машинка поломанная, треск от нее был неимоверный, Петрых высоко взмахивал локтями, свеча в синей бутылке тряслась в такт стуку, освещая пятнами лицо писаря, и тогда казалось, что огромные непонятные буквы сверкают у него во рту.
Пузыревский стоял, положив руку на плечо Кабардо, коротконогого безбрового паренька из Интернациональной роты. Кабардо был, кажется, из немцев-колонистов, служил раньше механиком на паровой мельнице, рано женился, имел уже троих детей и все жаловался, как стало тяжело жить с семьей. «По сообщению артиллерийской разведки, – говорил Пузыревский, – шоссе испорчено поляками, а если пробираться проселочными дорогами, то необходимо переходить линию, в четырех верстах от Магалево, ближе к Бровкам, подле села Картинное, которое, тоже по сведению разведки, занято сегодня на закате поляками». Пузыревский достал кисет и присел на корточки. Вдоль стен, куря и сипло сплевывая, сидели тоже на корточках люди ячейки. Пыхачев длинношеий, с еще более за последние дни потончавшим носом, заговорил хмуро, часто кашляя и пристально глядя на Плешко: