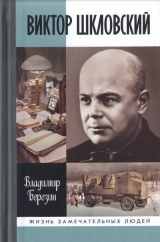
Текст книги "Виктор Шкловский"
Автор книги: Владимир Березин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
«Честь наша – честь искусства, честь справедливой войны нашей за высокое советское искусство. Тут без высоких слов ничего не поделаешь. И эта честь требует от нас самоотвержения, которое мы имеем, терпения, к которому мы привыкли, и веру в завтрашний день.
У меня есть вера. Сценарий, который мы написали об Андерсене, не умер, потому что ни одна страна не написала об этом странном и великом человеке, который имел все предрассудки своего времени, но всё же любил ведьм больше, чем королей, и должен быть снят нами с любовью.
Мы отвечаем не только за себя, а за наше искусство, которое требует от нас некоторое количество жертв.
Ты меня не поздравил потому, что не знал. 25 января мне было 83 года…
А вчера написал статью, в которой мы оба с тобой упоминаемся. А сегодня ещё буду писать о поздних вещах Толстого. Мы – капуста, которая состоит из многих зелёных листьев. А если сказать более высокими словами – мы – книга со многими страницами, и даже мы – роза со множеством лепестков. Но капуста – это ближе к делу.
Тебя помнят, тебя любят. Ты должен существовать, должен показать, что нет распространённого кадра, а есть живописный кадр, и что нет в кино краски, а есть в кино фактура. Впервые сказал о ней, как ни странно, В. Белинский в статье о Пушкине. Фактура – это ощущение вещественного мира, переданное в искусстве.
Целую тебя, мечтаю о встрече.
Живи для советского искусства, друг.
Существует пословица: „Лучше с умным потерять, чем с глупым найти“. Всякое дело надо совершать, помня о весе слова „художник“.
Б. Пастернак говорит, что художник „заложник вечности в плену у времени“.
Труд наш крепок и много будет раз проверен.
Надо помнить о сложности понятия „честь художника“.
Тебя помнят и любят многие.
Сегодня писал С. Лапину[138]138
Сергей Георгиевич Лапин (1912–1990) – партийный и государственный деятель. С 1944-го работал в Государственном комитете по радиовещанию, затем в МИДе; заместитель министра иностранных дел СССР (1962); посол в КНР; генеральный директор ТАСС (1967); председатель Государственного комитета по радио и телевещанию при Совете министров СССР (1970–1985). С этим периодом его работы связывают ужесточение цензуры и идеологического давления на работу журналистов и кинематографистов. Герой Социалистического Труда (1982).
[Закрыть]: напомнил об Андерсене, потом ещё раз напомнил о работе. Он ждёт воплощения»{287}.
Но это было уже в 1970-е, а пока, в 1920-е, кинематограф был нем и играл оттенками серого.
Много лет спустя Шкловский оказался очень органичен на телевизионном экране.
Он оказался не говорящей головой, не диктором, а именно ведущим, даже если в кадре был только он один.
Это был телевизионный собеседник, говоривший с невидимым залом.
У Владимира Огнева в воспоминаниях про Шкловского говорится: «Он хочет скорее увидеть своего „Дон Кихота“ на экране ТВ. Снова и снова возвращается к испанским впечатлениям. Смеётся лукаво: „Один профессор спросил меня в Мадриде: откуда вы, сеньор, узнали, что Сервантес читал энциклопедии своего времени? Ведь вы не знаете испанского языка! Я занимаюсь этой темой тридцать лет и не мог найти источников… Я ответил коротко: на третьей странице романа…“ И заразительно смеётся.
В Испании издали „Художественную прозу. Размышления и разборы“ весьма оригинально: на обложке – Дон Кихот и Санчо Панса на фоне… собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Издана и следующая книга Шкловского „Тетива. О несходстве сходного“. Издано предисловие к избранному Лоренса Стерна.
В заключение беседы спрашиваю: что надо писателю прежде всего.
– Надо, чтобы было трудно.
Последнее уже относил к себе.
И, хитро улыбаясь, от чего по всему лицу побегали морщинки, потирает свой огромный сократовский лоб. Говорит:
– Я люблю бессонницу… Потому что хорошо сплю…»{288}
Последняя работа Шкловского «Неразгаданный сон» (её он послал в издательство, которое печатало сборник «За 60 лет. Статьи о кино») посвящена телевидению.
Там говорилось, что нужно разгадать телевидение, что это самое демократическое искусство, но искусство ещё непознанное.
И ещё он писал о том, что «Телевизионное время – это не время романа»{289}.
В мире происходили процессы перемалывания не только романа, но и самой литературы, превращения их во что-то другое.
Между тем, когда Шкловский в очередной раз лежал в больнице, он набрался наблюдений за иными поколениями. У Лифшица есть такая запись разговоров со Шкловским:
«Стирание разницы между городом и деревней. В больнице соседи по койкам: десятиклассник Вася из села в 40 км от города Курган на Урале. И второкурсник какого-то хитроумного технического вуза в Москве – Серёжа. Вася – водит трактор, говорит на уральском диалекте: „исть“, „ну?“ вместо „да“ и т. п. Серёжа окончил английскую школу. Читает романы Агаты Кристи в подлиннике. Увлекается поп-музыкой… Казалось бы – крайности, антиподы. Вовсе нет! Оба говорят на каком-то малопонятном птичьем языке, прибегая к усиленной жестикуляции и звукоподражаниям, как наши далёкие предки… Словарь обоих убог до крайности. Особенно это видно, когда Вася или Серёжа (или оба вместе), перебивая друг друга, пытаются рассказать содержание какого-нибудь фильма, увиденного по телевизору, стоящему в холле отделения. Тут уж идёт сплошной свист, хрюканье, гаканье, траханье и т. п.
Как-то пришли из холла после фильма. Спрашиваю: „Ребята, что вы смотрели?“
Серёжа:
– Какой-то детективчик девятнадцатого века.
Вася:
– Там один старушку топором зарубил, а тут её сестра пришла, так он и её тюкнул…»{290}
У голубого экрана была оборотная сторона – устройство этой оборотной части очень сложное.
Сложнее электронных ламп и лучевых трубок.
Оно состоит из зрителей.
Шкловский писал в этой последней своей статье об эффекте присутствия, о голографическом телевидении. А на дворе стояло время, когда почти все советские телевизоры были чёрно-белыми. Цветной был редкостью, а теперь уже не всем понятно выражение «На голубом экране».
Голубой экран был у чёрно-белого телевизора. Таким он был виден в окне со двора, хотя, наверное, был всё же серым.
Это было время перемен, которые Шкловский застал.
В уже упоминавшихся воспоминаниях Владимира Огнева «О Викторе Шкловском и вокруг него» говорится о «позднем» Шкловском. Надо ещё раз сказать, что воспоминания эти тем хороши, что о Шкловском времён Гражданской войны написано много. Чрезвычайно много раз (и по-разному) рассказана история побега Шкловского в Финляндию. И 1920-е годы «перетёрты» воспоминателями тщательнее, может быть, прочего.
А вот благополучная жизнь Шкловского тогда, когда к нему пришла мировая слава, как-то теряется. Разрозненные воспоминания есть, а структурированных не так много – Конецкого, Чудаковых и едва ли ещё нескольких авторов.
Кажется, будто все события этой долгой жизни сосредоточены там, в историческом прошлом, когда Шкловский караулит от воров свою лодку на ночном берегу в Куоккале, когда сыплет сахар в жиклёры гетманских броневиков, когда возвращается из Берлина на родину, подняв руку, сдаваясь. Когда, наконец, он пишет «ZOO» и «Искусство как приём».
Но жизнь продолжается.
И в ней никогда до конца ничего не решается.
В устоявшейся этой жизни было множество трагедий, причём трагедий настоящих, неподдельных, и были дни такого же настоящего счастья.
Он стал как-то сразу, стремительно стар и превратился в мудреца, которого многие любили безоговорочно. Впрочем, Соломона Волкова как-то спросили о Шкловском, и он ответил:
«Про него хорошо Пастернак сказал (я недавно прочёл и полностью подписываюсь): „Шкловский похож на песочные часы: всё замечательно, но непонятно, который час“… Со Шкловским так: человек мыслил афоризмами, но ни один из них никуда не лезет. Не нужно… А запомнил я его таким старым человечком, которого теперь уже хорошо понимаю. У него было немного энергии, и вся она – остатки – была направлена только на творчество.
Никогда не забуду, как пришёл однажды к нему и говорю: „Вот у вас там, Виктор Борисович, в ‘Эйзенштейне’ написано, что Шаляпин пел теноровую арию. Он много вещей мог делать, но петь тенором – вряд ли“. Шкловский на меня зыркнул, мигом всё уловил и в следующем издании исправил. То есть на что надо мгновенная была реакция. И когда я с ним прощался, он всегда говорил: „Спасибо, что не задержались“»{291}.
Это высказывание интересно, потому что в этом же ключе о позднем Шкловском говорили многие. Если не восторг, так настороженность – и практически все говорили, прожив после этих встреч большой кусок жизни, примерно так же: «Но теперь я его очень хорошо понимаю».
Однако вернёмся к мемуарам Огнева.
Он описывает один разговор со Шкловским, который происходит на даче близ Шереметьева:
«…Я пришёл к Шкловскому, когда он собирался ехать за границу. Он жил на маленькой даче, и вокруг шевелились от сильного ветра посаженные им молодые кустики сирени. Он стал говорить о Толстом и незаметно для себя увлёкся… Я с ужасом увидел, что он выкапывает вчера посаженные кусты и складывает их рядом с ямками. Но мысли его были так остры и неожиданны, что я боялся их спугнуть. Потом Шкловский пошёл на другую сторону дачи и быстро и ловко вырыл ямки, в которые – продолжая развивать мысль о том, что „крестьянин для Толстого общечеловечен“, – постепенно пересадил кусты…
Потом мы пили чай с вареньем, и Шкловский долго смотрел в окно, нахмурившись. Он потёр свой огромный лоб и спросил: „Кажется, здесь росла сирень?“
Анекдоты о нём можно рассказывать часами. Например, я заметил, что, когда он кончает очередную книгу, переставляет стол на новое место… Первое время Шкловский ушибается о край стола, так как стол оказывается на непривычном месте. Потом привыкает. Впечатление такое, что новое для него начинается с нуля.
Но это не так. Огромная, феноменальная эрудиция – культура мира – за его широкими и крепкими плечами.
Шкловский кончил книгу о Боккаччо.
Он дал мне рукопись по старой дружбе. Тогда просил не очень „болтать“, так как не считал рукопись готовой к печати. Передаю разговор о сделанной, чистой главе, которую Шкловский не собирался чистить. Речь идёт о четвёртом дне „Декамерона“. Несчастная любовь у Боккаччо сравнена с… „Анной Карениной“.
– Ты помнишь, – говорит Шкловский мне, – женщина стоит спиной к окну (честно говоря, ничего не помню – но молчу)… Она так спиной и выбрасывается… Её провожают толпы народа… Анна не может жить в обществе, её отвергают… Заметь: мышь – пропускают. Анну – кошку! – нет, не могут пропустить… Героиня Боккаччо говорит, что ничего уже не может есть после того, как „съедено благородное сердце“ любимого… Муж заставил её обманом съесть сердце любовника, незадолго до этого убитого им в засаде, – далее я говорю о том, что такое общество во времена Боккаччо и во времена Толстого. И как возникает противоречие любви и условностей времени…
Шкловский рассказывает, а я смотрю на красивую шапочку почётного доктора Сассекского университета (Великобритания), диплом Почётного гражданина города Чертальдо (родина Боккаччо), которых удостоен Шкловский.
– Боккаччо я отложил, – говорит Шкловский, – пусть отлежится… А вот мой „Дон Кихот“ готов…
На столе – папка. В ней сценарий ТВ-фильма о гениальном идеалисте, ламанчском идальго, созданном воображением и гением Сервантеса.
– Обрати внимание! Как изменяется способ описаний в „Дон Кихоте“. Между написанием первой и второй книги – каких-нибудь десять-двенадцать лет, а между тем незаметно изменяется всё… даже отношение к маврам… Дон Кихот приближается к Санчо Пансе (Шкловский говорит: „всё более санчопансеет“, а Санчо – всё более „донкихотеет“)… Пародийный роман на глазах эволюционирует в проблемный… Мудрец не может быть безумным… Безумен мир…
И по свойственной ему ассоциативности мысли, без всякого, казалось, перехода, говорит:
– Истину нельзя получить при помощи поправок… В искусстве новое не развивается простым опровержением старого… Отжившее осуждается в процессе спора равных противников… В „Кандиде“ Вольтера два философа – оптимист и пессимист. Они по-разному толкуют один и тот же факт. Достоевский в „Братьях Карамазовых“ с равной силой пишет речи защитника и прокурора.
– Потому вы и назвали свою книгу о Достоевском „За и против“?
– Конечно.
– А как же выражается точка зрения художника?
– В споре, – иронически говорит Шкловский и смеётся. – В споре с самим собой. И со временем. Большой художник чувствует отстаивание содержания своих романов или стихов от времени. Это – конфликт формы, которая перестаёт подчиняться.
Я вспоминаю дневники Александра Блока: „Надо ещё измениться (или – чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал“.
Говорю Шкловскому. Он вздыхает:
– Да, трудно писать, когда писать легко…
– Но пишущие трудно – трудно и читаются, – возражаю я. – Ясное для художника легко читается… Толстой… Пушкин…
– Это другое. Что ясно читается? Начиная „Анну Каренину“, Толстой знал, что она покончит жизнь самоубийством. Что изменит мужу и уйдёт к любовнику. Что свет ей этого не простит. Выхода у неё не было. Но как это произойдёт, кто виноват, какой смысл описываемых характеров – об этом он не знал, начиная писать. Он сразу же знал, что Нехлюдов предложит женщине, которую он когда-то соблазнил, женитьбу, чтобы спасти проститутку. Но что произойдёт в результате конфликта, что раскроется людям, кто воскреснет в результате борьбы религий, любви, сложности жизни – он не знал… Сюжет – не способ заинтересовать читателя, а способ анализа жизни, превращения внешнего – во внутреннее, снятие привычного…
– Наверное, – говорю я, чтобы подбросить веток в незатухающий костёр мысли Шкловского, – наверное, сюжет раскрывает всё новые варианты анализа характеров?
– Разумеется… Могла ли Анна остаться верной мужу? Почему нет выхода? Почему Вронский, по собственному признанию, „такая же здоровая говядина“, как и принц, которого он сопровождает? Почему в родильной горячке Анна Каренина замечает, что оба – и муж, и любовник – Алексеи? Наверное, Алексей Каренин, большой чиновник, мог быть хорошим человеком, но он включён в нечеловеческие отношения. Поэтому свои нечеловеческие отношения к Анне он оформляет законом религии…
И, задумавшись, продолжает:
– Раньше я писал о том, как сделана „Шинель“ Гоголя. Я шёл от сюжета к жизни. Теперь понимаю: сюжет меняется потому, что меняется характер взаимоотношений людей в мире. Греческая трагедия основывалась на мифах, мифы были созданы давно, но изменился анализ взаимоотношений, изменились характеры, обоснования событий, а значит – изменился сюжет. Тысячи раз рассказывалось о том, как изменила женщина. Пьеро тысячу раз терял Коломбину. Об этом Чаплин поставил фильм „Огни рампы“, об этом писал трагические стихи Блок, писал Маяковский. Мотивировки несчастья всегда разные, хотя кажется, что те же. Меняется образ влюблённого. Меняется сюжет»{292}.
Огнев писал, что когда-то был подготовлен трёхтомник «Ранний Шкловский»: «Он – позор нам! – не издан… За его долгую, долгую жизнь, длинное, длинное „путешествие“ мы не удосужились этого сделать».
Рано или поздно это случится, теперь горсть электрических букв легче донести до читателя.
Дальше пересказывается история, как Шкловский в молодости попал в горный край. Видимо, эта история времён войны в Персии.
На холмах стояли башни. Местность была странная, и вокруг стояла жара.
Он искупался в реке, и люди, появившиеся из-за холмов, тут же схватили его. Его схватили, потому что река была священна.
Сейчас мне кажется, что Шкловский просто вставил себя в древнюю легенду, когда чужеземца приводят к старейшинам и спрашивают, что сделать с осквернителем – убить или изувечить. В этом сюжете всё зависит от красноречия чужеземца.
И тот оправдывается, упирая на то, что незнание закона всё же оправдание. Восток всегда кажется перевёрнутым изображением Запада, и правосознание, стало быть, в нём должно идти перевёрнутым.
Тогда чужеземцу предлагают испытание.
В рассказе Шкловского это рог с чачей.
Он пьёт, а выпив, просит воды запить.
Но старейшины не понимают его. Они не пьют воду. Они думают, что воду пьют только лошади.
Чужеземец не просто проходит испытание, которое местным жителям кажется наказанием, но и удивляет их, доказывая, что он – из другого мира.
Эта история повторяется у Шкловского несколько раз – вот его допрашивают в ЧК, и следователь предлагает ему всё рассказывать самому. Шкловский говорит о Персии. Рассказы о Востоке ведутся среди среднерусского пейзажа, следователь слушает, слушает конвоир, слушает другой арестованный. И вот рассказчика отпускают. Шкловский с видимым удовольствием подчёркивает: «Я профессиональный рассказчик»{293}.
Шкловский любил кошек и собак. Так часто бывает – люди бурной жизни любят домашних животных особенной любовью. Огнев вспоминал:
«У Шкловского на даче жил хитрый рыжий кот по прозвищу Жора Исакович.
Когда В<иктор> Б<орисович> работал, кот лежал на письменном столе, иногда смахивая мешающие ему страницы.
Моя маленькая дочка, приходя к Шкловским, говорила: „Здравствуй, Витя. Здравствуй, Сима. Здравствуйте, Жора Исакович“.
Жору Исаковича на моих глазах разорвали собаки. Рыжий одессит не умел бегать по глубокому снегу.
Шкловские были в отъезде. Я жил у них, работал над книгой.
Похоронили Исаковича. Жена сказала: „Помяни моё слово. Или умрёт Витя, или сгорит дача“.
Дача сгорела. Я спас только портфель дореволюционной выделки с рукописями Нарбута.
А гибель Жоры мы скрыли, сказали, что, вероятно, загулял, такое для хозяев было не внове. Погрустили и простили беднягу Исаковича».
В другое время, и уже в Переделкине, Шкловский пишет секретарю Союза писателей В. И. Ильину[139]139
Виктор Николаевич Ильин (1904–1990) – генерал-лейтенант; с июля 1941 года – начальник 2-го отдела 3-го управления НКВД СССР; в мае 1943 года арестован управлением контрразведки «Смерш» по обвинению в том, что, находясь на службе в НКВД, проводил враждебную деятельность; осуждён на восемь лет. В марте 1952 года освобождён за отсутствием состава преступления. Впоследствии – секретарь правления Союза писателей СССР, по многим отзывам был чрезвычайно умным и осторожным куратором писателей.
[Закрыть] по поводу уничтожения собак в Доме творчества «Переделкино».
«Дорогой Виктор Николаевич!
Дело, конечно, скверное. В русской литературе был рассказ „Муму“ (Тургенев), несколько рассказов в „Детском чтении“ про Бульку (Толстой), „Каштанка“ (Чехов), „Белый пудель“ у Куприна, стихи про собак Есенина и Маяковского, очень хорошая повесть Троепольского „Белый Бим чёрное ухо“ – и вдруг Литфонд уничтожает собак, имеющих прописку, документы.
Если не говорить про порядочность и гуманизм, то эти собаки – имущество, на них должен быть документ.
Территория у нас большая. Может быть, на нашей территории есть подсобные склады, и, может быть, собаки, отрабатывая свой хлеб, полаяли невпопад.
Надо разобраться в этом деле.
Убеждённым противником этих собак была сестра-хозяйка Надежда Анатольевна.
Кстати, напоминаю, что теперь в меню не указывается чистый выход продуктов: что получает человек на тарелку. Не об этом ли лаяли собаки?
Сам я в это время не был. Я бы за собак заступился. Это была хорошая компания – с характерами. И может быть, память об этих собаках переживёт забвенный век людей, не умеющих составлять меню. На эту историю я не попал, возил жену на операцию. Всё прошло благополучно. Но бурное развитие болезни – воспалительный процесс в желчном пузыре – может быть связано с кулинарными ошибками, с качеством жиров в Переделкино.
Пока пострадали собаки, и они уже не лают. Но в деле, вероятно, придётся разобраться.
Прошу прощения за то, что пишу своему старому товарищу по кино по такому, казалось бы, незначительному случаю.
Но участок огромный, ворота не закрываются, охраны нет.
Я любил этих собак, так же как и многие другие. Они были нашей традицией.
К сожалению, у меня ещё не было дачи, а то я бы их взял на свои харчи.
Я старый писатель, и собачий лай мне никогда не мешал.
В общем, я думаю, что тут дело не в лае.
С уважением.
А в кино плохо. Никто, видно, там уже не лает. А в залах кинотеатров пусто, и всё, как говорил старик Бронза в рассказе Чехова „Скрипка Ротшильда“, – всё одни убытки.
С любовью.
Виктор Шкловский»{294}.
Со временем, когда становится всё меньше ровесников, люди часто цепляются за котов и собак, за приручённую жизнь в своих домах.
А экран – не важно, телевизионный или кинематографический – требует коллективной работы. Только писатель может один сидеть за столом. Изображение более требовательно и собирает вокруг себя сотни работников. С одной стороны – это спасение от одиночества, а с другой – особый риск. Не соберутся люди, не сложатся десятки обстоятельств, результата не будет. Чувства и мысли, эмоциональное напряжение – всё уйдёт в песок, в жухлые листы машинописи.
Глава тридцать пятая
СМЕРТЬ ДРУГА
Путешественники хоронили своих товарищей со скорбью, пока атаман не остался один в остроге и тосковал в изумлении.
Амурское казачество во времена, предшествующие заключению Айгунского трактата (СПб., 1897)
У Михаила Ямпольского есть такая статья – «Смерть и филология». Речь в ней идёт, разумеется, о смерти в широком смысле, но начинается она со смерти конкретной, когда 24 ноября 1959 года, прямо на вечере Анатолия Мариенгофа, умер Борис Эйхенбаум.
Ямпольский пишет о том, как два друга Эйхенбаума – Шкловский и Якобсон, руководствуясь чужими рассказами об этом печальном событии, описали случившееся.
Якобсон давно жил за границей, и его текст был напечатан в Голландии в 1963 году: «24 ноября 1959 года в Ленинградском Доме писателей шла новая пьеса Анатолия Мариенгофа, и Б. М. Эйхенбауму предложили произнести вступительное слово. Ему было не по себе, но суеверный страх драматурга перед его отказом всё же побудил Эйхенбаума выступить. Свою яркую, сжатую речь оратор закончил словами: „Самое главное для докладчика – вовремя кончить; на этом я умолкаю“. Сошёл с эстрады, занял в первом ряду своё место возле внучки и, пока затихали аплодисменты, умер, склоня голову на её плечо. В дни ОПОЯЗа он нередко задумывался над кульминационным пунктом, климаксом, апофеозом, над ролью конца в строе новеллы и писал о „сознании особой важности финального ударения“».
Шкловский в «Тетиве» тоже помещает происходящее в дом писателей, то есть в Дом Маяковского на Неве. Вступительное слово собирался прочесть один популярный актёр. Он заболел, и Мариенгоф попросил Эйхенбаума выручить его.
«Мариенгоф сказал:
– Если вечер не состоится, я умру.
…Когда Эйхенбаум вышел на сцену вместо актёра, вздох разочарования раздался в публике.
Он попал в чужой зал.
Он говорил – зал скучал. Окончил – молчание.
Профессор сошёл в молчаливый, обиженный зал и сел в первом ряду.
Открылся занавес. На сцене начался скетч.
Борис Михайлович обернулся к дочери и сказал:
– Какой глупый провал!
На сцене уже играли, произнося немудрящие слова.
Вдруг артистка остановилась и прыгнула в зал: профессор сидел в кресле мёртвым.
Для настоящего сердца художника случайной работы нет.
Сердце готовилось поднять тяжесть.
Штанга оказалась пустой.
Жертва оказалась ненужной».
Смерть Эйхенбаума для Шкловского была больше, чем смерть друга. Это была утрата части самого себя, того воздуха, который он вдохнул в юности, и продолжал им дышать.
Ямпольский продолжает:
«Оба филолога приписывают смерти – событию, по определению не имеющему смысла, отрицающему всякий смысл вообще, – некое значение.
Якобсон, живущий в Америке, приписывает смерти друга оптимистическое значение некоего спланированного по законам литературы триумфа. Не случайно, конечно, он указывает на интерес Эйхенбаума к апофеозам и „финальным ударениям“. Старый профессор спускается в зал под гром аплодисментов, которые, как выясняется, обращены не столько к его „яркой, сжатой речи“, сколько к его концу. Речь и смерть настолько сплавляются воедино, что последняя реплика лекции оказывается комментарием к собственному исчезновению: „Самое главное для докладчика – вовремя кончить; на этом я умолкаю“. Смерть филолога идеально хронометрирована, она происходит „вовремя“, потому что совпадает с концом речи, текста, главного объекта филологического внимания.
У Шкловского, обитавшего в России, а потому куда менее оптимистического, смерть приобретает значение не в силу своего совпадения, точности „финального ударения“, но как раз наоборот – в силу фундаментального несовпадения. Смерть в принципе не может совпасть с течением жизни или течением речи. Шкловский строит своё описание на знакомом российским интеллигентам чувстве „украденной жизни“, прожитой „не своей“ жизни. Всё описание – это разработка одного мотива – Эйхенбаум попадает не в свой зал, не к своему „поэту“ (хотя в действительности Эйхенбаум до этого уже дважды выступал на аналогичных вечерах Мариенгофа). Он выступает вместо молодого эстрадника, который был бы на месте. И даже умирает он не своей смертью. Мариенгоф заявляет ему: „Если вечер не состоится, я умру“. Как в старых мифах, филолог умирает вместо поэта, умирает, чтобы продлить жизнь друга. И умирает он именно потому, что оказывается на чужом месте.
Перед смертью Эйхенбаум у Шкловского тоже не удерживается от комментария: „Какой глупый провал!“ Провал этот – конечно, прямая противоположность триумфу у Якобсона. Но провал здесь отмечает зияние, несовпадение, пустоту. Отсюда прямой переход к заключительным сентенциям – „Штанга оказалась пустой. Жертва оказалась ненужной“.
В обоих случаях, однако, смерть, при всей её странной незаметности, оказывается чрезвычайно театральной. В первом случае она происходит под гром оваций, во втором случае она сопровождается удивительным поступком актрисы, которая „остановилась и прыгнула в зал“. В обоих случаях театр смерти происходит в зале, а не на сцене, так что прыжок актрисы лишь подчёркивает обратимость сценического пространства и пространства зала. Не воодушевлённые зрители бросаются на сцену, принимая спектакль за реальность (как это часто случалось в театральных анекдотах или, например, в фильме Барнета „Дом на Трубной“), но потрясённая актриса выпрыгивает со сцены в зал, превращая реальность – в спектакль.
Несмотря на противоположность интерпретаций, оба филолога „читают“ смерть друга, как если бы она была эпизодом художественного повествования. Смерть получает смысл от контекста того рассказа, который она завершает. Это концовка, и в качестве концовки она особенно нагружена смыслом. Может быть, художественная литература отчасти и создана для того, чтобы помочь нам придать смысл жизненному финалу. Роман всегда готов предложить нам смысловую схему для интерпретации жизни. А филологи, сами того не сознавая, в той же мере предлагают нам понять смерть, в какой они стремятся помочь нам понять роман…
Смерть без смысла, без пафоса, смерть без смерти – бессмертие внеисторичности и нелитературности.
Единственное, чего не мог, конечно, учесть Эйхенбаум, тщательно планируя свою смерть, это литературного гения своих друзей-филологов, способных превратить самое нелитературное и неисторическое событие в концовку изумительного романа»{295}.
Шкловский чрезвычайно тяжело переживал расставания, но ради красивой метафоры не жалел никого. В. Огнев вспоминал:
«Когда Юлиан Оксман – умница и обаятельный толстяк, сохранивший силу духа и после многолетней отсидки, – приехал к Шкловскому в Шереметьевку, он, утирая пот с лица, сказал, что немножко устал.
„Немножко? Юлиан, ты ошибаешься. Ты напоминаешь мне билет, пробитый в оба конца“»{296}.
История ссор и примирений с Якобсоном давно и многажды рассказана.
Сам Шкловский писал о расставаниях очень горько:
«Вспоминаю, был жестокий мороз. Место встречи – высокий приморский берег в Комарове.
Мы встретились случайно. Его я знал давно. Мы ссорились, мирились, писали, потом разошлись. Звали его Виктор Максимович Жирмунский. В это время умерла Ахматова[140]140
Анна Андреевна Ахматова умерла 5 марта 1966 года в санатории Домодедово под Москвой; похоронена в посёлке Комарово под Петербургом. – Прим. ред.
[Закрыть]. Рукописи её не оказались на месте. Это была вина людей, которые думали, что эти бумаги их наследство.Анна Андреевна Ахматова, женщина, которую я помню молодой, в тот день или на день раньше умерла. Тот старый дом на противоположной стороне от Летнего сада, за Невским, тот дом стал пустым. Она его называла „Фонтанный дом“.
Там действительно было много фонтанов.
Это была высокая ирония.
Или пародия.
Можно сказать, окаймлённый гранитом лёд Фонтанки, – Фонтанка мне всегда казалась засохшей раной с гранитными рубцами.
Когда человек умирает, мы вспоминаем или стараемся вспомнить его целиком, искусство видеть человека – искусство редкое. С Виктором Максимовичем Жирмунским были друзьями по ОПОЯЗу. Мы не работали вместе, мы даже не думали вместе, мы думали об одном по-разному. Встретились как очень близкие люди. Виктор Максимович всё это время кроме своей общелитературной работы собирал в разных местах рукописи Анны Андреевны. Надо было найти автографы. Мы были в одном горе и встретились, забыв, что ссорились.
Вернее сказать, мы не совпадали. Я помню его вместе с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, Юрием Тыняновым, Евгением Поливановым. Эти имена лежали в сердце, глубоко, не как рана, а как путь.
Мы шли по тихому снегу и удивлялись, что вчера мы могли ссориться.
– Из-за чего мы ссорились?
– Я был с тобой не согласен. И сейчас не согласен.
– Но ведь ты меня не прочёл?
– Верно, не прочёл. Но ведь мы так говорили. Вместе думали. Ты слушал.
– По-разному, – ответил мне человек, идущий рядом.
Близкий человек.
Спорили, расширяя тему, сближая. Так смотрят люди в небо через оптические стёкла, расположенные в медной блестящей трубе. Вероятно, я подумал: если хочешь увидеть чётко, то не надо расширять поле зрения. Сжатое поле зрения. Только за счёт полей, за счёт соседних кусков небо приближается.
Делает тему чёткой.
Разговор, записанный через много лет, в нём я не могу под страницей упомянуть книгу и номер страницы и поставить кавычки.
Мы шли рядом, вспоминая то, что нас сближает и будет сближать.
– Но ведь ты, – сказал собеседник и друг, – не хочешь писать строго научно: перечислять результаты: во-первых, во-вторых, третьих, четвёртых…
И друг мой сказал мне темы споров. А я мог бы ответить: и не забыл, – но просто не сказал».
При этом Чудаков вспоминает, что его разговоры со Шкловским об ОПОЯЗе начались с Жирмунского и что «в автобиографии 1952 г. Шкловский включил его в список членов ОПОЯЗа»:
«– Он <Жирмунский> был формалист. Испуганный формалист. Он сел в чужие сани и ехал. Я говорил с ним незадолго до его смерти. Он сказал: „Всё, что я сделал, – о стихе, о рифме, о поэтике, – от формализма. Когда вы уехали за границу, я перестал работать. А всё, что думал, – это был спор с вами. Когда вы приехали, я снова начал работать. Сейчас я дописываю свои молодые работы“»{297}.
Но в поэтическом описании их встречи – в «Энергии заблуждения» – Шкловский продолжает строить романтическую картину:
«Мороз очищает небо. Зрительная труба колет небо, звёзды понятнее в контекстах созвездий. Это мы говорили уже около его дома, двухэтажной дачи. Было так тихо, как тихо в морозе. Друг и я никогда не пили – ни вместе, ни порознь.
Он отрыл один сугроб, достал водки; кажется, оказался стакан. Мы выпили не пьянея.
Нам было очень трудно, мы увидели творчество третьего, творчество женщины, жившей там, в Фонтанном доме на реке, которая всё же похожа на гранитную рану, на рану, окружённую литым чугуном. Потом мы говорили о целом.
Говорить о созвездиях, не зная звёзд, неправильно. Говорить о звёздах, не зная, что такое звезда, неправильно. Но звёздное небо обычный предмет поиска, цель внимания. Да, я оправдываюсь, я не умею писать так, чтобы вот первый ответ, вот второй, третий. Я не знаком с приборами. Я писатель.
Поэт без рифм, без ритма, с густым, для меня внятным гудением сердца.
С вниманием к исследованиям искусства, методам, приближающим к искусству.
Так казалось мне в тихой морозной ночи.
Расходятся звёзды, когда убрана труба, расходятся люди, когда их фамилии окружают чёрными рамками. Но остаётся тема – небо. Буду писать разбросанно, пытаясь соблюсти какую-то точность. Я буду писать, не будучи довольным своим малым опытом, опираясь на высказывания писателей, на их опыт, на их противоречивые слова, пытаясь в пересечении показаний найти точность предмета.
Друзья мои, вы разошлись. Остались книги. Друзья мои, некоторые из вас сменили берега. Я не буду говорить точно. Но я даже во сне пытаюсь связывать мысли, сопоставлять их.
Мне говорили врачи, что то, что я считал своей бессонницей до трёх часов, это первый сон, как бы его первая оболочка. Как легко думать во время бессонницы. Как бы без читателей, как бы без самого себя – не споря с прежде сказанным, не споря с тем, что я ещё скажу, достигнув тихого берега с цифрами, удобными для людей, которые занимаются библиографией и примечаниями к чужим работам.
Что такое поэтическое мышление – не знаю.
Что такое приближения к истине – не знаю.
Но даже во сне ищешь истины в сравнениях, и сны шуршат так, как шуршит река, когда по ней идёт ещё не закреплённая последними морозами шуга, которая превращает обломки в дороги»{298}.
Шкловский из филолога превращается не только в писателя, но и в философа.








