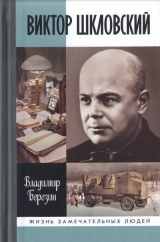
Текст книги "Виктор Шкловский"
Автор книги: Владимир Березин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Глава шестнадцатая
КРЫЛАТЫЕ СЛОВА
Гамбургский счёт – чрезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, – чтобы не исхалтуриться.
Гамбургский счёт необходим в литературе.
По гамбургскому счёту – Серафимовича и Вересаева нет.
Они не доезжают до города.
В Гамбурге – Булгаков у ковра.
Бабель – легковес.
Горький – сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион.
Виктор Шкловский
Я дружил с разными писателями, в том числе очень молодыми. Они удивительно часто повторяли слова: «Писать надо лучше». (Обычно, в ответ на жалобы, что кого-то не издают, хотя фантастическая литература 1990-х и 2000-х славилась как раз тем, что, утоляя голод массовой культуры, издавала всех.)
Но никто из них не знал истории слов «Писать надо лучше».
А история этой фразы извилиста, и я не сменял бы её на дюжину фантастических романов.
Нет, эта фраза повторялась многими. Вот, к примеру, Наталья Шмелькова рассказывает о Венедикте Ерофееве: «К себе был особенно строг. Помню, как 8 июня 1987 года хозяйка московского квартирного салона Наташа Бабасян пригласила нас с Веней на прослушивание его пьесы „Вальпургиева ночь“. Читал профессиональный артист. Ерофеев слушал очень внимательно. По окончании чтения на мой вопрос, как ему понравилось исполнение, он с неподдельной мрачностью ответил: „Писать надо лучше“».
Доходило до того, что говорили, будто это сказал товарищ Сталин. Понятно, что все фразы, если грамматически похожи, кажутся одними и теми же, но связка всякой жалобы с ответом – «Писать надо лучше» – всё-таки с историей.
В «ZOO, или Письмах не о любви» есть «Письмо четвёртое», где говорится о холоде, предательстве апостола Петра, о Велимире Хлебникове, его гибели и о надписи на его кресте. Там же говорится о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о гвоздях, о чаше, о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви, и, как всегда, – не только об этом.
В этой главе Шкловский рассказывает историю любви Хлебникова:
«Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора.
Дом богатый, мебель из карельской берёзы, хозяин белый, с чёрной бородой и умный. У него – дочки. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на неё смотрят.
Такой птицей сидел он, с опущенными крыльями, в старом сюртуке, и смотрел на дочь хозяина.
Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи.
Отрекался от них всех, кроме „Девьего бога“.
Спрашивал её, как писать.
Дело было в Куоккале, осенью.
Хлебников жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни.
Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца.
Дело было такое простое.
В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как несессер, но мы все не можем найти в нём своего места. Жизнь примеривает нас друг к другу и смеётся, когда мы тянемся к тому, кто нас не любит. Всё это просто – как почтовые марки.
Волны в заливе были тоже простые.
Они и сейчас такие. Волны были как ребристое оцинкованное железо. На таком железе стирают. Облака были шерстяные. Хлебников мне сказал:
– Вы знаете, что нанесли мне рану?
Знал.
– Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы всё. Я записал бы иначе. Может быть, нужна слава?
Море было простое. В дачах спали люди.
Что я мог ответить на это Моление о Чаше?
Только на первый взгляд может показаться, что тут есть что-то милое и смешное.
Комичный поэт, что был асоциален в полном смысле этого иностранного слова. Он был оборван и грязен.
Наверняка пахло от него тяжело, и не только неухоженностью.
Но дело в том, что даже вымытый человек иногда вскрикивает: „Может, писать надо лучше?“».
История, рассказанная Шкловским, больше, чем анекдот о чудаке.
Был такой фильм 1978 года «Объяснение в любви». Правда, справочник услужливо подсовывает продукт «Казахфильма» с тем же названием: «В Казахстане в геологической партии работает шофёр Байкал, любитель приврать без умысла – рассказать неправдоподобную историю, да так ввернуть, чтоб было и весело и страшно одновременно. Но однажды он встретил и полюбил Анналь, которая уже много слышала от людей про краснобайство и лень своего ухажёра. Но Байкал решил не отступаться от любимой – и ради себя самого решил больше не сочинять и ударно работать».
История поучительная, но нас сейчас интересует фильм, снятый по книге Габриловича «Четыре четверти» и названный «Объяснение в любви», – там интересующая нас фраза повторяется. Сценарист Павел Финн сделал из книги нечто совсем другое.
Это фильм о нелюбви, точнее, фильм не о любви – как письма Шкловского из Берлина.
Есть воспоминания Игоря Дедкова («И я говорю вслух: конца света не будет»), который пишет: «Видел по телевидению фильм Авербаха по сценарию Габриловича из жизни журналиста и писателя в тридцатые-сороковые годы. Главного героя играет Ю. Богатырёв. Думаю, что фильм абсолютно фальшивый. Сквозящий автобиографический мотив притязает на что-то значительное, на характерное и типическое. Герой даже рассуждает о том, сколько много его поколение видело и пережило и „мы“ не смеем эту память растранжирить. На самом деле герой мало что видел и мало что пережил, и, в сущности, он просто-напросто благополучен (о всяких там репрессиях и всей атмосфере тридцатых годов – ни слова, ни намёка), а нам предлагают воспринимать его как фигуру едва ли не драматическую и положительную. Значит, и правда хочется Габриловичу себя увековечить, объяснить, поднять собственное значение. А я припоминаю его воспоминания о том, как жил на одной площадке с М. Булгаковым, и, видимо, жил, презирая этого неудачника, что-то там стучащего на машинке за стенкой… Проходят годы, и благополучие оттеняется чьей-то бедой, несчастьем, действительным состоянием народа, и тогда благополучным, во всяком случае, самым совестливым из них, становится стыдно».
Но феномен как раз в том, что сценаристом выступал Финн, а Габрилович написал книгу контрполитическую, фактически о том, что политика политикой, а человеческие отношения оказываются самым важным. Или, иначе говоря, – политические переживания в конечном счёте слабее любви или тоски.
Дедков был довольно интересный человек – для тех, кому достаёт времени для археологии и неспешного чтения. Он один из последних, если не последний литературный критик. Ведь русская критика, идущая от пушкинских времён, через весь XIX век и почти весь XX закончилась как раз тогда – может быть, именно в «Новом мире». Сейчас есть публицистика и рецензирование, довольно много эссеистики, есть литературоведение, выдающее себя за критику, но критики, той, настоящей критики с «установками» и «направлением», уже нет.
Ну а в фильме Габриловича два героя едут по фронтовой дороге.
Главный герой – военный корреспондент едет со своим товарищем в машине, что называлась «эмка».
Это самое начало войны, и на них ещё форма старого образца.
Одного из них играет артист Богатырёв, а другого – его зовут Всеволод Николаевич Гладышев – артист Лавров. Со своей трубкой он очень похож на писателя Симонова. Он удачлив во всём, и в любви тоже.
А вместе они похожи на других реальных людей, военкоров Лапина и Хацревина, сгинувших при выходе из окружения в 1941 году.
Героя Богатырёва, главного героя, все зовут просто Филиппок, потому что жизнь им пренебрегает.
Он говорит своему спутнику:
– Поэт Хлебников был очень несчастен в любви… – и дальше почти точно цитирует Шкловского – о том, что надо писать лучше.
Но тут же прилетает немецкий самолёт, и вот уже «эмка» с убитым шофёром стоит, уткнувшись капотом в реку. Гладышев ранен и не может идти. Он быстро слабеет. И в конце концов успешный человек умирает в обществе неуспешного где-то под мостом.
Жизнь довольно жестока, не только любовь.
Но тут я скажу довольно опасную вещь. Хлебников сказал эту фразу без свидетелей – свидетели не нужны, когда человеку приехали сообщить о нелюбви.
А зная, как Шкловский обходился с цитатами, мы не можем быть уверенными, что Шкловский не придумал всё это – и шерстяные облака, и жестяные волны, и поэта, который, сгорбившись, как птица, спрашивает недоумённо: «Вы знаете, что им нужно?»
Это куда более отчаянные мысли, чем рассказ о своём и чужом блуде.
Вторая знаменитая фраза описывает вообще большую часть проблем литературы во все времена. Эта фраза из «Третьей фабрики»: «Ведь нельзя же так: одни в искусстве проливают кровь и семя. Другие мочатся. Приёмка по весу».
Третья фраза стала названием книги.
Последняя знаменитая книга Шкловского называлась «Гамбургский счёт», она вышла в 1928 году, и с тех пор её название стало крылатым.
Но Шкловский мог бы ничего больше не писать, когда 90 лет назад написал статью «Гамбургский счёт», которую потом сам называл «задиристой» и неправильной, но с 1928 года это выражение укоренилось в русском языке. И вот сообщают нам газетные заголовки: «Гамбургский счёт Ивана Поддубного»; «Среди борцов начала XX века существовало выражение – гамбургский счёт. Переводя на язык российского футбола начала XXI, этот счёт следует назвать спартаковским»; «В Евразии всё может пойти по „ракетно-ядерному счёту“, который подобно гамбургскому среди боксёров»; «Пока мы не сумеем, по-настоящему, взаправду, как говорят наши дети, по самому серьёзному, „гамбургскому счёту“ спросить с народных избранников, ничего не получится». Или вот: «Виктор Шкловский в книге „Гамбургский счёт“ (1928) рассказал, что в Гамбурге было кафе, в котором раз в год при закрытых дверях собирались борцы со всего мира». А вот «Современный экономический словарь» (авторы Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева) сообщает нам: «Гамбургский метод исчисления процентов по текущим банковским счетам, депозитам – процентная шкала», и дальше – комментарий: «Гамбургский метод предполагает полную чёткость и однозначность, без условностей и, в частности, не допускает изменения условий договора и значений процентов» с примечанием: «Выражение гамбургский счёт впервые появилось в связи с турнирами борцов в Гамбурге в начале XX века, где участники заранее договаривались, кто из них победит и какие приёмы будут использованы, что делало турнир зрелищным, но не позволяло оценить истинную силу борцов. И лишь раз в год эти борцы встречались между собой без зрителей, где и выявляли реальных победителей». А вот подоспела и база вопросов в телепередаче «Что? Где? Когда?»: «Это понятие появилось в спорте, но, скорее всего, за пределами узкого круга профессионалов широко не афишировалось. Хотя нам оно больше известно вовсе не из спорта, оно и в новой ипостаси сохранило своё первоначальное значение. Назовите европейский город, давший имя этому понятию». Ответ: «Гамбург».
Во времена Шкловского ещё звучало понятие особого банковского счёта на банко-талеры, придуманного действительно Гамбургским банком, впрочем, после объединения Германии Бисмарком запрещённого. Но это звон медных денег прошлого.
Итак, неизменным остаётся только Гамбург – место действия переносится то в цирк, то в трактир.
В воспоминаниях Виктора Конецкого этому выражению посвящена целая глава, где Шкловский ему рассказывает:
«Выражение „гамбургский счёт“ появилось у меня так.
Союз писателей в старом своём составе, как одна из писательских организаций, находился в Доме Герцена по Тверскому бульвару. Было лето. На первый этаж прямо в сад выходил большой тент: под тентом был ресторан, и весь первый этаж тоже был рестораном.
Поваром ресторана был человек, фамилию которого я забыл; знаю, что по прежней своей профессии он являлся цирковым борцом.
К нему приходили большие, уже немолодые люди, они садились тяжело на стулья и, как помнится мне, иногда нарочно их ломали.
Шеф-повар для своих друзей приготовлял винегрет; порции подавались в больших, специально купленных умывальных тазах. После такой закуски люди ели обед.
Раз пришёл человек, менее других отяжелевший, но всех крупнее. Вокруг него сразу образовалась свита, расположившаяся по рангам: это был Иван Поддубный. Пришёл он с борьбы: боролись в цирке Шапито. Было тогда Поддубному 70 лет. Его попросили выступить бороться. Рассказал он об этом спокойно:
– Бороться в семьдесят лет, – говорил Поддубный, – нельзя, но показать, как борются, можно. Да и знали все, что меня по моему рангу положить нельзя. Нехорошо человека в семьдесят лет вдруг взять да и положить на лопатки.
(Я всё это пересказываю через 40 лет, так что вы к кавычкам не относитесь как к цитированию документов, находящихся у меня на столе. Продолжаю рассказывать.)
– Показываю я перекат и вдруг чувствую, что мой молодой напарник хочет меня прижать, вместо того чтобы дать мне показать классический мост.
Дальше я рассказываю точно:
„Бороться в семьдесят лет нельзя, но две минуты или одну минуту я могу быть сильнее другого борца на сколько угодно. Но я никогда не толкался. Если бы мы толкались, живых бы не было. Тут я его толкнул; его унесли на доске.
Тут шеф-повар сказал спокойно:
– Пускай помнит гамбургский счёт!“
Я спросил, что такое гамбургский счёт, и мне объяснили, что это счёт без условностей, без наигрыша. Его в старину устанавливали в Гамбурге на закрытых состязаниях – без публики.
Я, издавая книгу, написал о гамбургском счёте. Мне посоветовали вынести это название на обложку. Было это в 1924 году.
Через 25 лет Константин Симонов во время борьбы с космополитизмом напомнил этот мой рассказ и на много лет прижал меня на лопатки.
Как мне говорил Александр Фадеев, меня в дискуссии „не должны были упоминать“. Но старая статья, попавшая на заголовок книги, была задиристой; я в качестве людей, не выдерживающих гамбургского счёта, упомянул Вересаева, Серафимовича и сказал про Горького, что он часто бывает не в форме. Она была выгодна для упоминания в полемике.
Я сейчас не собираюсь толкаться и скажу, что моя статья „Гамбургский счёт“ была неправильная. Но речь Симонова напечатала „Правда“ в 1949 году. Через год в одном из очерков Овечкина, в разговоре колхозников, я прочитал: „А вот мы сейчас ему устроим гамбургский счёт“. Это говорилось, насколько я помню, про соседа, который занимался показухой.
Запомнился термин и его смыслы.
В спорте существует олимпийский счёт, который, благодаря значению состязания, является истинным счётом, потому что у него есть показатели, которые можно проверить.
В искусстве правила счёта иногда нарушают, и человек, объявленный чемпионом, вдруг появляется на лотке уценённых книг. Так что, значит, какой-то счёт без показухи нужен.
Что же касается выражения „большой счёт“, то я не помню, чтобы я его вводил. Помню, что раз Павленко выступал, я Петру Андреевичу говорю перед выступлением:
– А ты будешь говорить по большому счёту?
Он меня переспросил:
– А что это значит?
Очевидно, термин ещё был не общеупотребителен, но кто его пустил – я или кто-нибудь другой, – не знаю…»
Дальше Конецкий приводит свою переписку с современным критиком Станиславом Рассадиным по поводу этой фразы, да и Шкловского вообще:
«В. Конецкий – С. Рассадину
Глубокоуважаемый Станислав Борисович! В „Книжном обозрении“ (как всегда с удовольствием) прочитал Вашу статью „Была ли советская литература?“.
В который раз наткнулся на упрек В. Б. Шкловского в адрес Булгакова: „у ковра“ (т. е. выводится из игры!). Это некий массовый психоз, ибо выражение обозначает высокий комплимент и предсказание „гамбургской борьбы“ и победы в ней.
Написано сие „у ковра“ в 1924 году. В книге напечатано в 1928 году. Понимать выражение, мне кажется, следует:
1. Булгаков уже приехал в Гамбург. А Серафимович или Вересаев туда даже приблизиться не могут.
2. Булгаков уже СТОИТ у ковра, ибо допущен к соревнованиям высшего пилотажа (это в 1924 году!).
3. Хлебников с ковра уже сошёл, ибо уже победил.
4. Бабель уже принимал участие в драке, но, по мнению В. Б. Ш., легковес. Горький же часто не в форме, т. е. его на ковре могут просто-напросто придушить – старенький уже.
Кстати, в эти приблизительно времена В. Б. Ш. написал на двери сортира в квартире Горького: „Человек – это звучит горько!“ За что и лишился вкусного обеда – Горький сильно обиделся и выставил хулигана на улицу.
Так вот, мне кажется, что, если бы о Вас написали, что Вы допущены к всемирному соревнованию критиков, приехали уже в Гамбург и стоите у ковра в чёрном трико, с нетерпением ожидая схватки, то это было бы выражением к Вам высоких надежд и уверенности в будущих Ваших достижениях и победах.
Извините, но это „у ковра“ я нынче чуть не каждую неделю встречаю. Вероятно, люди забыли о старых борцах, их строгих ритуалах и прочее. Видят-то они борьбу уже современную и (часто отвратительную) по ТВ.
Быть допущенным к тяжёлому морскому рейсу – уже честь и уважение моряка. Такой и тут смысл – у В. Б. Шкловского. Возможно, у меня несколько извращённое понимание этой цитаты…
Ваш Виктор Конецкий. 21.10.80.
С. Рассадин – В. Конецкому
Многоуважаемый Виктор Викторович! Большое спасибо за доброе, интересное письмо; надеюсь – Вы не истолковали моё молчание как проявление заурядного и тем более незаурядного хамства, – я просто был в отъезде. Не за границей, как ныне принято, прятался, чтобы работать.
То, что Вы пишете по поводу „гамбургского счёта“, очень неожиданно и, возможно, справедливо; говорю это тем искреннее, что совсем не уверен в абсолютной собственной правоте. Вот что, однако, мешает мне с Вами согласиться, как бы ни хотелось.
Прежде всего – достаточно известно плохое отношение Шкловского к булгаковским писаниям. Специалисты даже полагают, будто эта враждебность основана на обиде, которую Шкловский испытал, распознав себя в Шполянском; я как раз в этом не уверен, ибо в некотором смысле Шполянский мог бы Виктору Борисовичу и польстить. Касательно внешности, например, или успеха у женщин, у существ, для Шкловского не безразличных. Я думаю, речь скорее не о враждебности, а о полнейшем эстетическом равнодушии, так как и уничижение у Шкловского какое-то обидно-ленивое: „Успех Михаила Булгакова – успех вовремя приведённой цитаты“ (Из Уэллса в данном случае). Воля Ваша, но это полный отказ Михаилу Афанасьевичу в оригинальности.
Тут дело и в лефовской групповщине (жесточайшей), но если Маяковский её политически заострял (нападки на „Дни Турбиных“), слишком подчёркнуто, то бишь ревниво сводя значение Булгакова к нулю, вернее, к отрицательной величине (см. „Клопа“), то Шкловский, повторю, скорее безразличен, снисходителен, высокомерен. По тону его судя, о Булгакове неинтересно, да и просто нечего, незачем толковать…
И вот ещё что. Вспомните поэтику вступления к „Гамбургскому счёту“, весьма и весьма строгую, чтоб не сказать – прямолинейную. Там ведь отчётливое нарастание значительности. Серафимович и Вересаев просто дерьмо собачье, они до города не доехали. Булгаков – да, доехал, но… Бабель даже вышел на ковёр, однако… Горькому случалось быть в форме, но далеко не всегда: „сомнителен“. И наконец, победитель, чемпион – Хлебников.
Простите, но ежели согласиться с Вашим толкованием (не ради вежливости повторяю: очень интересным), кинем упрёк Шкловскому-стилисту, якобы не умеющему строить свои построения. А он – умел. Вряд ли я сумел Вас переубедить, но, может быть, уверил хотя бы в том, что я не подвержен „массовому психозу“ (кстати, массовости и не приметил). Если спятил, так на свой упрямый лад. Как писал Слуцкий, „ежели дерьмо – моё дерьмо“.
Сожалею, что получил Ваше письмо слишком поздно: у меня в первом номере „Октября“ идёт статейка, где я возвращаюсь к вышеозначенному „счёту“ как к роду профессионального снобизма (кстати, это не нападки на Шкловского, просто я думаю, что и его общая наша болезнь коснулась, а поскольку он талантливей всех нас, вместе взятых, – говорю о так называемых литературоведах, – то у него и заболевание проходит заметнее). Будь у меня время, я бы Ваши возражения как-то учёл бы – не примкнувши к ним, но имея в виду существование такого, как Вы, оппонента…
С. Рассадин. 21.12.80».
Борис Фрезинский в предисловии к книге Е. Полонской «Города и встречи» говорит: «Елизавета Григорьевна относилась к Виктору Борисовичу сердечно, безусловно ценила его как литератора и учёного» и цитирует её письмо, «где рассказывается о выступлении Шкловского в ленинградском Доме писателей им. Маяковского. Письмо отправлено в Москву М. Шкапской в несладкое время – 27 декабря 1938 г. (о том, что в этот день не стало Мандельштама, Полонская ещё не знала)»: «Вчера был роман Виктора Шкловского о современном романе. Блестяще! Было много молодёжи, которая слушала его в первый раз. Они слушали, широко открыв глаза и рты, видно было, что у них перехватывает дыханье. Вход в клуб Маяковского был объявлен свободным, и зал ломился от людей. Никогда не было такого чисто литературного интереса у писателей. Он избил Германа, Чуковского Колю, уничтожил Слонимского, давнул Каверина, захвалил Тынянова и Форш, словом, это трактир в Гамбурге, где за закрытыми дверьми бойцы дерутся взаправду».
«Пожалуй, взаимоотношения Полонской и Шкловского были взаимно уважительными»{139}, – заключает Фрезинский.
Так вот, давным-давно я задался вопросом гамбургского счёта и сперва расспрашивал любителей цирка (хотя цирк в современном понимании тут ни при чём – борцы прежних времён выступали на ярмарках, в театрах, варьете и даже в ресторанах).
Никто ничего не знал. Книги молчали, набив буквами рты.
Я даже съездил в Гамбург (для путешествий нужно придумывать самые невероятные поводы). Никакой традиции состязаний в Гамбурге при закрытых дверях не было.
И старики-немцы только щурились, когда я рассказывал им эту историю.
Я даже нашёл двух дряхлых германских циркачей – эти старики выжили на войне в Испании и как-то спаслись на Второй мировой. Трясли головой циркачи, а несли чушь.
Один человек, занимавшийся историей спорта столетней давности, прилежно записал в книжечку «Schklovskij».
Но следов гамбургского счёта нигде не было – была только гениальная метафора Шкловского. Не собирались, не закрывали двери, не занавешивали окна. Это всё только метафора, надежда, что где-то, как-то может быть по-настоящему. В каком-нибудь фантастическом городе, где Луну делают из сыра.
Впрочем, был один гамбургский счёт, мне принёс его турок-официант – счёт был гениален и лаконичен. На бумажке значилось просто «20» – без пояснений. Арабские цифры победили буквы всех стран и соединились.
Такая у нас цивилизация – по универсальному счёту.
Четвёртая фраза прокомментирована Шкловским подробно:
«Вот выражение „это факт вашей биографии“ – это я пустил. Кажется, в споре с Полонским. Выражение это означало тогда: ваше решение и ваше мнение имеет значение только для вас самого – вы не авторитетны.
Прошу прощения, что для короткой справки я ответил так распространённо. Будем считать, что это факт моей биографии»{140}.
Это напечатано в «Вопросах русской речи» в 1965 году.
Но над выражением «это факт вашей биографии» стоит задуматься. Часто его употребляют для умаления чужих утверждений, вроде: «Я не люблю стихи Окуджавы» – «Это факт вашей биографии». И кажется, что тебе доказали, что есть события твоей неправильной и жалкой биографии, а есть великие факты общей биографии, от которых ты оторвался, как от первичной партийной организации.
Этот риторический приём бессмыслен – все чувства есть факт наших биографий.
Есть, конечно, и коллективные переживания – например, массовое чтение любовных романов или женских детективов. Можно говорить об этом как о социальном явлении, но что за аргумент?
Нет, это всего лишь вежливая интерпретация хармсовского «А по-моему, ты – говно».
Но теперь эти слова – затычка, когда вместо того, чтобы сформулировать опровержение или признать право на рознь во мнениях (тут-то разговор и заканчивается), используется парфянская стрела: «Это факт вашей биографии, потому что именно вы – неразвитый бесчувственный человек, и что тут с вами говорить, когда вы не хотите присоединиться к некоему коллективному мнению».
Так же слова о том, что прямого наследования нет, оно направлено «не от отца к сыну, а от дяди к племяннику»{141}.
Про это вспоминают все – даже Якобсон пишет: «Видя с другой стороны обеднение чешской поэзии после её готического взлёта, мы можем процитировать остроумное замечание Виктора Шкловского: линия литературного наследования идёт не от отца к сыну, а от дяди к племяннику, – и тем самым польскую поэзию XVI века мыслить как продолжение и кульминацию старочешской поэзии»{142}.
Есть и термин «пробники», обиженное слово, пришедшее из конезаводства, как уже говорилось.
«Пробниками», напомню, называли многих, сам Шкловский то и дело сравнивал себя с несчастным конём, что раззадоривает кобылу, а потом его оттаскивают, чтобы дать дорогу племенному жеребцу.
И про это Шкловский писал в письме Горькому, давно процитированном.
«Пробник» – слово живучее.
Пробниками, кстати, звали людей, на которых проверяли водку.
Водка вообще обручена с русской литературой, как и пробники.
После падения советской власти, когда начался сумасшедший водочный бизнес и доля «левой», или «палёной», водки доходила до восьмидесяти процентов, когда «левые» цистерны везли «левый» спирт через грузинскую границу, потом из него делали такую же «левую» водку, когда у ларьков, где кассовые аппараты подкручивали и учили правильно работать ушлые программисты, занимали свои места «пробники».
Это звание тогда было трагичным.
А в 1990-е годы звание «пробника» было смертельным, потому что это профессия человека, который на пробу пил неизвестную жидкость.
Правда, получая эту жидкость бесплатно, в качестве награды за риск.
Я видел «пробников» – бывших писателей.
В общем, история повторяется, на каждом круге страшнее и страшнее.
А ещё Шкловский говорил: «Когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости».
И говорил: «Мы получаем деньги не за труд, а за трудности, с которыми их получаем».
И ещё говорил: «Жизнь – это ряд усилий. Мы видим цель, но не всегда видим дорогу».
Ходит по рукам цитата из «Третьей фабрики»: «Любовь – это пьеса. С короткими актами и длинными антрактами. Самое трудное – научиться вести себя в антракте».
Из «Третьей фабрики» взято то, что вся сумма бытовых удобств может быть описана расстоянием в сто сажень до уборной.
В книге «Лев Толстой» мимоходом говорится: «Для того, чтобы познать своё сердце, надо немножко знать анатомию».
До сих пор спорят о том, кто автор фразы «Советская власть научила литературоведение разбираться в оттенках дерьма» – Шкловский или Синявский.
Шкловский в общественном сознании превращается в генератор афоризмов. Василий Васильевич Катанян в своих воспоминаниях мимоходом приводит историю:
«В другой раз, разговаривая о пятнадцати годах, когда Ахматова была под запретом (1925–1940), о её горемычной судьбе и несправедливости, Виктор Борисович вдруг резко свернул вбок: „Когда мы жили в писательском доме в Лаврушинском, у нас была домработница, которая дружила с соседской домработницей. Как-то вернулась она от неё и говорит: ‘Приехала к ним одна дама, велела вам, Виктор Борисович, кланяться’. – ‘Кто?’ – ‘Забыла имя’. – ‘А как выглядит?’ – ‘Высокая такая. Прошла в уборную, как Богородица’.
Я понял, что приехала Анна Андреевна“»{143}.
Исторический анекдот.
Крылатое бон мо.








