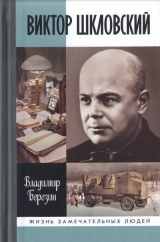
Текст книги "Виктор Шкловский"
Автор книги: Владимир Березин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Ученик любит учителя, но не может переступить через свою любовь и пойти на компромисс. Ученик любит не только своего учителя, но и его книги, ворованный воздух этих книг, который не хочет осквернить компромиссом.
А Чудаков действительно любил Шкловского.
Они познакомились за десять лет до этого, на встрече со студентами МГУ 17 апреля 1962 года. Шкловский выступал два часа и, как говорили тогда, «держал зал» всё это время. Старики подмечали, что он сдал, но это только добавляло восхищения – каков же он был, если теперь аудитория не замечает времени. Чудаков написал ему в записке что-то об ОПОЯЗе, и тот ответил:
– Жирмунский в ОПОЯЗе был. Виноградов – нет. Я был председателем – не заметил. Но ранние его работы связаны с Эйхенбаумом.
Чудаков затесался в толпу, собравшуюся вокруг Шкловского, и стал что-то уточнять. Как он сам вспоминал, такими вещами интересовались только заехавшие на стажировку американцы. И, внимательно посмотрев на него, Шкловский произвёл в уме какую-то оценку и пригласил его в гости.
Это было как приглашение на Олимп. Чудаков хотел увидеть автора сборника «Поэтика», будучи ещё студентом второго курса, когда он купил эту, антикварную уже тогда, книгу:
«Сама возможность этого не казалась особенно фантастичной: раз в неделю я слушал лекции Н. К. Гудзия, В. В. Виноградова, Ф. Асмуса, дважды в неделю – С. М. Бонди, который много рассказывал о Б. В. Томашевском, Б. М. Эйхенбауме, благополучно здравствовавших; на факультете видел И. Бернштейна, М. Н. Петерсона, А. А. Реформатского. Ещё более мне захотелось этого позже, когда я, уже в аспирантуре, писал работу о формальных штудиях в Германии и России.
Впервые я увидел Шкловского на вечере Хлебникова 8 февраля 1961 г. Но это было короткое выступление. Запомнилось только про Джамбула – из-за неожиданности (Шкловский рассказывал, что акын, понимая русский язык, это скрыл)».
И вот молодой Чудаков с женой (а Мариэтта Омаровна разделяла его чувства к небожителю) приехал к Шкловскому на дачу в Шереметьево. И без всяких предисловий Шкловский заговорил сначала о лингвисте Поливанове, потом о литературе вообще, потом ещё о чём-то.
Сейчас эти воспоминания читать вдвойне интересно – там виден механизм работы Шкловского с собственными мыслями – он спрашивает, где гости были летом, ему отвечают, что ходили на байдарке по Упе.
Упа – река в Тульской области, и Шкловский мгновенно связывает это с тем, что в Упу впадает Воронка.
Воронка течёт мимо Ясной Поляны – она там небольшая, но тут же разливается. А над Воронкой стоит дубрава, где Толстой с братом в детстве искал «зелёную палочку», хранившую секрет, как сделать людей счастливыми. И там же Лев Николаевич похоронен согласно собственной воле. Потом разговор переходит вообще к «муравейным братьям», детской фантазии Толстых о справедливом обществе, и вот уже речь идёт о строении «Анны Карениной».
Чудаков всё это записывает.
Судьба этих записей трагична и вместе с тем совершенно литературна.
Чудаков дал их почитать своему знакомому, а тот – какой-то женщине.
Женщине они оказались ни к чему.
Когда с женщиной ссорятся, мужчине часто не хватает духа забрать у неё разные вещи – свои и чужие. Так записи и исчезли, оставив некоторую надежду, что объявятся в неожиданном месте.
Так часто бывает с рукописями.
С этим, кстати, связана мечта о вероятной находке библиотеки Ивана Грозного.
Но многие из высказываний Шкловского сохранились:
«Писатель – пчела и соты вместе. В соты вкладывает труд много пчёл – до этой пчелы и одновременно с ней».
«В искусстве, как и в жизни, незаконные дети рождаются тем же простым или, если хотите, тем же сложным способом, что и законные».
«Счастье – это не покой, а качество сознания».
«Самое главное – уметь доводить скандал до конца».
«Когда человек стал рассказывать сны и начал рисовать на стенах пещеры – это первое, что удвоило ему жизнь».
«С писателями у нас поступают как в каракулеводстве: овцу доводят до того, что она делает выкидыш, а потом с недоношенного, мёртвого ягнёнка сдирают шкуру».
Чудаков всё записывал, «но процент афоризмов в речи Шкловского был слишком велик».
Записывали и другие люди – записано много.
Про Евгения Евтушенко Шкловский говорил, что «он распят на холодильнике».
Сохранилось и другое, не менее язвительное его замечание: «Мимо нашей дачи в Переделкино рысью пробежал Евтушенко, торопясь за границу…»
Надо сказать, у Чудакова есть рассказ, как он гуляет по Переделкино с четой Шкловских и они встречают Евтушенко с фотоаппаратом. Он кричит, что перечитывал накануне «ZOO, или Письма не о любви», и при этом произносит, как и многие: «Зоо» (а не «Цоо», как по-немецки произносится зоопарк. – В. Б.). Он говорит, что был «весь раздрызгай, а эта книга меня собрала». И вот он хочет сделать фотографию, щёлкает камерой и убегает. После этого Шкловский рассказывает: «В Берлине со мной на бульваре раскланялся верховой, а потом пригласил в гости. Это был Василий Иванович Немирович-Данченко. Вся квартира была заставлена томами его собственных сочинений. „Я пишу каждый день лист высоко-художественной прозы“, – сказал он мне. И прочитал что-то. Действительно, это можно было печатать. Настолько плохо, что можно печатать».
Сохранились и другие любопытные высказывания Шкловского:
«…„Литературообразные“ люди. Лет 50 пишут, а ты их не знаешь, ничего не читал…»
«Одному „литфондовскому“ писателю я как-то сказал: „Ложась спать, вы, наверное, думаете: зато я самый вежливый…“ По-моему, это обидно, правда?»
«Вывески на лавках раньше были с рисунками. У нас были свои Пиросмани. Жаль, что никто не додумался собирать эти вывески».
«Я хочу только одного: чтобы меня не заставляли говорить то, чего я не думаю…»
«Моя жена по каждому вопросу имеет два мнения, и оба окончательные, поэтому мне довольно трудно…»
«Моя жена с ветрилами, но без руля».
«Такое впечатление, будто он когда-то в детстве съел ядовитый гриб и с тех пор пребывает в каком-то волшебном сне…» (О <Вадиме> Шефнере.)
«Вас тут выпьют с чаем». (Обращаясь к В. Берестову, приехавшему в Москву.)
«Работать трудно. Пролезаю сквозь пишущую машинку, как рельс сквозь прокатный стан».
«Там у нас узкая лестница, не для человека, а для кошки. Для небеременной кошки». (О даче.)
«Только у очень занятых людей бывает свободное время».
«У критика Тарасенкова была собрана большая библиотека русской поэзии. Он всю её переплёл в ситчик, заклеив переплёты с выходными данными… От этой библиотеки пахло дураком».
«Годами валяется ненужная книга, вы наконец от неё избавляетесь, и на следующий день она оказывается вам позарез нужна. Это проверено».
«В годы военного коммунизма мне однажды пришлось есть бутерброд с сельтерской водой. Это получилось так. Пролили сельтерскую воду, лужица на столе замёрзла, превратилась в лёд. Этот лёд мы клали кусочками на хлеб и ели».
«„Корабельщики молчат. С бабой спорить не хотят“ – я воздерживаюсь от того, чтобы процитировать эти строки Серафиме Густавовне, но иногда очень хочется».
«Разглядывал у букиниста интересную книгу. Положил. Ушёл. Через несколько дней опять увидел у него эту книгу. Удивился: цена увеличилась вдвое. „Почему?“ – поинтересовался я.
„Потому что я видел, с каким интересом вы её разглядывали…“».
«Был случай, когда, выйдя из себя, я загнал в угол перепуганного редактора, вытащил из его служебного письменного стола и разорвал все бумаги, а ящики, чтобы утолить ярость, продавил каблуками».
«В одном издательстве мне долго не выплачивали мой гонорар, водили за нос. Однажды, после очередного отказа, я вышел из терпения и в кабинете директора издательства стал молча скатывать большой ковёр, покрывавший пол кабинета. Директор онемел. Я скатал ковёр, взвалил рулон на плечо (силы тогда хватало) и понёс его из кабинета.
– Что вы делаете? – завопил директор.
– Уношу ковёр в погашение вашего долга…
Мне заплатили наличными».
«Я очень неприспособленный человек. Я умею только три вещи: писать, разговаривать и скандалить».
«После смерти Володи Маяковского осталось два чемодана писем женщин к нему. Эти чемоданы забрала Лиля Брик, сожгла письма в ванной и приняла из них ванну».
«Справедливость в конце концов торжествует. Но жизни не хватает».
«Мы так одичали, что не ходим на четвереньках только по рассеянности».
«Старость накрывает меня, как мальчик накрывает птицу шапкой».
«Творчество даёт принудительную молодость. Нельзя писать, будучи стариком».
«Список рецензий на меня составляет 78 страниц. И подавляющее большинство из них – ругательные.
Есть вещи, которые у меня ругают 50 лет подряд. Например, „Искусство как приём“. Ругают уже два поколения. Не стоит ли призадуматься – что же это за вещь, если её так долго ругают?»
«Я впервые напечатался в 1908 году. Устаёшь от одной этой даты».
«Я боюсь звонить по телефону. Везде неблагополучно. У вас ещё лучше, чем у других, вы работаете».
«Один из способов убийства писателя – засахаривание в меду». (1971 год.)
«От N. ничего не осталось, его разрезали на цитаты…»
«Манеж – могила неизвестного скульптора».
«Когда приходит докучливый посетитель, я пускаю в ход глушитель системы Шкловского: начинаю говорить сам и не закрываю рта до тех пор, покуда он не уходит».
«Есть плохие писатели, графоманы – с ними легко. Есть хорошие писатели, полновесные люди – с ними легко. А есть такие, которые лезут в литературе не в свои двери, – с ними трудно…»
«Писатели обидчивы, как пуделя».
«Говорят – молодость прошла. А у меня такое чувство, что прошла уже и старость»[130]130
А это сказано, между прочим, в 1973 году, и жить ему ещё оставалось долго.
[Закрыть].
«У меня дома заведующая паникой – Сима».
«Мне иногда кажется, что мы мчимся в неуправляемом автомобиле…»{277}
Ну и так далее – за Шкловским записывали многие люди, и список ярких фраз разросся необычайно.
Они не всегда точны (и не всегда принадлежат точно Шкловскому), но в них кипит энергия заблуждения, та поэтическая энергия, которая не просто описывает мир, а выделяет из него литературу.
Глава тридцать четвёртая
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭКРАНА
Кино не убивает театр, кино не убивает литературу. Никто никого не убивает. Бросьте эти ваши кровожадные мысли.
Чарли Чаплин
В одном из интервью «Литературной России» Шкловского спрашивают: «Как складывались ваши отношения с кинематографом?»
Он признаётся: «По-разному. Сначала довольно просто. У меня родился мальчик. Нужны были деньги. Я спросил: „Где можно взять денег?“ Мне ответили: „В кино“. И я пошёл в кино. Кино мы тогда делали буквально из ничего…»{278}
Денег, значит, не было.
Впрочем, у Шкловского их не было постоянно. Часто цитируют его письмо Тынянову, где он острит: «Деньги у меня бывают постоянно завтра!»
Николай Чуковский писал в воспоминаниях «О том, что видел»:
«Виктор Шкловский в 1920 году провозгласил теорию „остранения“, суть которой заключалась в том, что всякое произведение искусства, для того чтобы оно воспринималось художественно, должно быть странным. Всё не странное казалось банальным, мещанским, обывательским. Только чудаческое, эксцентрическое признавалось новым и революционным. Советское киноискусство, едва родившись, тоже начало с того, что провозгласило эксцентризм основным своим принципом. Двое юных талантливейших кинорежиссёров, Козинцев и Трауберг, столько сделавших впоследствии для развития советского кино, основали группу ФЭКС – „Фабрику эксцентризма“ – и выпускали фильмы, полные самых причудливых нелепостей.
Все эти воззрения были чужды народным массам, делавшим революцию и создававшим советский общественный строй. Но значительная часть интеллигенции была охвачена ими, причём в большой мере именно та часть, которая сочувствовала Октябрьской революции и стремилась помочь ей. Сейчас это давно уже умерло и у новых поколений не вызывает ничего, кроме удивления. Сейчас всё это кажется нагромождением бессмыслиц, а между тем в этих бессмыслицах был особый смысл. В чудачествах, странностях, нелепостях выражалась потребность интеллигенции рассчитаться со своим прошлым – эстетским или либерально-буржуазным.
Это был метод расчистки для постройки нового, метод наивный и неправильный логически, но органичный и для многих необходимый. К 1930 году всё стало на место, пыль, поднятая взрывом, улеглась, и волна чудачества схлынула. В русской поэзии последним всплеском этой волны была первая книжка стихов Заболоцкого „Столбцы“, вышедшая в 1929 году»{279}.
Шкловский посвятил кинематографу половину жизни.
Он пришёлся кино удивительно впору.
Для кино пригодились его чёткий стиль и абзацы, описывающие то пейзаж, то состояние мира, то деталь лица.
Чем-то абзацное строение мысли Шкловского похоже на смену планов в сценарии.
«В угол, на нос, на предмет» – так раньше учили опытные жеманницы девиц кокетничать взглядом, то есть строить глазки. Так, последовательно меняя планы, нужно было смотреть.
В угол (общий план), на свой нос (деталь), затем на предмет обожания – средний план.
У Шкловского выходило лучше многих.
Фильмов по его сценариям снято несколько, а один и вовсе не рядовой. Это «Третья Мещанская», снятая Абрамом Роомом.
Поначалу Шкловский считал кино, которое спасало и кормило его в трудное время, некоторой забавой. Во всяком случае, вторичным по отношению к литературе.
Марк Галлай[131]131
Марк Лазаревич Галлай (1914–1998) – лётчик-испытатель, писатель, доктор технических наук; участник Великой Отечественной войны. За годы испытательской работы освоил 124 самолёта различных типов; участвовал в подготовке первого отряда космонавтов. Герой Советского Союза (1957).
[Закрыть] вспоминал:
«В конце 70-х в московском Доме кино отмечалось 85-летие Виктора Борисовича Шкловского. Отмечалось широко, со всеми положенными атрибутами: адресами, подарками и, конечно, пышными юбилейными речами, которые, правда, не отличались большим разнообразием. Последнее обстоятельство, насколько можно было заметить, у самого юбиляра, отличавшегося острым, ироничным складом ума, несколько снижало уровень нормальной юбилейной растроганности.
Но вот слово взял кинодраматург Алексей Яковлевич Каплер, человек сложной, временами трудной, но яркой судьбы.
– Я хочу спросить Виктора Борисовича, – начал он. – Помнит ли он, как при появлении звукового кино убеждал нас, что оно не более, чем аттракцион, и не имеет никакого будущего?
– Было дело, – подтвердил, несколько опешив, Шкловский.
– Почему я сегодня говорю об этом? Дело в том, что в таком же духе высказывались и Рене Клер, и даже Чарли Чаплин. Я думаю, нашему юбиляру приятно будет вспомнить, в какой хорошей компании он ошибался.
Шкловский радостно захохотал. Оказывается, в совершении ошибок, как и в выпивке, имеет значение – с кем»{280}.
Исаак Бабель признавал сценарный талант Шкловского: «Вы – мастер кино».
Всё дело в том, что фразы-объекты, которые производил Шкловский при работе над сценарием, чрезвычайно удобны для монтажа.
Они не слишком коротки, чтобы потерять смысл, и не слишком длинны, чтобы путаться и схлёстываться друг с другом, замедляя движение.
Итак, строки-абзацы ведут себя как монтажные планы, группы кадров.
Но, прежде чем сказать о «сентиментальном монтаже», сделаю отступление о пародии.
Пародий на Шкловского писали много.
Его пародировать легко (так же, как легко подпасть под его влияние). У актёра Олега Борисова в дневнике есть такое место о сыне: «Когда я подарил ему книжку Шкловского „Тетива. О несходстве сходного“, он выучил её наизусть и везде цитировал. Собрал потом все другие его книжки и стал пробовать писать „под Шкловского“. Кончилось это олимпиадой по литературе среди школьников, в которой моему сыну достался диплом второй степени. Когда председатель жюри вручал ему этот диплом, он шепнул ему на ухо: „Попахивает формализмом. Вы – формалист?“ Со Шкловским было покончено»{281}.
В поздние годы Шкловского Бенедикт Сарнов, Лазарь Лазарев[132]132
Лазарь Лазарев (1924–2010) – критик, литературовед; с 1955 года работал в «Литературной газете», с 1961-го – сотрудник журнала «Вопросы литературы», затем главный редактор.
[Закрыть] и Станислав Рассадин написали пародию:
«Письма не о кино
Раньше я думал, что зимой холодно, а летом жарко.
Многие и теперь продолжают думать так же.
Им кажется, что яблоки всё ещё падают сверху вниз, как во времена Ньютона.
Так вот об Эйнштейне.
Эйзенштейн был гений.
Сашко Довженко тоже был гений. Кроме того, он был моим другом.
Сашко снял ленту „Земля“.
Друг моей юности Абрам Роом снял ленту „Гранатовый браслет“. <…>
Но я пишу эти письма не о кино. Я пишу о климате.
„Климат“ – слово греческое. Кажется, так. Надо посмотреть в словаре иностранных слов.
„Дворник“ – слово русское, хотя в моей молодости дворниками были татары. Это слово означает „человек с метлой“. Метла – протез дворника. Она продолжает его руку, и сама продолжается в ней. В её черенке локализуется его сила. Сила меняет психологию. Психология меняет климат».
Фильм «Третья Мещанская», снятый Роомом по сценарию Шкловского в 1927 году, – фильм удивительной красоты. Если бы Роом и Шкловский ничего больше не сделали, думается, уже этим фильмом вошли бы в историю кинематографии.
Фильм можно резать покадрово – и рассматривать как фотографии[133]133
Оператор фильма Григорий Владимирович Гибер (1891–1951) – кинодокументалист, снимал Ленина, во время Великой Отечественной войны – фронтовой кинооператор, впоследствии заслуженный деятель искусств РСФСР (1947), лауреат Сталинской премии первой степени (1949).
[Закрыть].
Это искусство монтажа в чистом виде, и вместе с тем фильм не лишён эротической силы.
Это и фильм о старой Москве, которая уже ускользает, перестраивается, – и камера движется по Тверской, мельком показывая недостроенный храм Александра Невского, который… Впрочем, прочь, сентиментальность – я жил там неподалёку. И это не только архитектура зданий, но и мелкая моторика быта – с примусами и обливанием из подвешенного на стене самовара, с ночёвками на экспроприированных диванах и дворником, который занимается пропиской. Разлучник в исполнении Фогеля[134]134
Владимир Павлович Фогель (1902–1929), кроме Барнета, снимался в фильмах Я. Л. Протазанова, В. П. Пудовкина, Ф. А. Оцепа. В 1978 году Чудаков спросил Шкловского о судьбе актёра Фогеля, а Фогель играл ещё главную роль в поставленном по сценарию Шкловского фильме «По закону». «Лицо В. Б. омрачилось, ответил не сразу, что бывало крайне редко.
– Он повесился. Был давно болен. Фильм тяжёлый. Героя вешают. Может быть, роль надо было дать другому. Может быть, я виноват в том, что он выбрал такую же смерть».
[Закрыть], ухаживая за чужой (пока) женой, дарит ей журнал «Новый мир», и она тут же начинает разрезать страницы.
Фильм этот был запродан половине мира и по ту сторону полосатых столбов был едва ли не популярнее, чем на Родине.
Сейчас, правда, реставрированную киноленту снабдили каким-то разухабистым джазовым сопровождением, к которому непонятно как относиться, но и это фильм не портит.
В фильме иногда находят намёк на треугольник: Осип – Лиля Брик – Маяковский. Или же: Шкловский – Эльза Триоле – Якобсон.
Это и правда, и неправда одновременно. Фильм, родившийся из газетной статьи, в которой описывались два комсомольца, жившие с одной женщиной и выводившие из этого новую мораль, был хорош тем, что описывал не частный удивительный случай, а время. Мы, пережив довольно много социальных перемен и переворотов в стиле отношений, забываем, что, во-первых, люди своего времени не чувствуют, что они живут «как-то странно»; во-вторых, есть довольно массовые жизненные уклады, которые вдруг исчезают, будто корова их языком слизала.
Так вот, треугольниками жили (а судя по некоторым мемуарам, многие из окружения Маяковского и Бриков жили многоугольниками). Это нужно принять к сведению, как и то, что стремительность жизни не отменяет любви.
Однако вернёмся к пародиям. Первой из пародий на Шкловского, кажется, был текст, написанный Михаилом Зощенко ещё в 1924 году:
«О „Серапионовых братьях“
<…> Я не виноват, что Стерн родился в 1713 году, когда Филдингу было семь лет…
Так вот, я возвращаюсь к теме. Это первый альманах – „Серапионовы братья“. Будет ли другой, я не знаю.
Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше (см. Энцикл. слов.).
В Персии верблюд может не пить неделю. Даже больше. И не умирает.
Журналисты люди наивные – больше года не выдерживают.
Кстати, у Лескова есть рассказ: человек, томимый жаждой, вспарывает брюхо верблюду перочинным ножом, находит там какую-то слизь и выпивает её.
Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.
Теперь о Всеволоде Иванове и Зощенко. Да, кстати о балете.
Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съёмщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.
В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.
Итак, движение быстрее 1/7 секунды неделимо.
Это грустно.
Впрочем, мне всё равно. Я человек талантливый.
Снова возвращаюсь к теме.
В рассказе Федина „Пёсьи души“ у собаки – душа. У другой собаки (сука) тот же случай. Приём этот называется нанизываньем (см. работу Ал. Векслер).
Потебня этого не знал. А Стерн этим приёмом пользовался. Например: „Сантиментальное путешествие Йорика“…
Прошло четырнадцать лет…
Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу ещё сказать о комете или о Розанове. Я человек не гордый.
Но не буду – не хочу. Пусть Дом литераторов обижается.
А сегодня утром я шёл по Невскому и видел: трамвай задавил старушку. Все смеялись.
А я нет. Не смеялся. Я снял шапку (она у меня белая с ушками) и долго стоял так.
Лоб у меня хорошо развёрнут»{282}.
Зощенко тут почти провидец: он не только подмечает те приёмы, которые Шкловский будет использовать всю жизнь, – да-да, это не черты, а именно приёмы, – но в этой пародии есть и ключевые слова: «Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу ещё сказать о комете или о Розанове. Я человек не гордый».
С одной стороны, «я могу всё», с другой – «я не гордый, если захотите, хотите расскажу про лён на стлище и шумы Третьей фабрики – будет и это». Стало «и это». Как угадал Зощенко.
Пародии на Шкловского построены на его собственных приёмах – вольных ассоциациях и эффекте монтажа.
К примеру, был такой интересный человек по фамилии Архангельский[135]135
Александр Григорьевич Архангельский (1889–1938) – поэт, сатирик, пародист; печатался во многих советских сатирических журналах.
[Закрыть], конторщик, статистик, в царское время сидел в тюрьме по какому-то неясному политическому делу, сблизившись с большевиками. При новой, советской власти стал газетчиком, однако огромное количество его юмористических и сатирических текстов так и ушло с теми временами. От Архангельского остались пародии – так бывает. Чувство стиля у него было удивительное.
Евгения Иванова пишет в предисловии к его сборнику: «Многие из явлений литературы, снова возвращавшихся в неё в 20-х и 30-х годах в обновлённом виде и воспринимавшихся новым читателем как неслыханные художественные открытия, пародисту были давно известны. В короткой фразе Шкловского он без труда угадывал некогда знаменитую короткую строку „короля фельетонистов“ Власа Дорошевича. Не в диковинку ему было и излюбленное Шкловским ассоциативное сцепление мыслей, „культ логической прихотливости“ – он в своё время был внимательным читателем „Опавших листьев“ В. Розанова».
Итак, среди пародий Архангельского есть и та, что посвящена Шкловскому и называется «Сентиментальный монтаж»:
«Я пишу сидя.
Для того чтобы сесть, нужно согнуть ноги в коленях и наклонить туловище вперёд.
Не каждый, умеющий садиться, умеет писать.
Садятся и на извозчика.
От Страстной до Арбата извозчик берёт рубль.
Седок сердится.
Я тоже ворчу.
Седок нынче пошёл не тот.
Но едем дальше.
Я очень сентиментален.
Люблю путешествовать.
Это потому, что я гениальнее самого себя.
Я обожаю автомобили.
Пеший автомобилю не товарищ.
Лондон славится туманами и автомобилями.
Кстати, о брюках.
Брюки не должны иметь складок.
Так же, как полотно киноэкрана.
В кино важен не сценарист, не режиссёр, не оператор, не актёры и не киномеханик, а – я.
Вы меня ещё спросите, что такое фабула?
Фабула не сюжет, и сюжет не фабула.
Сюжет можно наворачивать, разворачивать и поворачивать.
Кстати, поворачиваю дальше.
В Мурманске все мужчины ходят в штанах, потому что без штанов очень холодно.
Чтобы иметь штаны, нужно иметь деньги.
Деньги выдают кассиры.
Мой друг Рома Якобсон сказал мне:
– Если бы я не был филологом, я был бы кассиром.
Мы растрачиваем золото времени, накручивая кадры забракованного сценария.
Лев Толстой сказал мне:
– Если бы не было Платона Каратаева, я написал бы о тебе, Витя.
Толстой ходил босиком.
Босяки Горького вгрызаются в сюжет.
Госиздат грызёт авторов.
Лошади кушают овёс.
Волга впадает в Каспийское море.
Вот и всё»{283}.
«Литературная энциклопедия» позднее сообщала: «Архангельский часто даёт „преувеличивающую“ пародию, метко схватывая слабые места писателей (напр., романтические гиперболы Бабеля или кокетничанье свободными ассоциациями Шкловского)».
Художественный метод Шкловского в частном письме (к Лиле Брик) Эльза Триоле описывала так: «Просмотрела Витину книгу. Не берусь судить серьёзно, но кажется мне, что этот мозаичный стиль по-прежнему результат обыкновенной лени, и блестящие наблюдения, замечания не дают логического развития мысли, а понатыканы, как булавки в подушечку. И лучше всего сказано им самим: „как всегда, то, что недописано, – недописано, недокончено, а книга уходит со станции стола“. Уж если продолжать сравнение, то хорошо бы начальнику станции не отпускать состав не сцеплённым – вагоны налезают друг на друга, сталкиваются, сходят с рельс, тут и крушение недалеко. Конечно, всего этого Вите говорить не надо»{284}.
Но это самое простое – объяснить всё ленью и отсутствием чёткой структуры.
Даже лён, который потом так безжалостно мнут на стлище, не растёт точно по ранжиру.
Сила текста Шкловского именно в этой кажущейся хаотичности, которая делает прозу похожей на стихотворение.
Но и потом он был ревнив к кинематографу (уже снимаясь на телевидении). В конце 1960-х годов он рассказывал Чудакову о поездке в Италию: «Они дали мне сценарий – „Дубровский“. Там дочь Троекурова входит в свою элегантную ванную. И вообще порнография. Я им сказал: если в первых кадрах – тройка, то дальше должен быть слон. Вы не поверите. Они приняли всерьёз. Спрашивают: как вставить слона. Думают: раз такой знающий человек говорит, что надо слона, значит – правда. А ведь умные люди. Де Сантис и тот, что ставил „Они шли за солдатами“[136]136
Джузеппе де Сантис (1917–1997) – итальянский кинорежиссёр, один из основоположников неореализма. Фильм «Le soldatesse» – в советском прокате «Они шли за солдатами» (1965) снимал режиссёр Валерио Дзурлини (1926–1982).
[Закрыть]. Я думаю, что, когда мы ставим их, получается примерно то же. – Противоречие всегда должно существовать. Вещь вне натяжения непознаваема. Тетива постоянно должна быть натянута. У Козинцева „Гамлет“…»
Тут Шкловский запнулся и Чудаков подсказал:
«– Скучен?
– Да. Скучен. Нужна разнотональность. У Шекспира Дездемона, Офелия умирают как простолюдинки. У Козинцева – однотонность.
„Дон Кихот“ у него тоже однообразен. Из него ушёл юмор. Только одно удачное место, где Дон Кихот отвечает священнику, что дама и священник не могут оскорбить, потому что им нельзя ответить, они невменяемы.
Калатозов снял – давно – „Соль Сванетии“. Фильм запретили. Я сказал: „Дайте мне 500 руб., я исправлю фильм за один день“. Не дали. „Дайте сто“. Не дали. „Пятьдесят“. Не дали. „Хорошо. Я сделаю это даром“.
„Соль Сванетии“ была слишком насыщена. Как соляной раствор. Зритель задыхался. Мы сели и вклеили в неё куски какого-то спокойного фильма о Чечено-Ингушетии. Фильм получился другой. Его разрешили. Калатозов стал режиссёром.
Достоевский верил в неизбежность невозможного. Катастроф и революций. Многие верили – всё будет»{285}.
Увидев фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», Шкловский остался недоволен и заявил, что картина очень плохая, жестокая и невежественная: «Сам Тарковский не лишён способностей, но он очень безвкусен и смело-безграмотен».
В этом была какая-то ревность, но потом он говорил, что Тарковский – наша гордость в кино, и, «получив „Золотого Льва святого Марка“ в Венеции, должен поступить, как юноша Самсон по пути к филистимлянке: тот схватил льва за челюсти и разорвал льва. Это ведь что молодость – возможность стать таким, каким ещё никто не был».
Однажды председатель Госкино Александр Романов вдруг привёл в разговоре довольно длинную цитату из Шкловского. Сам Виктор Борисович был в изумлении. «Это так же удивительно, как если бы ваш кот Федя, которого я люблю гладить по животу, вдруг бы сказал: „А мне не нравится ваша последняя книга…“», – говорил он Лифшицам.
Кинематограф менялся, менялся сам метод работы с изображением.
Многим людям, которые упрекали его в каких-то отступлениях от стиля, Шкловский отвечал: «Да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что боюсь. Я старый человек. У меня было три инфаркта. Мне нечего бояться. Однако я действительно не говорю всей правды. Потому что это бессмысленно… Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки…»
Но в кино ему встретился человек, который знал толк в цвете и структуре изображения. Потом жизнь его заставила жевать шнурки – и от этого вкуса он не смог отвязаться. Но человек этот был чем-то похож на самого Шкловского.
Катанян писал:
«Все, кто знал Сергея Параджанова, помнят, как он сразу, легко и весело сходился с людьми. Правда, иной раз он уже через день забывал о новом знакомстве, в другом же случае это была дружба до гробовой доски. Так было с Лилей Юрьевной Брик и моим отцом Василием Абгаровичем. Они посмотрели в „Повторном“ „Тени забытых предков“, естественно, поразились и захотели познакомиться с режиссёром. Я им часто рассказывал о Серёже, его причудах и вкусах, а тут ещё Шкловский начал с ним работать и был восхищён, о чём не раз говорил Лиле Юрьевне по телефону (они были очень старые, и видеться им было трудно). <…> В семидесятых началось их сотрудничество с Виктором Шкловским… Параджанов предложил писать сценарий „Демона“. Решили, что каждый напишет свой, а потом их соединят, взяв лучшее из того и другого.
„С. Параджанов. ‘Демон’. Сценарий написан для экспериментальной студии. Москва. 1971 год“. Перелистываю полуслепой машинописный текст. „Демон“ волновал Параджанова и личностью Лермонтова, которого он собирался играть ещё в юности, и природой Кавказа, где он родился и вырос, и тем пространством поэмы, которое вдохновляло его фантазию.
Но Виктор Шкловский пишет ему в письме: „Дорогой Сергей, мы не можем снять немую ленту. Люди должны говорить, и это главное препятствие“. А ведь Сергей снял „Саят-Нову“ – немую ленту, ленту без слов! Я уверен, что снял бы и эту, вопреки „не можем“ Шкловского.
Шкловский предложил: „Зимний дворец. Лермонтов перед императрицей, женой Николая Первого, читает ‘Демона’. Она зевает, закрывает рот веером. Ей нравится Лермонтов, но ей не нравится ‘Демон’“. И „Демон“ не проходит. Потом его осуществляет Параджанов»{286}.
Параджанов вообще мало чего боялся, но не оттого, что он был аккуратен в жизни, а скорее из-за того, что был вне морали, как идеальный художник. Судя по всему, он часто делал людям больно (или вовсе делал довольно странные вещи) – но не как обычный человек, а как ребёнок, пока ещё не введённый в мир морали и правил.
Шкловский пишет Параджанову в 1974 году:
«Дорогой Сергей, твоё письмо мы сегодня, 25 сентября, получили.
Ищем книги, чтобы послать тебе. У меня они больше с авторскими автографами. Найду читабельные книги. Мои дела такие. На этих днях получу третий том своего собрания сочинений. Из-за бумаги дам мало. Всего выйдет сто двадцать авторских листов. Нового много, но я рад, что есть статья о Достоевском. Новая. Новая и для меня. Уже кончил новую книжку о Льве Толстом. Часть её пойдёт в журнал „Наука и жизнь“. Сейчас же пришлю.
Книжка забавная – это биография, данная в интерьерах. Мысль о такой книге дали дневники Толстого. Он хотел дать новую версию „Детства“ и „Отрочества“ и решил писать её по комнатам. Человека можно разгадать по его вещам. Это не так прямо, но точнее, чем знание человека по его словам. Мы сами себя не знаем.
В кино не работаю. И для меня судьба нашего сценария „Андерсен“ – тяжёлая неудача. Но надо привыкать и к удачам, и к неудачам. Болел. Болезнь пришла внезапно. Я начал падать. Вернее, я упал в комнате. Теперь это прошло. Хожу и по лесу: нам дали дачу в Переделкино. Дача трудная. Большая, но у меня второй этаж. Живём мы там сами, я и Ольга Густавовна[137]137
Ольга Густавовна Суок-Олеша — вдова Юрия Карловича Олеши и сестра жены Шкловского – Серафимы Густавовны.
[Закрыть], у которой есть отдельная комната.Лес золотой. Небо чисто чистое. Работаю. Устал конечно. 25 января, если доживу, мне будет 82 года. Восемьдесят два. Это даже мешает работать. Но не будем работать только воспоминаниями. Хочу написать простую большую книгу по теории прозы.
Дорогой Сергей, ты на тридцать лет моложе меня. Ты большой художник, нужный нам всем. Надо смотреть вперёд. Искусство помогает и старшим, как я, а не ты, работать.
Будем беречь себя для других.
Ну, о домашних делах.
Серафима Густавовна болела. Была операция. Прошла удачно.
Вырезали желчный пузырь. Обострилась глаукома у вдовы Олеши. Обошлось. Сентябрь у нас был удачный, тёплый.
Не будем хвалить себя. Старость, большая старость – всё же это задача на вычитание, а не на умножение.
Что будем делать зимой, мы ещё не знаем. Знаю одно – будем работать. Я очень верю в тебя. Всегда верил и верю сейчас. Судьба всех людей частью жестока и ставит сверхтяжёлые препятствия. Но будем уверены в себе и нашем времени; так, как уверены в себе герои мифов и сказок. Андерсен будет осуществлён. Жду нашей общей удачи».
Спустя два года Шкловский пишет Параджанову:








