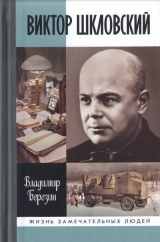
Текст книги "Виктор Шкловский"
Автор книги: Владимир Березин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
И, если не знать подробностей жизни самого Каверина, можно поверить в великую зависть к своему учителю, в котором он разочаровался, зависть, которую Каверин пронёс через все испытания и изменения.
Их разносило в разные стороны время.
Кстати, писатели XX века были людьми, по большей части городскими. Горожане меряют время изменениями городского пейзажа. Деталь пейзажа была символом жизни, и она всё время ускользает.
В «ZOO» Шкловский пишет:
«Только простреленным на углу Гребецкой и Пушкарской остался трамвайный столб.
Если вы не верите, что революция была, то пойдите и вложите руку в рану. Она широка, столб пробит трёхдюймовым снарядом».
И ещё он спрашивает:
«Починен ли провал мостовой на Морской, против Дома искусства?
Лучше мёртвым лечь в эту яму, чтобы исправить дорогу для русских грузовых автомобилей, чем жить бесполезно».
В мае 1935 года Шкловский пишет Тынянову: «Ещё кланяется тебе громкоговоритель с Кропоткинских ворот, который три дня пел такие оперы, что я чуть не влюбился».
Но судьба безжалостна. Именно этот провал поминает Лидия Гинзбург в письме Бухштабу, когда пишет о том, что «раньше Шкловский спрашивал о друзьях и провале в мостовой, а теперь живёт и без Дома искусств, без старых друзей и без истории искусства, продав всё это за сорок червонцев»{265}.
Чудакову Шкловский потом рассказывал: «Якобсон разобрал „Я вас любил“. Говорит: ни одного тропа. Но всё стихотворение – целиком троп, развёрнутая литота. Автор сдерживается, он преуменьшает горе. Это единственное стихотворение, где Пушкин говорит „Вы“. Везде он с любовью на „ты“. Якобсон этого не знает.
Вскоре Шкловский написал об этом разборе Р. Якобсона резко критическую статью в „Иностранную литературу“ (1969. № 6), что их навсегда поссорило. Поморска[124]124
Кристина Поморска (1928–1986) – литературовед, третья жена (с 1962 года) Романа Якобсона.
[Закрыть] рассказывала, что после этого Шкловский послал какую-то свою работу Якобсону, но тот её вернул. Ссору Шкловский переживал тяжело, говорил о ней со слезами на глазах.
– Якобсон много писал об Опоязе. Часто на меня ссылался. Ссылался – не переиздал. Переиздали другие. Всё думаю: кто виноват? Он в одном виноват: очень давно за границей.
О Якобсоне в эти годы вообще говорил часто. Из послеопоязовских его вещей больше всего ценил „О поколении, растратившем своих поэтов“.
Как-то, прочитав мою заметку в К<раткой> Л<итературной> Э<нциклопедии> о Д. Н. Овсянико-Куликовском, В<иктор> Б<орисович> прислал письмо. Среди прочего, просил привезти „Теорию поэзии и прозы“ (видимо, готовил ту статью в „Иностранную литературу“ – книга там цитируется; потом, перечитав, сказал: „Книга так себе“).
– А Овсянико-Куликовский был не совсем неумён.
Знакомство моё с ним было короткое. Я был ещё мальчик.
Двадцати лет. Нет, двадцати двух. Принёс в „Вестник Европы“ „Искусство как приём“. Профессор прочитал быстро – в три дня. Сообщил мне открыткой, что статью напечатать не может, но в редакции хотели бы поговорить со мной. Я написал – тоже открытку, – что раз они не берут статью, то меня не интересуют. Знакомство на этом кончилось.
Долго говорил о канонизации младшей линии, но у меня записано только, что „долго“, тема показалась знакомой. Впервые услышал от него о тетиве»{266}.
Тетива отношений Виктора Борисовича с Романом Осиповичем натягивалась несколько раз прежде перед тем, как совсем разорваться.
Ранило её со свистом разошедшимися концами, по всей видимости, обоих.
Многие причины этого разрыва – в самом Шкловском. И не только в цепочке его отречений и покаяний, что можно объяснить опасным временем. «У меня к тридцати годам были большие хвосты. Я четыре раза переходил границу. Многие мои товарищи уже сидели. Что меня не арестовали – чистая случайность. Так вышло (с гордостью), что я ни одного дня не сидел», – записывал Чудаков. Шкловский часто сыпал в тексте словом «ошибка», потому что не мог говорить ни о чём наполовину, но потом он ревизовал совместное прошлое и употреблял «красные слова». И ради этих «красных слов», красного словца не пожалел чужого самолюбия и чужих убеждений. Кристина Поморска передавала мнение мужа, которое тоже записал Чудаков: «Шкловский был очень храбр физически, на войне. Но бывает часто, что такие люди в мирное тяжёлое нудное время даже легче других идут на компромиссы».
И красное словцо было тоже компромиссом – потому что в нём всегда есть доля неправды. Доля додуманного.
В 1920-е и в 1930-е годы как жестоких, так и красивых слов было много. Там же, в воспоминаниях Чудакова, Шкловский признаётся: «Я видел двух плачущих – Горького и Маяковского. Горького – когда я сказал ему после „Самгина“, что он пишет плохо. Он дал Самгину свою сложную биографию и пытался всех уверить, что Самгин мерзавец. Горький сказал: „Но я же пишу уже 45 лет“. – „Это не всегда помогает“…
А Маяковский плакал, когда я говорил ему про „Хорошо“: золото можно красить в любой цвет, кроме золотого. Про хорошо нельзя говорить, что оно хорошо».
Но в 1960-е и в 1970-е круг близких и единомышленников поредел.
Слова дорого стоили.
Глава тридцать третья
ЭНЕРГИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
По наитию дуй без берега,
Ищешь Индию, найдёшь Америку.
Андрей Вознесенский
Нам, теоретикам, нужно знать законы случайного в искусстве. Случайное – это и есть внеэстетический ряд{267}.
Виктор Шкловский
Про эту энергию Лев Толстой писал критику Страхову в 1878 году «…Всё как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостаёт толчка веры в себя, в важность дела, недостаёт энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь напрягаться, то будешь не естественен, не правдив, а этого нам с вами нельзя».
Вся энергия заблуждения основывается на интуиции.
Борис Эйхенбаум в своей работе «Творческие стимулы Л. Толстого» высказался по поводу этого выражения: «Энергия заблуждения – замечательный термин, с предельной ясностью раскрывающий формулу „весь мир погибнет, если я остановлюсь“ и проливающий яркий свет на всё творчество Толстого и на вопрос о его стимулах. <…>
В записной книжке Толстого есть рассуждение о философских системах и истинах: „Толпа хочет поймать всю истину, и так как не может понять её, то охотно верит. Гете говорит: истина противна, заблуждение привлекательно, потому что истина представляет нас самим себе ограниченными, а заблуждение – всемогущими. – Кроме того, истина противна потому, что она отрывочна, непонятна, а заблуждение связано и последовательно“. На фоне этой записи термин „энергия заблуждения“ звучит полнее и определённее. Для творчества ему нужна не энергия разума, не энергия истины („истина представляет нас самим себе ограниченными“), а энергия заблуждения. Процесс его творчества строится не на пафосе истины, а на пафосе обладания миром – на „земной стихийной энергии“, которая представляет собой почти инстинкт»{268}.
Современный петербургский востоковед, шумеролог Владимир Емельянов высказал очень интересное наблюдение о методах работы Проппа и Шкловского:
«Я очень люблю рассуждения Шкловского о Гильгамеше. Они всегда неточные фактически, но удивительно оригинальны и свежи. Однако всегда был соблазн узнать, почему же они такие неточные. Шкловский не знал никаких языков, кроме русского, а запомнить сюжет со слов Шилейко[125]125
Владимир (Вольдемар) Казимирович Шилейко (1891–1930) – русский востоковед, поэт акмеистского толка; автор первых переводов шумерских и аккадских текстов. Им сделаны фундаментальные предположения в шумерологии, позднее подтверждённые археологией.
[Закрыть] не смог бы: память у него была не бог весть какая. Значит, он должен пользоваться чужими неточными пересказами и эти пересказы смешивать между собою. Тогда получится именно то, что получалось у него. Вот один пример из книги „О теории прозы“: „В бесконечно давней книге Гильгамеш’ у героя умирает друг. Говорят, что он может победить смерть, если он не будет замечать времени; ему подают хлеб, но он обещался не есть. Когда он приходит в себя, то видит, что рядом с ним лежат почерствевшие, позеленевшие хлебы. И мы понимаем, что время не может быть остановлено. Время не исчезает в искусстве, но оно неуправляемо. Оно вечно в своём сознании“.Ассириолог видит, что здесь смешаны две истории. Во-первых, это история Гильгамеша в XI таблице аккадского эпоса, когда Утнапиштим устраивает ему испытание: хочешь стать бессмертным – попробуй не спать семь дней и ночей (срок, который длился потоп). Во-вторых, это история Адапы, который отказывался есть хлеб и пить воду богов и в результате лишился бессмертия. В-третьих, это вновь история Гильгамеша, которому показывают позеленевшие хлебы, что свидетельствует о недельном его сне.
Спрашивается: откуда взялась эта пёстрая смесь? Ответ прост. Она взялась из книги Проппа „Морфология волшебной сказки“ (1946)».
Далее Емельянов подробно разбирает ошибки Проппа и Шкловского, их вольные трактовки целой цепочки авторов и резюмирует:
«Вот так работали наши классики. Ошибка на ошибке, источники из вторых рук (а у Шкловского – из третьих), даже пересказ неверен, что уж там говорить о содержании, которого оба не знали. Проппу сюжет с хлебами понадобился для обоснования функций Бабы-яги, Шкловскому – для рассуждений о природе искусства. И это при том, что немцы, которых цитирует Пропп, хорошо знали сюжет аккадского Гильгамеша, поскольку читали его в подлиннике. Но мешанина Гильгамеша с Адапой произошла именно по их немецкой ассириологической оплошности.
Какие выводы можно сделать из этого сюжета? Неточный пересказ и даже смешение сюжетов не помешали построить новую науку о литературе. Навязывание древним сюжетам своих идей тем более не помешало сформулировать новую парадигму гуманитарного знания. Энергия заблуждения вкупе с интуицией общего – великая вещь!
Именно этого не хватает нам сегодня. Знаем много – заблуждаться не умеем, противоречить боимся. Между тем, гуманитарная наука должна время от времени пересматривать свои основания и цели. Детальность познания не означает его глубины, а глубина ничто без осознания мотивов познания».
Есть история про одну рецензию.
Эту историю рассказывал Марк Соболь всё в тех же воспоминаниях:
«На этот раз будет уже не Осетия, а Остоженка, какой-то из Обыденских переулков, коммунальная квартира, снимаемая Шкловским комната с дощатым обшарпанным полом… Виктор Борисович готовит к печати свою, впоследствии знаменитую, а тогда ещё скрипящую по инстанциям книгу „Художественная проза. Размышления и разборы“.
Нынче он откровенно обрадован: пришла рецензия академика Виноградова. Но главное не в том, что академик похвалил рукопись.
– Как он всё про меня понял! – ликует Шкловский. – До чего точно меня знает! Ещё бы: мой соратник по ОПОЯЗу. Но ведь сколько времени прошло!
И тут же красным карандашом подчёркивает восхитившие его строчки. Академик пишет о нём: „Не всегда любит затруднять себя излишними доказательствами…“»{269}.
В воспоминаниях Евгения Евтушенко о Шкловском говорится:
«Но он был рождён не только поэтом, или прозаиком, или критиком, а всеми ими вместе. И был Божьей милостью импровизатором. Его смолоду отполировано блистающая лысая голова, со всегдашним любопытством вертящаяся на короткой, налитой силой шее борца, была похожа на набалдашник из слоновой кости. Его взметающаяся над головой рука факира, ища мысли в воздухе, ныряла в кажущуюся пустоту, а когда опускалась, в ней уже трепыхался выхваченный неизвестно откуда бьющий крыльями образ. Так, на семинаре молодых писателей, где был и я, он долго ловил мысль-невидимку, даже несколько пугая страдальчески искажённым родовыми судорогами лицом, а когда всё-таки конвульсивно ухватил искомое, то гордо и яростно швырнул нам, как будто действительно родил его:
– Вот вы, молодые люди, спрашиваете меня о правилах создания шедевров. Шедевры потому и шедевры, что у них нет правил. Томас Карлейль говорил так: „Большой художник, как Самсон, уносит на своих плечах ворота, которыми его хотят запереть“.
Я был юноша впечатлительный и запомнил это навсегда.
Шкловский жил по принципу взваливания запертых ворот на плечи.
<…> Лет через тридцать, незадолго до смерти Шкловского, я фотографировал его в Переделкине. Он никогда не отличался ростом, а тут ещё осел: тяжёлая дублёнка на плечах и высокая боярская шапка вдавливали его в землю. Но глаза по-прежнему искрили чем-то неисправимо опоязовским, формалистским, футуристическим. Мы разговорились. Я спросил у него с непозволительной бестактностью:
– Неужели вы прочли все девяносто томов Толстого, когда писали его биографию?
Шкловский лукаво улыбнулся:
– За сорок томов ручаюсь…
Я не отставал:
– А в какой книге вы нашли у Томаса Карлейля эту цитату: „Большой художник, как Самсон…“?
– А что там дальше? – неожиданно заинтересовался он.
Я продолжил.
– Ну что же, может, это Карлейль, а может, кто-то другой, а может, я сам, – невозмутимо сказал он.
Такие мелочи его не смущали. Для Шкловского импровизация по поводу фактов была важней, чем сами факты»{270}.
Бытует история про некоего русского писателя (имя варьируется) и Дантеса. Например, Григорий Горин в «Газете. ru» рассказывает её, ссылаясь на Шкловского, и начинает так: «Эту историю я слышал в Ялте примерно в 1970-м на семинаре молодых писателей, одним из руководителей которого был наш прославленный писатель и знаток литературы В. Б. Шкловский». Шкловский поведал слушателям о путешествии Горького в Европу. В Париже его представили какому-то господину, оказавшемуся Дантесом. Горький нагрубил, руку пожимать отказался. Дантес тоже кричал, что защищал свою честь. Их разняли. Дошло до дуэли – Горький получил короткий вызов. Хотя будущий пролетарский писатель почитал дуэли барской забавой, драться согласился, но тут же получил второе письмо от Дантеса. Тот писал, что драться по-прежнему готов, однако, прочитав сочинения господина Горького, и особенно его стихи, не может поднять руку ещё на одного русского поэта. Мол, примите и проч., остаюсь искренне ваш, Дантес. Горький благополучно уехал. Правда, бросил после этого писать стихи.
В этой истории всё хорошо, но только одно скверно – Дантес умер в 1895 году. Горький в те времена приехал в Самару и тихо сочинял там про старуху Изергиль. Был он тогда ещё не Горьким, а Иегудиилом Хламидой, как подписывал свои фельетоны и обзоры в приволжских газетах. Но история о Дантесе (в разных редакциях) и по сей день появляется в прессе[126]126
Ср., кстати, известную историю из «Записных книжек» С. Довлатова: «Умер Алексей Толстой. Коллеги собрались на похороны Моя тётка спросила писателя Чумандрина:
– Миша, вы идёте на похороны Толстого?
Чумандрин ответил:
– Я так прикинул. Допустим, умер не Толстой, а я, Чумандрин. Явился бы Толстой на мои похороны? Вряд ли. Вот и я не пойду».
Достойный ответ, но только этот Толстой умер в 1945 году, а писатель Чумандрин погиб за пять лет до этого на финской войне.
[Закрыть].
Говорили, что все отделы проверки в советских журналах и издательствах сходили с ума, проверяя источники Шкловского. Неизвестно, откуда взята мысль, что Достоевский в страшную минуту на Семёновском плацу думал о Дон Кихоте, неизвестно, откуда всё – а оно из могучего художественного воображения.
Это была вечная любовь к генерированию новых сюжетов, которые можно брать отовсюду.
По большей части из сюжетов старых.
Про это есть такая история, рассказанная Лазарем Лазаревым:
«Нет пророка в своём отечестве, а тем более в собственном семействе. Елизар Мальцев – сосед Виктора Шкловского по даче в Переделкино – спросил у Василисы, правнучки известного писателя (ей было тогда четыре года):
– Тебе дед Виктор Борисович читает сказки?
– Читает, – подтвердила Василиса.
Тогда Мальцев задал ей ещё один вопрос, явно рассчитывая на положительный ответ, которым он при случае сможет порадовать соседа:
– А тебе нравится, как он читает?
Василиса была девочкой прямой и правдивой.
– Нет, – не задумываясь, заявила она, – он всё врёт.
Как многие дети, маленькая Василиса любила, чтобы ей снова и снова читали те книги, которые она уже знала наизусть. А её знаменитому прадеду скучно было читать чужой текст, он начинал импровизировать, сочинять свой вариант, что девочке очень не нравилось»{271}.
Шестнадцатого мая 1976 года (дата эта точна, потому что записана не Шкловским) Владимир Лифшиц, сосед Шкловского по лестничной площадке, пришёл к нему в гости.
Никакой тайны в этом нет – дата как дата, просто Лифшиц датировал свои записи, а в пересказах даты иногда теряются. И я тоже потерял много этих дат, пересказывая то, кто и как записывал за Шкловским.
Так вот, Лифшиц со Шкловским говорили о старухах.
Сначала Шкловский рассказал, что «в Ленинграде долгое время работала в Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина сотрудница, старушка по фамилии Люксембург. Полагали, что она еврейка. Однажды в отделе кадров поинтересовались – есть ли у неё родственники за границей. Оказалось, что есть. Кто? Она сказала: английская королева, королева Голландии… Дело в том, что я герцогиня Люксембургская… Поинтересовались, как она попала в библиотеку. Выяснилось, что имеется записка Ленина, рекомендовавшего её на эту работу»…
Совершенно не важно, как там было на самом деле.
Ведь это история о карнавале и превращениях – идеальный кирпич фольклора.
Там есть лицо высокого рода в низких бытовых обстоятельствах.
Детский писатель Кассиль даже написал некогда очень популярную повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!» – про принца некоего государства, похожего на Таиланд, попавшего в советский пионерский лагерь. Кажется, это был «Артек».
Роман был инсценирован, потом был снят фильм – одним словом, в СССР был период, когда к титулу относились с иронией, но уже без ненависти.
Оказалось, что титул – вещь всё-таки ценная.
Именно титул старухи двигает сюжет. Фольклор не так кровожаден, как жизнь, он даёт старушке охранную грамоту в виде письма Ленина.
Ленин написал довольно много таких охранных грамот, сам того не зная. На музее-усадьбе художника Поленова даже стояла стела с цитатой из ленинского письма или какого-то распоряжения, им подписанного. Охранная грамота наследственного директорства Поленовых предъявлялась путнику прямо на входе, объясняя легитимность. Понятно, что в настоящей, нефольклорной жизни старушке было бы несдобровать – не в 1919-м, так в 1921-м, не в 1921-м, так в 1934-м, не в 1934-м, так в 1937-м, ну а в 1941-м и вовсе смерть косила не по сословному признаку. Поэтому это история про старушку, а не про старика, – выживший среди чисток герцог Люксембургский неуместен даже для фольклора.
Это правильный сюжет про сокровище-титул, находящийся в неподобающем месте.
«Вторая история: нищая старушка в Ленинграде, – продолжает Шкловский. – Нуждалась, одалживала по рублю. Тоже библиотечный работник. После её смерти обнаружили среди тряпья завёрнутый в тряпицу бриллиант таких размеров, что ему не было цены. Выяснилось, что старушка – сестра королевы Сиама, русской женщины. Та в своё время прислала сестре „на чёрный день“ этот бесценный бриллиант. Настолько бесценный, что нищая старуха не решалась его кому-либо показать».
Историй про драгоценности нищих – сотни.
Сюжет у них один – нищета, смерть, драгоценности в тряпье, матрасе, прикроватной тумбочке.
Наконец, была рассказана третья история: «Ещё про старушек из библиотечных и музейных работников… Б. М. Эйхенбаум, когда его отовсюду выгнали, занялся работой над биографией и сочинениями Вигеля[127]127
Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) – чиновник, родом из обрусевшей шведской семьи; бессарабский вице-губернатор (1824–1826), затем директор Департамента иностранных вероисповеданий (1829–1840), тайный советник; участник общества «Арзамас», автор примечательных мемуаров.
[Закрыть]. Ему нужен был портрет Вигеля анфас, а все известные портреты были в профиль. Б. М. два года занимался поисками, в частности в Доме Пушкина на Мойке. Не находил. Однажды разговорился с одной старушкой из библиотеки (филиал Публички на Мойке) и узнал, что та может предоставить в его распоряжение все портреты Вигеля, которые только дошли до нашего времени, в том числе и нужный ему портрет анфас… У старушки была картотека, и всё сохранилось. А он два года бегал мимо неё. Очень интересные и образованные старушки были в ленинградских библиотеках».
В третьей истории я не сомневаюсь – это как раз слишком правдиво (и, одновременно, лишено литературности). Тут сюжет смещён в сторону того, что искомое всегда под рукой. Это другой сюжет, сюжет про очки тёти Вали, а не сюжет про бриллиант в грязи.
Другие две истории – литература, которую Шкловский мог легко сделать из фольклора.
Один историк заявил возмущённо:
– Что за бред!.. К Люксембургу относилось лишь семейство фон Меренберг, благополучно уехавшее в 1917 году в Швейцарию. Ну и у Десницкой[128]128
Екатерина Ивановна Десницкая (1888–1960) – жена сиамского принца Тьакрапонга. После его смерти уехала в Шанхай, а затем, после второго брака, – в Париж, где и скончалась. Брат Иван был сотрудником российского МИДа.
[Закрыть] был только брат.
Этот вывод можно сделать, не прибегая к тяжёлой артиллерии знаний. Его лучше сделать без знаний, а именно по органолептике рассказа. Отчего, к примеру, мы понимаем, что у унылого человека, вошедшего в наш вагон электрички, не сгорел дом, и что если у него что и украли, то не документы.
У Шкловского есть рассказ в коротких сценках, который называется «Подписи к картинкам».
Этот рассказ входит в книгу «Гамбургский счёт».
В нём история про то, как к автору приходит опустившийся человек и приносит старые картинки из журналов. Человек этот конченый, но вокруг его подарка Шкловский выстраивает историю принца Чакрабона[129]129
Чакрабон Пуванат, принц Питсанулок (1883–1920) – сиамский (таиландский) принц, фельдмаршал, умерший в 37-летнем возрасте.
[Закрыть].
Чакрабон был вторым сыном короля Таиланда Рамы V Чулалонгкорна и ребёнком был послан в Санкт-Петербург для обучения в Пажеском корпусе. (У Шкловского его отдают в Николаевский корпус: «Николаевский корпус не аристократический. В нём учились дети купцов и величественен в нём был только тяжёлолапый швейцар в передней с жёлтыми диванами».) Принц выучил русский язык и женился на киевлянке Екатерине Десницкой. В 1908 году у них родился сын.
Вернувшись домой, он стал начальником Генерального штаба и основал сиамские королевские ВВС.
Но дальше начинается легенда, потому что реальная Екатерина разошлась с принцем и переехала в Шанхай, а затем в Америку, выйдя замуж за американца Гарри Стоуна.
Легенда любит романтику немого кино.
И у Шкловского русская женщина Наташа (то есть Екатерина) безмолвно раскрывает рот, крича своему мужу (тут должна быть белая надпись на экране немого кино): «Я отравлена! Они накормили меня толчёной электрической лампой. Мага, ты император, вероятно, ты имеешь право подписывать рецепты. Наш император даже имеет право причащать себя сам. Дай мне скорый яд! Зачем мы не остались в Киеве?»
Ну и за ней следует другая сцена: «Когда её хоронили, то император шёл впереди войска»{272}. Войско идёт в русских гимнастёрках, а сзади, как танки, грохочут слоны.
Так умирает придуманная принцесса.
Однако легенда продолжила жить дальше.
Лев Кассиль написал повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!» в 1964 году, а экранизирована она была в 1978 году. Правда, у Кассиля страна из Сиама-Таиланда превратилась в нейтральную Джунгахору: «Понимаешь, у них американский капитал и бельгийский хозяйничают. Народ их всех – я имею в виду империалистов-колонизаторов – называет мерихьянго. И с ними заодно был прежний король Шардайях Сурамбон. Ну, это был совершенно бессердечный, свирепый тиран, страхолюдина. Он и жену свою заморил, сослал… Так что принц этот – его, между прочим, запомни, зовут Дэлихьяр Сурамбук – рос без матери. Бабушка его воспитывала – учти – русская. Когда-то наследный принц Джунгахоры учился у нас в Петербурге в царском лицее, влюбился там в одну гимназисточку, и стала она невестой джунгахорского короля, а потом и законной королевой. Замечательная была, как передают, женщина. Тосковала очень всю жизнь по России и внука научила говорить немного по-русски. Так что этот Дэлихьяр вполне прилично болтает по-нашему и даже русскую песню мне пел, которой бабушка его научила: „Гайдатройка, снег пушистый…“ Представляешь? А снега-то он, конечно, и в глаза не видел. Собственно, его и вырастила-то бабушка. Бабашура, как её принц величал, – Александрой покойницу звали…»
Оказывается, что мать маленького принца образца уже 1964 года отравили американские империалисты. Вряд ли, конечно, битыми лампочками.
Видно, что две невероятные истории интересны, потому что таят в себе литературный сюжет, а правда – обычна, хоть и назидательна.
Ценность других вариантов легенды, помимо прочего, в том, что мы можем следить за прерывистой – как ход коня – мыслью сочинителя.
Впрочем, есть и иной пример. Шкловский рассказывает Ирине и Владимиру Лифшицам, и эта запись его Эккерманами помечена как «18.2.76»:
«Во время последней войны одно партизанское соединение остановилось в селе, где была неразрушенная церковь. Командир пришёл к священнику и сказал: „Батюшка, у нас много раненых, позвольте расположить госпиталь в церкви, это наиболее подходящее помещение“. – „Что ж, – сказал священник. – Дело Божье. Не возражаю. Только одна просьба: не занимайте алтарь“. – „Но как раз в алтаре мы думали устроить операционную, там больше всего света…“ – „Ну что ж, – вздохнул священник, – будь по-вашему. Но только одна просьба: пусть в алтарь не заходят женщины“. – „И это не получится. Из четырёх хирургов у нас три женщины“. – „Ладно, – сказал священник, – делайте, как находите нужным, а с Богом я как-нибудь сам договорюсь…“».
На самом деле, это история из пьесы Константина Симонова «Так и будет!», которая была написана и пошла на сценах театров в 1944 году.
У Симонова женщина-военврач говорит: «В прошлом году мой госпиталь попал в деревню, всю сожжённую, осталась только одна церковь. А мне надо было оперировать раненых. Я попросила священника, чтобы он разрешил занять церковь под операционную. Он сказал: „Конечно, это не положено, но дело божеское, хорошее, – занимайте. Только прошу об одном – не в алтаре!“ Тогда я ему сказала: „Как раз алтарь светлее и как раз там мы и хотим оперировать“. Он снова подумал и сказал: „Это уже совсем не положено, совсем, но дело хорошее, божеское, – хорошо, делайте операционную в алтаре. Только об одном вас прошу, чтобы женщины туда не заходили“. Тогда я ему сказала, что вся беда в том, что я хирург и должна оперировать. Он думал, думал, потом сказал: „Это уж вовсе нельзя, грех… Но ничего, дело хорошее, божеское. Оперируйте вы и в алтаре, а грех уж я возьму на свою душу“»{273}.
На этом примере героиня пьесы, майор медицинской службы, объясняет своей собеседнице, молодой девушке, что можно пойти наперекор традиции и первой заговорить о своей любви с мужчиной.
Так Шкловский берёт историю у Симонова, который, помним, едва не раздавил его в 1949 году, и мимоходом её обрабатывает.
Евгений Рейн говорил, что с юности был влюблён в Шкловского и мечтал встретиться с ним: «Впервые я увидел его в 1963 году на лекции на Высших сценарных курсах. Впечатление было большое. Правда, в самом финале он заговорил о каторге Достоевского, о „Записках из Мёртвого дома“ и ужасно распалился. Он вспомнил орла, которого каторжники выпускали на свободу. Он протянул руку вперёд и закричал: „Вот орёл пробежал по степи к свободе!“ Искусственная челюсть вылетела у него изо рта, но не упала, он поймал её в воздухе протянутой рукой»{274}.
В 1970-е годы Евгений Рейн решил написать сценарий к фильму о Шкловском. Снимать фильм должен был Алексей Габрилович. Поэтому Рейн стал ходить к Шкловскому домой.
Хозяин дома спросил сценариста для начала, сколько у того напечатано книг, тут же заявив, что сам опубликовал больше пятисот печатных листов. И предложил Рейну 25 процентов будущего гонорара, причём сценарий целиком должен был писать Рейн, а Шкловский лишь что-то рассказывать… Тот согласился и на это.
Вдруг хозяин сказал: «Даже собак нельзя кормить битым стеклом. Я прочту ваш сценарий».
И они начали работать вместе.
В один из визитов Рейн застал журналиста, который пришёл брать интервью у Шкловского. И тут оказалось, что Шкловский путает имена и лица. Ему казалось, что Ахматова умерла в Фонтанном доме, а народовольца Морозова он перепутал с однофамильцем-пушкинистом, приписав сидельцу-революционеру открытие десятой главы пушкинского романа в стихах.
«– Однажды он <Шкловский> спросил меня, – вспоминает Рейн. – Что вы делаете сегодня вечером?
– Я свободен, Виктор Борисович.
– Приглашаю вас в Дом кино на премьеру. Серафима пойти не может.
Серафима сказала, что в таких мятых брюках я появляться в Доме кино не должен:
– Снимайте брюки.
Я снял.
Остался в трусах, сел стыдливо в кресло.
Она очень ловко выгладила брюки…
Мы поехали в Дом кино. Это была премьера „Братьев Карамазовых“. Пырьева уже не было в живых. Фильм заканчивали Лавров и Ульянов. Это была самая роскошная кинопремьера, которую я когда-либо видел, – сотни фотографов, журналистов, телевизионщиков. Эверест цветов, дипломаты, светская толпа.
Нас посадили в тот особый ряд, что резервируется для съёмочной группы. Шкловский не давал мне смотреть фильм, а всё время говорил о Достоевском – громко, отчётливо, гладкими фразами. Вдруг я вспомнил, что всё это уже слышал, и вспомнил – где.
Он цитировал себя, свою книгу о Достоевском „Pro и Contra“.
После фильма я пошёл провожать Виктора Борисовича. Стояла тёплая зима, но он был в тяжёлой шубе, в бобровой шапке боярского типа. Он устал, ему было не по себе. Толпа расхватывала такси у Дома кино. Мы побрели к Белорусскому вокзалу. Там стояли машины, но шофёры ждали „выгодных“ клиентов. Ехать к „аэропортовским“ домам не хотел никто. Шкловский еле стоял на ногах. Надо было что-то предпринять. Я распахнул дверцу ближайшей машины и плюхнулся на сиденье.
– Гагарина знаешь? – спросил я очень недовольного на вид водителя.
– Гагарина знаю, – ответил тот. – А ты кто, Титов, что ли?
– Видишь этого человека в шапке – вон, на тротуаре стоит?
– Ну и что?
– Это тайный главный конструктор, это он запустил Гагарина и Титова. Старик шесть раз Герой труда, его надо домой отвезти к метро „Аэропорт“. Всё будет учтено, ты не беспокойся.
Водитель вышел из машины и пошёл за Шкловским. Я не успел предупредить Шкловского. Сейчас водитель его о чём-нибудь спросит, я буду разоблачён и мы никуда не поедем. Но я недооценил Виктора Борисовича. Он уселся на переднее сиденье. Мы поехали.
– Ну что, – спросил водитель, – как там Юрик и Герман? Полетают ещё?
Шкловский в ту же секунду ответил:
– Любое событие есть диалектический прыжок на фоне общей спирали истории.
Водитель был абсолютно удовлетворён. Я через сиденье протянул ему сигарету „Уинстон“. Он уважительно заметил:
– Понятно, значит, надо ждать на днях.
Тут мы, слава Богу, приехали»{275}.
Это иллюстрация к многократно повторённой Шкловским фразе: «Никто нас не может сделать смешными, потому что мы знаем свою цену».
Как-то Шкловского упрекнули, что он неправильно вёл себя на каком-то собрании.
Но это было не просто собрание, а юбилейный вечер, посвящённый ему самому.
А упрекали его за то, что он якобы унижался перед писательскими начальниками и намекали, что всё это ради собрания сочинений в трёх томах, обещанного юбиляру.
Сейчас цена книг иная и роль их в жизни тоже иная, но всё же хорошо бы понять, что там приключилось.
Чудаков вспоминает:
«Расскажу историю не то чтоб ссоры, но визита, ставшего одним из тяжелейших вечеров в моей жизни.
Когда в начале 1972 г. утвердили трёхтомник Шкловского в „Художественной литературе“, он сказал там, что предисловие буду писать я, и сообщил мне это. Я посмотрел проспект: вошёл „Толстой“, работы 50-х годов, очерки, „Мастера старинные“ и т. п. Ничего из раннего Шкловского!
30 или 31 января (именно так неточно от огорчения записана дата в тот вечер) я поехал отказываться. Я не мог сказать прямо, что мне не нравятся очерки и другое из позднего, включённого в издание. Всё же я сказал, что считаю: надо дать том Шкловского до тридцатого года, а иначе будет не то.
– Это не пройдёт, – сказал В<иктор> Б<орисович> и оглянулся на Серафиму Густавовну. – Трёхтомника не будет.
– В. Б., – я стал отступать, – но я не знаю, что писать о ваших Марко Поло, Федотове, всех этих мастерах старинных, рассказах про аэростаты…
– Вам не нужно писать обо всём. Не о трёхтомнике, но по поводу трёхтомника.
– И срок мал. Не успеть, – приводил я жалкие аргументы. – Не хотелось бы писать халтуру, нужно изучить…
– Вы всё про меня знаете. Я согласен быть вашим непрерывным редактором.
Я выдвинул последний резерв: я не могу писать – как сейчас принято, – что теории Опояза были ошибочны. Пусть напишет кто-нибудь другой, например, И. Андроников. Он сделает это гораздо лучше! (В конце концов так и получилось: Андроников написал – и про то, что Шкловский, „творчески усвоив марксизм, пересматривает свои прежние утверждения“, и о том, как „идёт вперёд, убеждённый в превосходстве нашего миропонимания“, и про многое другое.)
– Но я уже сказал в издательстве, что писать будете вы. Они согласились.
Больше отступать было некуда. Я, стараясь говорить не хрипло, повторил: нет, всё же не смогу.
Видно было: В. Б. совершенно этого не ожидал. Расстроился, лицо стало толстое, начал шепелявить. Но не сдался. Стал говорить, о чём нужно писать в предисловии.
– Что у меня главное. Сочетание работы беллетриста и литературоведа. Как и у Тынянова. Но Тынянов писал традиционные вещи – романы. Я романов не писал…
Литература была для него дороже всего! В. Б. увлёкся и явно забыл о цели своей речи. (В больнице, в последние его дни, когда я заговаривал с ним о литературе, он забывал про боль, переставал стонать, в глазах появлялся прежний блеск. И голос становился прежний.)
Он уже стал говорить о жанрах вообще, их трансформации, перешёл на классиков…
– Чехов плеснул воды на чёткий чернильный контур жанра и размыл его. Если дописать начало и конец – будет традиционно.
С<ерафима> Г<уставовна> всё это время сидела молча, и лицо её всё больше превращалось в маску.
– Вам что, – вдруг сказала она, – не нравится „Толстой“?
Атмосфера вновь сгустилась. В. Б. вспомнил о теме разговора. Повернулся в кресле боком и стал с фланга бить меня аргументами, ораторски опытно, умело располагая их по степени усиления:
– Трёхтомник может пройти сейчас или никогда. Платят 100 процентов. Это даст мне два года жизни. За это время я напишу книгу. Я прошу о выручке. Меня надо выручить.
– Вы говорили, – правда, после чачи, – что без меня вас не было бы.
– Конечно, – бормотал я, – формальный метод…
Я ощутил на себе разящие удары лучшего полемиста двадцатых годов. Последний удар был особенно тяжёл:
– Ну вот. Есть бесспорный жанр. И вы в нём несомненно выступите.
– ?
– Некролог.
(Этот удар достал меня через много лет. Я в этом жанре действительно выступил – в Тыняновском сборнике. Воспоминание о том разговоре несколько месяцев мешало мне сделать это.)
– Ну что ж. Нет так нет. Не могу же я вас запереть в комнату.
Самообладание у В. Б. было большое.
– Может, попьём чай? – сказал он почти весело.
– Какой тут чай, – мрачно сказала С. Г.»{276}.
Объяснения просты – пожилой человек выторговывает у судьбы два, а то и три года жизни.








