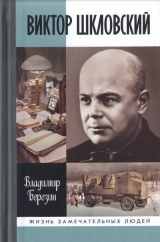
Текст книги "Виктор Шкловский"
Автор книги: Владимир Березин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Глава девятнадцатая
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Сказывают, что крокодил, заползши в кустарник, представляет плачущего младенца. Неопытный человек приближается, ищет и бывает жалкою добычею ужасному чудовищу.
Василий Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова
Нет более странного понятия, чем предательство. Один и тот же поступок называется и предательством, и благоразумием, и геройством, и меняет эти имена по кругу.
Академик Олег Рудаков
Один из самых интересных и совершенно не изученных мотивов в русских дневниках и мемуарах – мотив предательства.
Дело в том, что предавали не только людей или идеалы, предательства ощущались по отношению к творчеству и чужим ожиданиям.
Изменился общественный уклад, и было совершено множество отказов от старого мира и тех присяг, которые, явно и неявно, давали ему люди. Отказывались от обязательств перед Богом и старой властью, перед сословием и чином, перед прочими правилами жизни. Создавались новые правила, от которых отказывались тоже, и к концу 1920-х возникло множество коммунистов, которые говорили о предательстве прежних идеалов Революции точно так же, как они говорили о предательстве Революции теми, кто начал нэп.
Собственно, формулировалось само понятие «предательства» как термин.
Лидия Гинзбург в декабре 1931 года делает такую дневниковую запись:
«Шкловский приезжал в начале декабря. Я его не видела. Он всё ещё не ходит в „квартиру Гуковского“, а я кончала роман, и у меня не хватило ни времени, ни энергии, ни добродушия его разыскивать. Он позвонил только один раз, поздно вечером, и говорил со мной необыкновенно охрипшим голосом. Сказал, что назавтра приглашён к Груздеву и Ольге Форш.
– Нельзя ли вас оттуда извлечь?
– Попробуйте сообщить туда, что вы умираете.
– Я позвоню и скажу, что я умираю и без вас не могу умереть спокойно.
На другой день я играла в покер и не позвонила».
И далее:
«Шкловский стал говорить Вете[81]81
Елизавета Исаевна Долуханова (1904–1938?) родилась в Тифлисе, «считала себя армянкой, а своим родным языком – русский»; в начале 1920-х годов переехала в Петроград; в 1924 году поступила на Высшие государственные курсы искусствоведения (ВГКИ) при Государственном институте истории искусств. Жена художника В. В. Дмитриева. Арестована 6 февраля 1938 года.
[Закрыть] что-то такое про Тынянова. Вета прервала:
– Мне надоело, что вы предаёте Юрия и всех… Вы обожаете неудачи ваших друзей…
– Разве? – он задумался. – Действительно, Юрия предаю. Борю? – тоже предаю.
– Гинзбург предаёте?
– Гинзбург, – он поморщился, – предаю немножко.
– Меня предаёте, – сказала Вета, – я знаю, вы говорите всем: нехорошо живёт Вета, скучно живёт…
Прощаясь, он сказал ей:
– Передайте Люсе <Гинзбург>, что я её очень люблю и предаю совсем немножко»{153}.
Филолог Дмитрий Устинов замечает в комментариях к публикации писем Л. Гинзбург: «По-видимому, непосредственные духовные интересы Е. И. Долухановой не лежали в сфере науки, поэтому в строгом, формально-научном смысле она не принадлежала к числу младоформалистов (как некому научно-корпоративному единству), однако нет сомнения, что она играла заметную (и своеобразно колоритную) роль в их бытовой жизни, осмыслявшейся и обыгрывавшейся самими младоформалистами как „дело культуры (литературы)“». Но только доверять её пересказанным словам и словам, пересказанным ею, нужно с осторожностью. Елизавета Исаевна была чрезвычайно одарённым человеком и прирождённым сочинителем: сама Гинзбург пишет: «<…> …максимально словесный человек, какого мне пришлось встретить, – Вета. У неё… <…> совершенно непроизвольная, замкнутая и эстетически самоценная речевая система. У людей, просто хорошо говорящих, то, что хорошо в их разговоре, падает на отдельные выражения, в большей или меньшей степени заполняющие речь. Такие словесные люди, как В<иктор> Б<орисович Шкловский> и Вета, выразительны сплошь, вплоть до а, и, что, когда. <…> Шкловский закрепил особенность своей устной речи в речи письменной. Система Веты, к сожалению, не дойдёт до потомков. Я не стала бы уговаривать её писать. Уже в своих письмах она гораздо ниже, чем в разговоре. <…> „В жизни“ она мгновенно переваривает, встряхивает и ставит на голову всякую литературность, которая ещё стояла на ногах».
Дальше Устинов отмечает: «Впрочем, при чтении многочисленных отзывов Гинзбург о Вете нужно учитывать особый, „романический“ характер их личных взаимоотношений».
Но суть в другом – все эти истории в литературной среде многажды обкатывались: эпизод, случайно оброненная фраза становились фрагментами литературного текста, и решительно непонятно, что там происходило на самом деле. Особенно в тот момент, когда в мемуары проникает изящная сцена, заканчивающаяся пуантом.
Шкловского много раз упрекали в предательстве. Всё дело в том, что в 1920-е годы он двигался с очень большой скоростью. Часто литературные и политические конструкции, которым он служил, устаревали и исчезали так быстро, что упрёки в предательстве раздавались уже после того, как истлели их обломки.
Менее всего люди прощали обманутые ожидания.
Шестью годами раньше, 7 июля 1925-го, Лидия Гинзбург пишет Борису Бухштабу из Одессы:
«…мы с Москвой на этот раз не поладили. – Она встретила меня обычной теснотой, не совсем обычным отъездом (на аэроплане) Виктора Борисовича и совершенно необычайной, провокационной, температурой.
На всё это я ответила дурным настроением и дурным самочувствием, не говоря уже о недостаточной огнеупорности…
А впрочем… а впрочем… Шкловский писал друзьям о русских друзьях и о Петербурге; спрашивал, починен ли провал в мостовой против „Дома Искусства“. Сейчас Шкловский, живя в России, обходится без Петербурга, без друзей и без „Дома Искусства“, и даже без истории искусства; у него жена и ребёнок, и в Москве ему платят 400 руб<лей> за редактирование так называемого „Красного Синего Журнала“[82]82
Дмитрий Устинов в примечаниях к публикации этого письма замечает: «Имеется в виду двухнедельное, иллюстрированное, литературно-художественное и научно-популярное издание „Красный журнал“, выходившее в 1924–1925 гг. в Москве. В 1925 г. с 3-го по 9-й номер (февраль – май) заведующим редакцией этого журнала значился В. Б. Шкловский. Сарказм Гинзбург относит адресата к „бульварному“ тонкому иллюстрированному „Синему журналу“, выходившему в Петербурге (Петрограде) с 1910 по 1918 г.: для людей, воспитанных на культуре символизма, упоминание этого издания служило чуть ли не нарицательным обозначением мещанской пошлости».
[Закрыть].Если ты скажешь, что каждый из нас может подобным образом свернуть в сторону, я возражать не стану; если ты скажешь, что это скверно, я отвечу, что это безразлично.
Несущественно, любит ли человек два года, пять лет или десять. Существенно то, что мы в течение двух недель любим до гроба; что мы „никогда не прощаем“ неприятность, которую забываем в полтора часа, что мы „порываем навеки“ тогда, когда миримся через сутки. Вот на чём познаётся условность времени и неисчерпаемость переживания.
Иуда Искариот продал Христа за 30 серебреников; Виктор Шкловский продал Институт за 40 червонцев. Надеюсь, если мы вздумаем продавать друг друга, мы не сделаем этого бесплатно, а пока что будем переживать Вечность в течение летних каникул. Вообще – „тут может быть два случая“ и стоит ли из-за какого-то паршивого „Синего Журнала“ заранее волноваться!
Кроме того, надо быть хорошим до тех пор, пока это возможно. Быть хорошим куда приятнее, чем быть скверным. Не изумляйся – это я только всего продолжаю наш старый разговор, начавшийся между Биржевым мостом и Дворцовым.
Пожалуйста, Боренька, не вздумай сделаться сволочью к моему возвращению. Во-первых, это будет покушение с негодными средствами. Во-вторых… я отлично знаю, как может стошнить человека от собственного благонравия, но, честное слово, это ещё лучше, чем когда тошнит от всего другого прочего.
Ул. Баранова д. 6 кв. 6»{154}.
Со Шкловским в Москве действительно было трудно увидеться – он постоянно ездил в творческие командировки. Одна из них, как раз с путешествием на аэроплане, описана им в «Третьей фабрике».
«В 1929 году друг Шкловского, не писавший прозы, – сообщает Борис Фрезинский в эссе „Скандалист Шкловский“, – Б. М. Эйхенбаум утверждал в книге „Мой современник“[83]83
В публикации интернет-журнала «Букника» (2008. 21 ноября) некая путаница – книга Б. Эйхенбаума, ныне изданная, называется «Мой временник». Эйхенбаум не писал прозы, если, конечно, не считать «Маршрут в бессмертие (Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова)», что хоть и биографическая, но всё же проза.
[Закрыть]: „Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей – но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент… В писательстве он физиологичен, потому что литература у него в крови, но совсем не в том смысле, чтобы он был литературен, а как раз в обратном. Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература. Он пробует её на вкус, знает, из чего её надо делать, и любит сам её приготовлять и разнообразить“».
Бенедикт Сарнов в статье «Виктор Шкловский до пожара Рима» вспоминает свой разговор со Шкловским в начале 1960-х годов, свои жалобы как раз на то, что «время виновато», и тот самый знаменитый ответ, что автобусу дорогу уступают не из вежливости:
«Образ, что и говорить, производит впечатление, но, если бы все так боялись автобуса, он бы никогда не сделал перерыва в своих безжалостных наездах на нас…
Потом Шкловский старался держаться на плаву, писал свои не задерживаемые цензурой книги и откликался на чужие. При его темпераменте и остром уме это не всегда бывало легко – скажем, пылко хвалить в газете фильм Чиаурели „Клятва“, воспроизводящий историю, фальсифицированную Сталиным.
Шкловскому повезло – его не арестовали; в 1939 году он даже получил орден Трудового Красного Знамени – это надо было заслужить. И всё же орден – далеко не вся правда о Шкловском. В страшные годы террора „в Москве был только один дом, открытый для отверженных“ – таково дорогого стоящее признание в „Воспоминаниях“ Н. Я. Мандельштам, оно – о доме Шкловского… И ещё одно важное свидетельство вдовы Мандельштама о времени террора: „Шкловский в те годы понимал всё, но надеялся, что аресты ограничатся ‘их собственными счётами’. Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться ‘свидетелем’, но, когда эпоха кончилась, мы уже все успели состариться и растерять то, что делает человека свидетелем, то есть понимание вещей и точку зрения. Так случилось и со Шкловским“»{155}.
Несмотря на ордена и Государственную премию, наиболее известные книги Шкловского оставались под гласным и негласным запретом. В списках цензуры, в частности, значится:
«528. Сентиментальное путешествие: Воспоминания 1917–1922 гг. – М.; Берлин: Геликон, 1923. – 391 с.; Список № 5 (Таллиннский список. 1945 г.). Возвр.: Приказ № 197.13.02.1958. ВП-1960. Книга включает две части: „Революция и фронт“ и „Письменный стол“. Цензурные претензии (помимо факта совместного советско-эмигрантского издания) вызвала первая часть: сцены расстрела рабочих в Петрограде, протестовавших против разгона Учредительного собрания в январе 1918 г., эксцессы „красного террора“ („каждого убивали на месте“), самосудов толпы и т. д.; помимо того, упомянут Фёдор Раскольников. Значительное внимание уделено издательству „Всемирная литература“, созданному в 1918 г. в Петрограде А. М. Горьким, и его сотрудникам, в частности, Блоку и Гумилёву. О расстреле Гумилёва и смерти Блока, пришедшихся на август 1921 г., Шкловский пишет так: „Умер Гумилёв спокойно (! – А. Б<люм>.). Блок умер тяжелей, чем Гумилёв, он умер от отчаяния“, призывая затем: „Граждане, бросьте убивать! Уже люди не боятся смерти! Уже есть привычки и способы, как сообщать жене о смерти мужа“ (с. 336). <…> 529. Ход коня: Сборник статей. – М.; Берлин: Геликон, 1923. – 206 с.
<…> Список № 4. М., 1950. Св. список – 1961. Св. список – 73. Возвр. – ВП-1991.
<…> Сборник эссе на различные темы литературы и искусства. Среди персонажей – Адриан Пиотровский, Вс. Мейерхольд, Сергей Радлов, Юрий Анненков»{156}.
Если же говорить о правке текстов и перемене смысла при этом, то есть о предательстве изначального текста, лучше дать слово самому Шкловскому: «Когда-то я по заказу написал статью для „Правды“. Критик Лежнев[84]84
В то время на слуху были два литературных псевдонима «Лежнев». Один принадлежал Абраму Зеликовичу (Захаровичу) Горелику (1893–1938) – литературному критику; по образованию медику; теоретику литературной группы «Перевал» (до её роспуска в 1932 году); противопоставлял теории «социального заказа» и «техницизму» лефовцев идею слияния идеологии и искусства; выступал за «моцартианство» творчества, в противовес «сальеризму»; осуждён и расстрелян в 1938 году. Другим Лежневым был Исай Григорьевич Альтшулер (1891–1955) родом из богатой еврейской семьи; в 1906 году вступил в РСДРП; в 1910-м уехал в Цюрих, где окончил философский факультет Цюрихского университета; в годы Гражданской войны заведовал отделом в газете «Известия». М. Булгаков вывел Лежнева в «Театральном романе» под именем Рудольфи. Потом Лежнев был выслан из СССР, но работал в советском торгпредстве в Берлине; в 1930-м вернулся и в 1935–1939 годах работал заведующим отделом литературы и искусства газеты «Правда», жёстко проводя политику партии в области культуры; позиционировал себя как специалист по творчеству Шолохова. Именно он фигурирует в истории, рассказанной Шкловским.
[Закрыть] (ныне покойный), который ведал отделом литературы и искусства, статью очень похвалил и при мне начал править. Долго правил. Перечёл и сказал: „Так. Теперь получилось говно. Но это ещё не то говно, которое нам нужно“. И продолжал править».
Глава двадцатая
ЮГО-ЗАПАД И ВАННА АРХИМЕДА
Работа растёт, переделывается. Я думаю, что я не доделываю своих книг, что я их обрываю слишком рано, что переписанные ещё два или три раза они стали бы лучше, понятнее, что меня стали бы понимать и читатели, а не только друзья, что я освободился бы от остроумия.
Моё остроумие, которым меня упрекают, – это след инструмента, это некоторая недоработанность.
Виктор Шкловский
Книга под названием «Ванна Архимеда» опубликована в 1991 году. Но тот Архимед, о котором идёт речь, к тому моменту уже был похож на Марата в своей ванне. Архимед истёк кровью и тонул во времени. Он возвращался в жизнь с трудом.
Воскресить убитых было невозможно, можно было только воскресить память о них.
Судьба этой книги была странной – она долго существовала в призрачном пространстве рукописей, будто в «Синей птице» Метерлинка, где дети ждут своего рождения на небесах.
Книга не повторяет замысел 1927 года, хотя во многом следует ему. Это перерождённая «ванна», какое-то другое сооружение, память о ванне и память об обэриутских архимедах.
В предисловии к современному изданию «Ванны Архимеда» А. Александров пишет:
«В условиях острой литературной борьбы 20-х годов даже небольшие школы и группировки стремились издать свои коллективные сборники. Осуществить эту цель было непросто из-за разного рода препятствий, материального и организационного характера.
Выпустить сборник хотели и „чинари“, затем обэриуты[85]85
«Школа чинарей» (провозглашавшая поэтику абсурда; слово «чинари» не расшифровано) была создана в 1922 году поэтами А. Введенским и Д. Хармсом, к ним примкнули философы Я. Друскин, Л. Липавский. В 1925 году «чинари» вместе с поэтами Н. Заболоцким и Н. Олейниковым присоединились к созданному теоретиком искусства и поэтом А. Туфановым «Ордену заумников DSO» (провозглашал принцип «театрализации жизни»). В итоге сформировалась литературно-художественная группа ОБЭРИУ – Объединение реального искусства (1927–1930), в которую входили Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, К. Вагинов, И. Бахтерев, Б. Левин, с ними сотрудничали художники К. Малевич, П. Филонов. В декларации-манифесте обэриуты объявили себя «поэтами нового мироощущения и нового искусства»; реальность своего искусства они связывали с очищением предметов от литературной шелухи, чтобы «вгрызаться в середину слова» и смотреть «голыми глазами»; опорным понятием в поэтике обэриутов стала бессмыслица («Горит бессмыслицы звезда / она одна без дна», – утверждал А. Введенский в поэме «Кругом, возможно, Бог»); лидеры ОБЭРИУ А. Введенский и Д. Хармс считаются родоначальниками абсурдизма как литературного направления. – Прим. ред.
[Закрыть]. В 1927 году „чинари“ вместе со своими союзниками составили план будущего сборника „Радикс“ (от лат. radix – корень). Приводим его по записной книжке Д. Хармса (хранится в частном собрании):„Теоретический отдел. 1. Шкловский – О Хлебникове. 2. Малевич – Об искусстве. 3. Липавский – О чинарях. 4. Клюйков – О левом фланге (радиксе). 5. Бахтерев – О живописи. 6. Кох-Боот (псевдоним Г. Кацмана. – А. Александрову.) – О театре. 7. Цимбал – Информация ‘Радикса’. 8. Островский – Московский Леф. 9. Бухштаб – Константин Вагинов. 10. Л. Гинзбург. 11. Гофман. 12. Степанов. Творческий отдел. 1. Введенский – Прозу и стихи. 2. Хармс – Стихи и драма. 3. Заболоцкий – Стихи. 4. Бахтерев – Стихи. 5. Вагинов – Прозу и стихи. 6. Хлебников – Стихи. 7. Туфанов – Стихи? Живопись. 1. Бахтерев. 2. Дмитриев. 3. Из Инхука. Графика. 1. Заболоцкий. 2. Филонов“.
Сборник не вышел. Возможно, к нему относится следующая запись Хармса в первой половине 1927 года: „Наши ближайшие задачи: 1. Создать твёрдую Академию левых классиков. 2. …составить манифест. 3. Войти в Дом Печати. 4. Добиться вечера с танцами для получения суммы около 600 рублей на издание сборника. 5. Издать сборник“ (Записная книжка Д. Хармса).
В 1929 году у обэриутов возникает план нового сборника под названием „Ванна Архимеда“:
„Стихи: 1. Заболоцкий. 2. Введенский. 3. Хармс. 4. Хлебников. 5. Тихонов; ‘Елизавета Бам’. Проза: 1. Каверин. 2. Введенский. 3. Добычин. 4. Хармс. 5. Тынянов. 6. Шкловский. 7. Олеша“ (Записная книжка Хармса)»{157}.
Но нам интересно, что говорил и как вёл себя в этой истории с книгой Шкловский.
Игорь Бахтерев[86]86
Игорь Владимирович Бахтерев (1908–1996) – самый младший из обэриутов. В декларации ОБЭРИУ о нём говорится: «Поэт, осознающий своё лицо в лирической окраске своего предметного материала».
[Закрыть] оставил воспоминания, благодаря которым мы знаем, как происходили эти встречи:
«С Виктором Борисовичем Шкловским наши литературные дела почти всегда начинались телефонными разговорами. Так случилось и на этот раз.
Хармсу позвонили с Лито Института Истории Искусств, сообщили, что профессура Отделения хочет встретиться с участниками „Левого фланга“[87]87
Группа «Левый фланг» (Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, И. Бахтерев) предшествовала объединению ОБЭРИУ.
[Закрыть].Находившиеся в Ленинграде четыре участника „Фланга“ были проинформированы. Но как же быть с пятым участником, призванным в армию, Заболоцким? Институт пошёл Николаю навстречу, дал бумагу, и даже с необязательной круглой печатью.
Несколько дней спустя все пять сочленов собрались на Исаакиевской площади, вошли в бывший Зубовский особняк, нашли нужную им аудиторию…
Мы, конечно, не опоздали, и всё же профессура нас опередила. Не слишком вежливое начало, зато появились все вместе: в неизменной, странной, золотистой шапочке и длинном, фантастического покроя сюртуке – Даниил Хармс; в гимнастёрке рядового – Николай Заболоцкий; в обычных, не слишком новых пиджачных парах и тройках – Вагинов, Введенский и пишущий эти строки.
Мы находились в узкой длинной комнате, с длинным столом – от единственного окна до противоположной стены. Взявший на себя роль распорядителя Юрий Николаевич Тынянов попросил вошедших сесть. Так мы оказались визави Томашевского, Эйхенбаума, Щербы, Тынянова…»
Первым делом знаменитый Лев Владимирович Щерба[88]88
Л. В. Щерба (1880–1944) – лингвист, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, который окончил с золотой медалью в 1903 году; ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ. Продолжил работу в европейских университетах; в 1909 году создал в Петербургском университете лабораторию экспериментальной фонетики; профессор кафедры сравнительного языкознания Петроградского университета; член-корреспондент Российской академии наук (1924); академик АН СССР (1943). Ввёл понятия отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента. Автор множества работ о языке. Широким кругам известен, увы, лишь как автор фразы: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка», которая иллюстрирует возникновение смысла из грамматики.
[Закрыть] спросил:– Почему я не вижу поэта Туфанова?
Ему ответили, что Туфанов теперь не входит в состав объединения. Ответил то ли Введенский, то ли Заболоцкий, главные противники заумника Туфанова. Тот расстроился – «фонетическое писание Александра Туфанова лично мне кажется интересным».
После чтения оказалось, что мысли Шкловского совпадают с собственными оценками своего творчества будущими обэриутами. Шкловский «отмечал несомненное влияние русской поэзии XVIII века, поэтов пушкинского круга, самого Александра Сергеевича, говорил о влиянии братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого, когда они выступали вместе. И конечно же о продолжении дела кубофутуристов, в первую очередь Велимира Хлебникова… Завершая наш недлинный разговор, Шкловский помянул господина Маринетти. „Если бы лидер западных футуристов снова пожаловал к нам в гости, – сказал Виктор Борисович, – я не сомневаюсь, участники ‘Фланга’ заняли бы позицию Хлебникова“».
Через несколько лет они уже стали обэриутами (сам Бахтерев, впрочем, называет это слово «глуповатым») и приняли участие в совместном вечере с Маяковским.
Семь обэриутов вышли на сцену Капеллы, Введенский прочёл их декларацию под жидкие хлопки публики.
Потом, за кулисами, к ним подошёл Шкловский.
Он сказал:
– Эх, вы! Когда мы были в вашем возрасте, мы такие шурум-бурум устраивали – всем жарко становилось. Это вам не Институт истории искусств. Словом, надо было иначе… В вашем возрасте мы жили веселее. У нас без шурум-бурум не обходилось. Да и примеры меня не очень удовлетворили, можно было подобрать поинтереснее, поголосистее. Для таких выступлений необходим плакат. Не верите мне – спросите Владимира Владимировича. Здесь шапочка была бы уместнее, чем в Институте.
«Почему вы не в шапочке?» – обратился он к Хармсу, как вспоминает Бахтерев.
Тут надо сделать отступление.
Явление скандала – очень сложное явление.
Сложность в том, что художник, желая закатить пощёчину общественному вкусу, всегда рассчитывает на то, что общество ему ни пощёчинами, ни тумаками не ответит.
Пощёчина даётся. А потом общество не приходит на выставку «Двадцать лет работы», и пистолет греет руку, художник полон обиды, но до конца ничего ещё не прояснено. Нужно сказать, что Маяковский одновременно очень хороший и очень неудачный пример скандалиста.
Есть давняя мысль о самоназначении элит.
Существует два пути.
Пройти некоторый экзамен у предшественников. Как Сальватор Дали, перерисовавший весь музей Прадо, а уже потом занявшийся собственными экспериментами.
Второй путь – это путь человека, отменяющего классические законы, чтобы их не изучать и не превосходить, а сразу стать классиком с багажом, который создаётся мгновенно или дан от природы.
В 1920-е годы было интереснее, чем сейчас: скажем, вместе с эпатажем опоязовцы могли сочетать академичность. Другое дело, что на их идеях взросла потом та самая банда французских философов, про которых сказано, что они гиканьем и свистом угоняют во тьму остатки здравого смысла.
Важна грань, где эпатаж отваливается как шелуха, оставляя новаторскую конструкцию.
Разве знаменитый Параджанов не был безумен? Он вообще внеморален – ворует столовое серебро у Катанянов, потом раздаёт его кому-то. Когда умирает его родственник, то, улучив момент, когда вдова вышла из комнаты, он расписывает покойника золотой и синей красками под фараона.
Где грань допустимого – неизвестно.
Маяковский создавался, будто финансовая репутация человека с банкнотой в один миллион фунтов стерлингов из рассказа Марка Твена.
Критики могут ответить, но общество всегда инерционно.
И если критик, а пуще того читатель на диспуте задаёт художнику неприятный вопрос, то можно сослаться на внешнюю силу.
Весь фокус в том, что академиков можно приструнить. Например, им можно ответить, как пишет Юрий Карабчиевский в книге про Маяковского: «Не один раз на публичных выступлениях, прочтя про себя записку, он объявляет: „А на это вам ответит ГПУ!“».
А в другое время можно сказать: «Вы с кем, мастера культуры? С этой омерзительной властью или с нами, художниками, рискующими свободой?»
Для этого вовсе не нужно жить при страшной диктатуре – власть всегда похожа на руки брадобрея и всегда говорит со своими подданными на языке, похожем на арамейский.
И условный академист понимает, что попал как кур в ощип.
Эпатаж всегда идёт рука об руку с шантажом. «Шкловский, советовавший обэриутам устроить „шурум-бурум“, не знал, что у них уже был опыт подобного скандала, – таковым стал вечер „Три левых часа“ 24 января 1928 года, отзывы на который, происходи он в 1913 году, стали бы прекрасной рекламой группе. „Реклама“ в прессе появилась, но только такая, какая в 1913 году была совершенно невозможной: в статье Лидии Лесной „Ытуеребо“, помимо высмеивания „бессмысленного“ творчества обэриутов, уже сквозили явственные намёки на политическую неблагонадёжность группы. При этом намёки строились именно на противопоставлении футуристам: „клетчатые шапки, рыжие парики, игрушечные лошадки. Мрачное покушение на невесёлое трюкачество, никак не обыгранные вещи. Футуристы рисовали на щеках диэзы, чтобы эпатировать буржуа. В 1928 году никого не эпатнёшь рыжим париком, и пугать некого“»{158}, – пишет литературовед Александр Кобринский.
Шкловский ещё раз появляется в воспоминаниях «последнего обэриута» Игоря Бахтерева уже спустя много лет.
Речь там заходит о художнике кино Якове Наумовиче Риваше.
Художник этот, незадолго до смерти, случившейся в 1973 году, придумал книгу «Время и вещи», которая была посвящена дизайну 1920-х годов. В ней приводились около шестисот уникальных фотографий с сопроводительным текстом. Шкловскому задумка чрезвычайно понравилась, и он даже написал к книге предисловие. «Давно нет среди нас ни автора книги, ни автора предисловия. И всё же если написанные строки помогут появиться на прилавках очень нужной, очень интересной книге, и не в куцем виде, без двухсот изъятых фотографий, а в полном объёме, в каком её впервые увидел и прочитал Виктор Борисович Шкловский, я бы считал, что эти воспоминания написать следовало»{159}, – заключает Бахтерев.
Дело с «Ванной Архимеда» кончилось ничем, но в те же времена Шкловский, который вообще любил создавать «конструкции», придумал новую литературную школу. 5 января 1933 года в «Литературной газете» была напечатана статья «Юго-Запад» – о новой литературе, пришедшей именно с этого направления.
Время это было суетливое, потому что писатели ждали своего первого съезда и мучительно делили гостевые и делегатские приглашения на него. Но это было потом, а в январе 1933-го вокруг статьи (а её написал Шкловский) разгорелся скандал. Идея новой литературы не понравилась.
Подогревал страсти и пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), который проходил тогда же, в январе, а потом и второй пленум оргкомитета Союза советских писателей. Все боялись новых групп и «конструкций».
Собственно, несколько разгромных статей в «Известиях» и другой прессе потом и назывались «Дискуссией о формализме». 14 февраля Шкловский каялся на пленуме, 29 апреля – письменно в «Литературной газете», но статей было напечатано много, и обсуждения «Юго-Запада» там было уже мало, а формализма, вернее, битвы с ним – много.
Судя по всему, именно после этой дискуссии Шкловский принял участие в написании знаменитой книги «Беломорско-Балтийский канал», о которой ещё пойдёт речь.
Шкловскому надо было не только отреагировать на критику, но и (особо не афишируя это обстоятельство) облегчить участь своего брата.
А брат-иосифлянин, крепкий в вере, давно работал именно на Беломорканале.
Кстати, распространено заблуждение, что Шкловский плыл вместе с другими писателями, авторами книги, на пароходе – то есть участвовал в путешествии, про которое рассказывают многие небылицы.
На самом деле он взял туда командировку в журнале «Пограничник» (хотя это практически одно ведомство), чтобы деликатная миссия не была на виду – именно тогда, по преданию, и была произнесена знаменитая фраза о чёрно-бурой лисе в пушном магазине. Именно так он ответил чекисту на вопрос о том, как себя чувствует на Беломорканале.
Дочь Шкловского, Варвара Викторовна, кстати, рассказывала мне, что Владимир Шкловский отнёсся к приезду и хлопотам брата без всякой благодарности: «Я молился Анике-воину, и Господь устроил всё как нужно, и проч., и проч.».
Но это произошло позднее, а в январе Шкловский только написал статью о писателях, пришедших в советскую литературу с юго-запада СССР. Собственно, само название взято у Эдуарда Багрицкого, из его одноимённого стихотворного сборника.
Юго-запад это эвфемизм Одессы, конечно.
Но самое интересное, что гонители Шкловского были во многом правы – но не в том, конечно, что призывали к идеологическому топору.
«Одесской школы» в тот момент, когда Шкловский о ней писал, не было, но она странным образом вдруг сложилась у всех на глазах.
Имена Юрия Олеши, Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Валентина Катаева, Исаака Бабеля всё равно в массовом сознании существуют как феномен, пусть и разнородный.
Критик Макарьев, что писал в «Известиях»: «Писатели, которых назвал Шкловский (среди них много талантливых людей), неоднородны по своему творчеству…» – был, в общем, прав.
Школа, которую Шкловский хочет слепить по географическому признаку, рассыпается в руках, если только прикоснуться к ней.
Между тем, всякий современный читатель (да и читатель того времени) скажет, что феномен «Одесской литературы» есть, назовёт не пару имён, а полдюжины, и будет тоже прав. Шкловский угадал общественный спрос на понятие «юго-западной литературы».
Существует хороший разбор этой статьи, который сделал одесско-американский человек Вадим Ярмолинец. Текст этот вполне доступен{160}.
Но желание Шкловского «формализовать», то есть «сформулировать» правила литературного процесса этим не ограничилось.
Среди прочих откровений писателей в сборнике 1929 года «Как мы пишем» есть и текст Шкловского.
Шкловский говорит:
«Пишу я уже пятнадцать лет и, конечно, за это время очень изменил способ писать и манеру писать. Пятнадцать лет тому назад мне было очень трудно, я не знал, как начать. Когда писал, казалось, что всё уже сказано. Отдельные куски не сливались. Примеры становились самодовлеющими. В сущности говоря, так и осталось. Писать и сейчас трудно, хотя по-иному. Кусок развёртывается у меня в самостоятельное произведение, а главное, как в кинематографии, всё же стоит между кусками. Изобретение вообще и изобретение литературного стиля в частности часто рождается от закрепления случайной мутации, случайного изменения. Это происходит приблизительно так, как при выводе новой породы скота.
Есть общелитературный стиль, который тоже возник на основе индивидуального стиля. Этим стилем писать нельзя, он не способен шевелить вещи, и сам он не существует, не ощущается.
В Маяковском есть закрепление ошибок против силлаботонического стиха.
В Гоголе закреплён диалект, полуязык. Гоголь писал, вероятно, не на том языке, на котором думал, и украинская стихия возмущала стиль. Так дальние звёзды возмущают эллипсисы планет.
Пишу я исходя из факта. Стараюсь не изменять факт. Стараюсь сводить факты, далеко друг от друга стоящие.
Кажется, это из Ломоносова о сближении „далековатых идей“ или из Анатоля Франса о сталкивании лбами эпитетов. Так вот, я стараюсь столкнуть не эпитеты, а вещи, факты.
Сейчас я начинаю писать иначе, особенно когда работаю над научной книгой. Но и тогда я начинаю с материала.
Вопрос „почему“ меня не интересует до тех пор, пока для меня не решён вопрос „что и как“. Я не ищу причин неизвестного.
Начинаю я работу с чтения. Читаю, стараясь не напрягаться. Вернее, не стараюсь запоминать. Напряжение, настороженность – они мешают. Нужно читать спокойно, глядя в глаза книге.
Читаю я много. Как видите, у меня вместо статьи о том, как я пишу, получается статья о том, как я работаю.
Продолжаю.
Читаю не напрягаясь. Делаю цветные закладки или закладки разной ширины. На закладках, на случай, если они выпадут, хорошо бы делать, а я не делаю, обозначение страницы. Потом просматриваю закладки. Делаю отметки.
Машинистка, та самая, которая печатает статью сейчас, перепечатывает куски, с обозначением страницы. Эти куски, их бывает очень много, я развешиваю по стенам комнаты.
К сожалению, комната у меня маленькая, и мне тесно.
Очень важно понять цитату, повернуть её, связать с другими.
Висят куски на стенке долго. Я группирую их, вешаю рядом, потом появляются соединительные переходы, написанные очень коротко. Потом я пишу на листах бумаги конспект глав довольно подробный и раскладываю соединённые куски по папкам.
Начинаю диктовать работу, обозначая вставки номерами.
Вся эта техника чрезвычайно ускоряет темп работы. И делать её легче.
Я как будто работаю на пишущей машинке с открытым шрифтом.
Почти всегда в процессе работы и план и часто даже тема изменяются. Смысл работы оказывается непредназначенным, и тут на развалинах будущей работы переживаешь то ощущение единства материала, ту возможность новой композиции, то алгебраическое стягивание материала подсознательным, которое называется вдохновением…
Корректуры я не правлю, так как не могу читать самого себя. Мне приходят другие мысли, и я отрываюсь от текста.
Выслушать самого себя вслух мне было бы мучением.
Манера моей работы и манера недоработанности – не ошибка. Если я овладею техникой вполне, то не буду ошибаться в самой быстрой работе так, как не ошибается стеклодув. В результате, впрочем, произвожу я не больше других, так как темп работы утомляет.
Приходится отдыхать.
Очень много я рассказываю другим и не думаю, что человек должен всё писать сам.
Я убеждён, что нужно писать группами. Что друзья должны жить в одном городе, встречаться и что работа возможна только коллективами.
Лучший год моей жизни – это тот, когда я изо дня в день говорил по часу, по два по телефону со Львом Якубинским[89]89
Лев Петрович Якубинский (1892–1945) – филолог, литературовед, автор трудов по сравнительно-историческому языкознанию и древнерусскому языку.
[Закрыть].У телефонов мы поставили столики.
Я убеждён, Лев Петрович, что ты напрасно отошёл от телефона и взялся за организационную работу.
Я убеждён, что я напрасно живу не в Ленинграде.
Я убеждён, что отъезд Романа Якобсона в Прагу большое несчастье для моей и для его работы.
Я убеждён, что люди одной литературной группировки должны считаться в своей работе друг с другом, должны друг для друга изменять личную судьбу.
Путает меня то, что я не только исследователь, но и журналист и даже беллетрист.
Там другие факты, другое отношение к предмету и есть установка на приём. Это мешает мне изгладить в научной работе следы инструмента и написать книги, которые были бы понятны для чужих учеников, которые были бы обязательными, не требовали бы перестройки головы.
Но я хочу требовать.
В работе журналиста нужна честность, нужна смелость.
Я проехал через Турксиб. Там было пыльно, жарко, пищали ящерицы. Стояла высокая трава, то полынная, то ковыльная, то жёсткая, колючая, трава пустыни и тамариск, похожий на нерасцветшую сирень.
Там в пресный Балхаш, пресное озеро с солёными заливами, текут осенью солоноватые реки. Там люди ездят на быках и на лошадях так, как мы в трамваях. Там в ковыле скачут, как будто не ногами, а изгибая одну тонкую, как будто из картона вырезанную спину, – киргизские борзые.
В песках ходят козы. В солончаках застревают автомобили на недели. Верблюды тащат телеги. Орлы летят за сотни вёрст, чтобы сесть на телеграфный столб, потому что в пустыне сесть не на что.
Там строят сейчас Турксиб. Это очень нужно и очень трудно.
Там так жарко, что киргизы ходят в сапогах, одетых сверх тонких валенок, в меховых штанах, в меховых шапках.
А называются они не киргизами, а казахами.
Строить дорогу тяжело. Воды мало. Хлеб нужно привезти.
Хлеб нужно достать. Хлеб нужно где-нибудь держать. Рабочих много, над каждым нужно построить крышу.
И всё же построили.
Хорошие книги получаются тогда, когда человеку нужно во что бы то ни стало одолеть тему, когда он мужественен.
И это тоже называется вдохновением.
Так я написал „Сентиментальное путешествие“.
„ZOO“ я написал иначе.
Есть гимн ОПОЯЗа. Он длинный, так как мы довольно красноречивы и не очень молоды.
Там есть куплет:
И страсть с формальной точки зренья
Есть конвергенция приёмов.
Это вполне возможно.
Страсть втягивается инерцией навыков и, в частности, литературной инерцией страсти.
А в книгах это так.
Нужно мне было написать книгу о людях, что-нибудь вроде „Ста портретов русских литераторов“. Был ли я влюблён, или вообще попал в какую-то конвергенцию, или, может быть, выбрал любовь, как ослабленный организм выбирает себе болезни.
И вот получилась неправильно написанная книга.
Мне очень хочется сейчас писать беллетристику. Жду конвергенции. Жду, когда изобретётся. Жду материала и вдохновения.
Есть другие, инерционные книги, которые я презираю, которые состоят из навыков, из подстановок.
Этими подстановками можно искажать прекрасные материалы.
Так частный случай борется с общим материалом в ленте под всезначащим названием „Старое и новое“ Сергея Эйзенштейна.
В бормотаниях дилетанта, который возражает против ленты, – почему в ней не показана кооперация, есть правда, потому что лента не соотнеслась. Она взята вдоль темы, а организована выборочным, эстетизирующим материал способом сюжетного искусства. Сюжетные приёмы – это набор лекал, годных не для вычерчивания любой кривой.
Нужно учиться.
Я не помню, товарищи, тот длинный и толковый список вопросов, которые вы мне задали. Библиографию моих вещей вы где-нибудь найдёте, а будущего своего я ещё не знаю»{161}.
Это всё ответы на вопросы анкеты для писателей, тем и объясняется фраза в конце.








