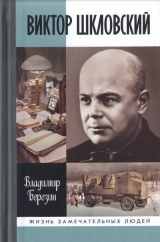
Текст книги "Виктор Шкловский"
Автор книги: Владимир Березин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Недаром эти разговоры обозначены вешками «морали» и «нравственности».
Понятия морали и нравственности – самые зыбкие. Сами эти слова – будто двухголовая птица с неразличимой сутью, недаром классики философии употребляли их как синонимы, а теперь в них вдут какой-то абстрактный «духовный» смысл.
Никто точно не знает этой сути, всё, как и положено в «морально-нравственных» делах, определяется интуитивно.
В начале XX века начались эксперименты с этикой.
О Лиле Брик часто говорят, употребляя слово «великая». Мера величия неизвестна. Возможно, это обычный человек, на котором, в силу образа жизни, сконцентрировались желания нескольких неординарных людей. Затем покатился известный снежный ком общественного интереса – уже без особых усилий.
Обычный человек, никакая не хранительница, если муза – то невольная, не гений, не злодей. Не арбитр вкуса, ясное дело.
Просто человек, соответствовавший своими чертами и привычками ситуации. Мне кажется, что в ней не было ничего сверхъестественного. Она оказалась в нужное время, в нужном месте – в компании одарённых людей – и с нужными навыками общения. Я наблюдал такой феномен в разных компаниях – кто-то авторитетный из группы людей неосознанно выбирает себе предмет обожания, начинается цепная реакция, и коллективный символ сексуальности создан.
Кстати, самыми притягательными становятся вовсе не мудрые красавицы, а просто женщины с практическим умом.
Причём наблюдал я это отвердение репутаций, похожее на кристаллизацию воды, в совершенно разных компаниях – и среди интеллектуалов, и среди слесарей («Ну как? Нинка из тринадцатой комнаты даян эбан?» – спрашивает один другого. А тот отвечает с самодовольною усмешкою: «Куда ж она, падла, денется?» – как писал Веня Ерофеев о нелитературных людях).
К слову, потом, спустя много лет, мужчины не могут забыть таких женщин, потому что они не просто символ сексуальности, они – символ и мужской молодости, силы, молодого счастья и надежд.
Жизнь причудлива.
В январе 1930 года Лиля Брик пишет в воспоминаниях: «Когда я просыпаюсь – ночь прошла, уже светает, тихо, часть гостей, должно быть, разъехалась. Выйдя из Осиной комнаты, я вдруг сталкиваюсь с Пастернаком, который выскакивает из столовой с отчаянным, растерянным лицом. Его не было среди приглашённых, очевидно, он приехал под утро, когда я спала. Он смотрит на меня невидящими глазами и выбегает без шапки, в распахнутой шубе в раскрытую дверь передней. За ним устремляется Шкловский, которого тоже не было в начале вечера и который, как выяснилось, приехал вместе с Пастернаком. В столовой странная тишина, все молчат. Володя стоит в воинственной позе, наклонившись вперёд, засунув руки в карманы, с закушенным окурком. Я понимаю, что произошла ссора».
Потом произошли известные трагические события.
В одном письме без даты, вероятно, во второй половине апреля 1930 года, Шкловский пишет Тынянову:
«Владимир Владимирович кроме того письма, которое ты знаешь, оставил ещё два – одно <Веронике> Полонской, другое сестре. Их я не знаю.
В последнее время он был в очень тяжёлом настроении. Ушёл с одного вечера, не дочитавши своих последних стихов. Ушёл с диспута о „Бане“, где журналистская аудитория хамила и мучила его.
В ночь перед смертью он до 2-х часов был у Катаева. Потом поехал на Таганку. Утром заехал к Полонской. Эта женщина маленькая кинематографистка, замужняя, снималась в „Стеклянном глазе“, в пародийной части картины.
В прошлом году у Владимира Владимировича был другой роман и тоже несчастливый.
Эта женщина не хотела ехать с Владимиром Владимировичем, он плакал. Они поехали вместе на его квартиру. В 10.15 он застрелился в дверях своей комнаты. В револьвере была одна пуля. Женщина растерялась. Вызвала соседку. И уехала.
Её арестовали. На репетиции. К вечеру она была выпущена.
Стихи в письме. Странные, как ты видишь. Они ещё тяжелее цыганских романсов Блока. Стихи из большой поэмы, обращённой к Лиле Брик.
Я думаю, что Полонская – это ложный адрес огромной неудачной любви, которую нельзя было простить себе.
Володя изолировался от своих. Он был искренне предан революции. Нёс сердце в руках, как живую птицу. Защищал её локтями. Его толкали. И он чрезвычайно устал.
Личной жизни не было. Поэт живёт на развёртывании, а не на забвении своего горя. Он страшно беззащитен. Маяковский прожил свою жизнь без читательского окружения, и все его толкали, а у него были заняты руки, и он писал о том, что умрёт. Слова были рифмованы. Рифмам не верят. Его толкали.
Он умер чрезвычайно усталым. Осталась стопка тетрадей ненапечатанных стихов. Они написаны все в последнее время.
Лежит Владимир Владимирович в клубе писателей. Идёт много народа, десятки тысяч. Мы не знаем, читали ли они его»{175}.
Сейчас об этом самоубийстве написаны сотни (наверное, даже тысячи) книг, мы знаем множество других подробностей, чего ещё не знал Шкловский.
На книжных полках мемуаристы стоят рядком, как на очных ставках.
Но удивительное свойство человеческих историй в том, что в какой-то момент они становятся непознаваемыми. В определённых обстоятельствах судьба превращается в притчу, и можно бесконечно спорить, но никакого единого мнения выработать нельзя.
Ничего нельзя доказать – и живые люди превращаются в символы, а их жизни – в притчи.
Сгубили ли Маяковского Брики или без них он не состоялся бы? Советская власть задушила поэта или он сам шёл навстречу гибели? Был ли он раним и нежен или невротичен и жесток? Это всё выяснить невозможно.
Сформулировать связное и отчасти убедительное высказывание не значит «выяснить до конца, как это было на самом деле».
Это значит – создать более или менее противоречивое толкование.
Как было «до конца на самом деле с Пушкиным», что там с Лениным?.. Ничего не понятно.
Что было на самом деле с фарисеем и мытарем? Что думает человек, умывающий руки накануне чужого приговора? Что записал сборщик податей Левий Матвей за Иешуа?
Кстати, Булгаков пришёл на похороны Маяковского.
Есть его страшная фотография – в жаркий апрельский день он, весь в чёрном, стоит во дворе Клуба писателей.
История этого снимка долго оставалась детективной – потом оказалось, что снимок, как и несколько других, сделал Илья Ильф.
Для Булгакова, думаю, это был акт примирения с человеком, который в своей пьесе перечислил его среди отживших понятий.
В «Клопе» говорят со сцены: «Сплошной словарь умерших слов… бублики, богема, Булгаков…»
Но Маяковский этим апрельским днём был окончательно мёртв и находился среди совсем иных слов.
Впрочем, человеку, имевшему отношение к литературе и бывшему в то время в Москве, не прийти на эти похороны было невозможно. Гуковский (в пересказе Лидии Гинзбург) говорил: «Если человек нашего поколения… не бродил в своё время в течение недели, взасос твердя строки из „Облака в штанах“, с ним не стоит говорить о литературе».
Но я отвлёкся.
Автора снимков долго искали, об этом есть поучительная история, рассказанная Лидией Яновской{176}.
Групповые снимки давних времён, сделанные на печальных и радостных мероприятиях, имеют одно важное свойство.
Они напоминают финал одного рассказа Даниила Хармса.
Рассказ этот называется «Связь» и заканчивается вот чем: «После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. И вот они едут поздно вечером по городу: впереди – скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают до самой смерти».
Люди, которых снимал Ильф, были связаны крепко, они знали, что их связывает.
А связывало их главное искусство того времени – литература.
Но и они не знают, что будет дальше.
Вот следующий снимок из книги «Ильф – фотограф» с такой подписью: «В день похорон Владимира Маяковского 17 апреля 1930. Слева направо: М. Файнзильберг, Е. Петров, В. Катаев, С. Суок-Нарбут, Ю. Олеша, И. Уткин».
Ильф умрёт через семь лет, а его брат Михаил Файнзильберг – через двенадцать. В том же 1942 году погибнет Петров, Катаев проживёт ещё 56 лет и умрёт Героем Социалистического Труда и многих орденов кавалером, а Олеша уйдёт через тридцать – в нищете, временно заслонённый другими именами.
Женщина, сидящая между ними, – Серафима Суок, бывшая женой поэта Владимира Нарбута.
Через четверть века она станет женой Шкловского.
Сам Шкловский ходит тут же, но не догадывается о том, как сложится его семейная жизнь.
Все они понятия не имеют о своих сроках, но чувствуют одно – смерть Маяковского отделяет время прежней литературы от новых времён.
Следующие похороны Маяковского состоялись в 1980-е и в 1990-е годы. Происходили они в газетах и на телевидении – потому что основной массе соотечественников стихи поэта стали менее важны, нежели его интимная жизнь.
Именно благодаря Брикам мы сейчас имеем тот образ Маяковского, который имеем.
Это был тот самый необитаемый остров с мотором, сам подплывший к Куку: открывай, мол, меня! про который рассказывал Шкловский, имея тогда совсем иные обстоятельства – открытие Есенина.
История повторилась, когда письмо Лили Брик легло на стол вождя. Это был именно такой остров, приплывший к Сталину.
Вот он я, говорил этот остров, только скажи, что я – самый лучший и современнейший остров эпохи. Он был очень удобен тем, что уже не мог наделать глупостей.
Многие люди повторяют как заклинание мысль о том, что без письма Брик мы бы не знали Маяковского так, как знаем сейчас[94]94
В письме Л. Ю. Брик от 24 ноября 1935 года вождю, в частности, говорилось: «Дорогой товарищ Сталин… <…> прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского и он всё ещё никем не заменён, и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции. Но далеко не все это понимают. <…> „Полное собрание сочинений“ вышло только наполовину, и то – в количестве 10 000 экземпляров! <…> Книг Маяковского в магазинах нет. <…> Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде – в площадь и улицу Маяковского. Но и это не осуществлено. <…> Всё это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского – его агитационной роли, его революционной актуальности. <…>» Сталин наложил на письме резолюцию, адресованную Н. И. Ежову (1895–1940), который в то время возглавлял работу органов советского контроля: «Очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остаётся лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление… <…> привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, всё, упущенное нами. Если моя помощь понадобится – я готов». – Прим. ред.
[Закрыть].
Однако понятно, что поэт Маяковский был бы всё равно, а вот станции метро «Маяковская» с её немыслимой красотой мозаики и гнутой нержавеющей стали, наверное, не было бы.
Мифология тоже сложна, и никогда не идёт по поведённому пути.
«Идёт много народа, десятки тысяч. Мы не знаем, читали ли они его».
Глава двадцать вторая
МАТВЕЙ КОМАРОВ, ХУДОЖНИК ФЕДОТОВ И ДРУГИЕ
Всякого учителя подстерегают ученики.
Профессор Мэтью Бранд
Первое, что читают у Шкловского сейчас, это «ZOO» и «Сентиментальное путешествие».
Легко полюбить Шкловского сразу и за самое лучшее. Но при прежней власти чтение начиналось с «Повести о художнике Федотове» и «О мастерах старинных», а читать было невозможно. «Повесть о художнике Федотове» было невозможно читать потому, что в ней демократы находят друг друга на мостовых Петербурга, будто рояли в кустах, и произносят монологи, обращаясь не друг к другу, а к читателю-зрителю.
Царь-медный-лоб стоит неподалёку.
Всё напоминает знаменитую гравюру «Парад в Царском Селе». Наличествуют все, и всё обособленно – как на знаменитом американском сорокаминутном виниловом диске «Что должен знать средний американец о Бетховене».
Между тем Шкловскому многое можно простить за одну только фразу в этом романе: «В сторону от наводнения, по небу к дуденгофским высотам, как беженцы с пожитками, бежали горбатые облака».
Но был на свете филолог Григорий Гуковский – очень умный и красивый человек, и он Шкловскому ничего не простил за красивые фразы.
Филолог Гуковский, которого иногда числили в учениках Шкловского, однажды проанализировал не книгу даже, а творческий метод написания книг своего старшего товарища, да так, что они перестали разговаривать. А после этого и говорить стало невозможно.
Про Гуковского, умершего 2 апреля 1950 года в «Крестах», знаменитой петербургско-ленинградско-петербургской тюрьме, лучше всех написал Олег Проскурин:
«Полемизировать с Гуковским (я имею в виду настоящую научную полемику, а не тявканье академических шавок) было не принято, как не принято полемизировать с мучениками.
Сейчас, с исторической дистанции, в трагической смерти Гуковского видится не только страшная случайность, жребий, выпавший в кровавой рулетке („любой бы мог“!), но и известная закономерность. Закономерность эта таится не только в „атмосфере эпохи“, но и в самой личности этого выдающегося учёного и человека.
Гуковский был блистательно талантлив и артистичен. Его лекции в Ленинграде и в Саратове (в тамошнем университете он работал во время войны и в первые послевоенные годы) собирали полные аудитории и непременно завершались шквалом аплодисментов. „Театр!“ – иронически комментировал Борис Эйхенбаум, проходя мимо аудитории, где только что закончилась лекция Гуковского и откуда, по обыкновению, доносился шум оваций. „Цирк!“ – злился в аналогичной ситуации академический карьерист старшего поколения. „Я имею здесь неожиданный успех – будто я заезжий столичный тенор или профессор Гуковский“, – писал из Саратова пушкинист Юлиан Оксман.
Гуковский действительно был артистом в полном смысле слова – отчасти, стало быть, и актёром. Как актёру ему было необходимо ощущение немедленного успеха. А для подобного успеха всегда нужно принимать правила театральной игры, господствующие „здесь и сейчас“. Гуковский эти правила отлично усваивал и быстро вживался в роль, можно сказать – органически сливался с нею. „У Г<уковского> была сокрушительная потребность осуществления, – писала в 1980 году Лидия Гинзбург, близко знавшая Гуковского, – и он легко всякий раз подключался к актуальному на данный момент и активному. Это называется – следовать моде, на языке упрощённом, но выражающем суть дела. Мода – это всегда очень серьёзно, это кристаллизация общественной актуальности“»{177}.
Итак, в первом номере журнала «Звезда» за 1930 год была напечатана статья Григория Гуковского «Шкловский как историк литературы». Причём эта статья часто перепечатывается в разных биографиях Шкловского, и по её нейтральному названию можно предположить, что Гуковский посвятил знаменитому формалисту спокойное вдумчивое исследование.
Разобрал исторические концепции, обобщил академический опыт старшего по званию учёного.
Это не статья, это акт яростной атаки – так бывает: если из тихого гостиничного коридора вдруг, отворив плотную дверь, зайти в номер – и увидеть, как летает пух из подушек и посуда бьётся о стены, осыпая драчунов.
Да только Гуковский был изящен, и оттого драка выглядела ещё страшнее и завораживающе.
В общем, как писали в те же времена два других классика Ильф и Петров: «Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживлённо трясёт головой».
Гуковский начинал ласково: «За последнее время стало модным бранить В. Б. Шкловского. Специальное научное издание занимается по преимуществу тем, что из номера в номер ругательски ругает В. Б. Шкловского, его учеников и единомышленников. Мне кажется такое нелестное внимание журналистов не вполне оправданным. Тем не менее предлагаемая вниманию читателя статья – о В. Б. Шкловском и его учениках; к тому же и я отношусь к разбираемому материалу в общем отрицательно. Но я подхожу к вопросу иначе, чем авторы некоторых ходячих критик. Я не хочу противопоставить в настоящей статье взглядам В. Б. Шкловского свои взгляды, методологические или историко-литературные. Я хочу только разобраться в последней книге В. Б. Шкловского „Матвей Комаров, житель города Москвы“[95]95
Матвей Комаров (1730-е – 1812) – русский писатель; литературно обработал известные тогда в народе произведения «История Ваньки Каина» (1779), «Повесть о приключении аглинского милорда Георга…» (1782) и другие, став символом «лубочной литературы» и «популярного простонародного чтения».
[Закрыть] и проанализировать её содержание. Моя задача – критика, анализ, а не полемика». И выражал своё недовольство деликатно:
«При этом я сознательно ограничиваю критику проблемами научного мышления, научного аппарата, научной достоверности. Именно с этой точки зрения работа В. Б. Шкловского в особенности спорна.
Будучи теоретиком футуризма, носителем особого футуристического взгляда на искусство, В. Б. Шкловский вместе с кризисом футуризма переживает свой кризис. Раньше он писал статьи по теории литературы, статьи, в которых он анализировал конструкцию словесного произведения, как вещи, сработанной более или менее искусным мастером. Теперь он принимается за историю литературы. Первый опыт в этом направлении – его книга о „Войне и Мире“ Толстого; второй – книга о Комарове.
В. Б. Шкловский не только сам работает на историческом материале, но и учеников своих учит тому же. Мне кажется, что для верной оценки работы В. Б. Шкловского полезно прежде всего ознакомиться с работой его учеников».
Несколько страниц Гуковский посвятил избиению книги Т. Грица, В. Тренина и М. Никитина «Словесность и коммерция (книжная лавка А. Ф. Смирдина)» под редакцией В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума: «Книга эта вызывает возражения по трём пунктам. Во-первых, она методологически беспринципна; во-вторых, материал, приведённый в ней, не сведён воедино, не построен и недостаточно обработан; в-третьих, – этот материал сам по себе недостоверен и случаен. По первому пункту спорить было бы нецелесообразно; у авторов книги своей продуманной точки зрения нет. Они страдают эклектизмом даже несколько наивного свойства. Упрощенческое повторение осколков мыслей Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова и В. Б. Шкловского, собирание фактов и фактиков из истории быта, механическое присоединение к этим фактикам отрывочных кусков социологических построений, неоправданное введение в текст элементов биографии, наконец, решительные наставления и выговоры, обращённые к русской науке, – всё это, перемешанное непонятным образом, не может, конечно, внушить впечатление методологической системы даже самому доверчивому читателю. Следовательно, спорить не о чем…»
Но потом становилось понятно, кто является главным объектом критики: «Протестуя против книги тт. Грица, Тренина и Никитина, я протестую против литературы, популяризующей науку „для бедных“, против лёгкой поживы на полях науки, против научного творчества, орудиями которого оказываются ножницы и клей, против монтажей и полумонтажей; кроме того, выводя на чистую воду тт. Грица, Тренина и Никитина, я протестую против создания легенды о научной школе, ими представляемой, так как, не имея никакой методологии, они не могут быть отнесены ни к какой научной группировке. Ряд, в котором они работают, – не научная школа, а явление литературного быта нашей эпохи, особый вид литературных подделок полубеллетристического, полупопуляризаторского характера».
И тут, поиграв с мышами, Гуковский приступал к главному блюду – книге Шкловского «Матвей Комаров, житель города Москвы».
Гуковский писал: «Сила работ Шкловского заключалась не в фактическом материале; он работал всегда интуитивно, он мог ошибаться в мелочах, мог строить свои теории поверх исторических данных и вне их. Никто не мог поставить в вину Шкловскому эпохи Опояза ни ошибки в фактах, ни недостаток конкретного материала. И то и другое искупалось методологической остротой, законченностью и своеобразием характерного воззрения на искусство, присущего Шкловскому. Многие из элементов „формализма“, как научно-литературного мировоззрения, создались помимо Шкловского; самое движение в науке, обозначенное именем формализма, никоим образом не исчерпывается формулировками Шкловского; наконец, не мало из „формалистических“ наблюдений и теорий Шкловского подсказано его предшественниками и современниками, русскими и западными. Всё это, конечно, не уменьшает значение статей Шкловского. Ничего в истории не падает с неба, а всё растёт на своей почве. Имел почву и Шкловский. Но он воплотил в своих беглых и блестящих формулах искания и идеи научной и литературной мысли футуристической эпохи так отчётливо и так глубоко, как, может быть, никто другой. В этом его оригинальность. Самая исключительность, нетерпимость, резкий и решительный тон суждений, безапелляционность приговоров Шкловского объяснялись и оправдывались убеждённостью и яркостью очертаний литературного мировоззрения».
Собственно, Гуковский перечисляет те выводы Шкловского, которые он делал на материале XVIII века, очищает их от сопутствующих слов и завораживающего языка автора и приходит к собственному выводу о том, что «Шкловский не доказывает своих мыслей»:
«В книге о Комарове его идеи продекламированы, не более. Рассуждения остаются вне материала. Кроме коротеньких вставок в монтаж, они фигурируют во вступлении к книге и в заключении к ней; последнее характерно; в книге о Комарове Шкловский мыслит только тезисами.
<…> Мысль Шкловского сводится к тому, что в XVIII веке было две литературы: „верхняя“ – дворянская и низовая – обслуживающая купцов, мещан, дворовых (всех вместе). Шкловскому, очевидно, кажется, что он „нашёл“ эту вторую литературу, в частности, что он „открыл“ виднейшего, по его мнению, представителя её, Матвея Комарова. Это не совсем так. Вообще говоря, страсть „открывать“ новых непризнанных писателей, „находить“ новые литературные факты или „ряды“ чаще всего свойственна начинающим учёным. Каждый из нас пережил этот период; но затем мы приходим к убеждению, что дело не в том, чтобы посрамить старых историков литературы открытием писателя, ими недооценённого, а в том, чтобы хорошо изучить его.
В особенности же не хорошо открывать Америку. К тому, что было известно о Комарове, Шкловский прибавил слишком мало нового. То же и о низовой литературе вообще. Случайные ссылки на несколько случайно выхваченных из всей этой литературы книг не могут быть названы изучением её. В то же время разбор романов Комарова, данный Шкловским вне изучения всей низовой литературы в целом, внеисторичен и поэтому недостаточно убедителен.
Мне непонятно, почему Шкловский умалчивает о том, что проблема низовой литературы XVIII века была поставлена до него. Ведь он не может не понимать, что такое умалчивание чего доброго внушит читателю мысль, что честь её „открытия“ принадлежит ему, Шкловскому…
Идея о двух литературах – высокой и низовой – всплывает у Шкловского вновь в заключении к книге – и в совершенно неожиданной форме. Здесь сказано уже в порядке тезиса: „Основной линией в литературе XVIII века была не линия, или были не линии, обозначенные фамилиями Кантемира, Державина, и не линия, обозначенная фамилией Карамзина. Не канонизированной, но наиболее сильной по своей тиражности и наиболее важной по количеству литературного изобретательства была группировка Новикова, Чулкова, Попова, Левшина и соседствующая с ней группировка людей типа Матвея Комарова, Филиппова, Захарова и других“. Здесь все бьёт на эффект, но всё голословно и неверно. Почему „основной линией“?
<…> Сама по себе мысль, высказанная им, интересна. Но к сожалению, она никак не показана, не говоря уже о доказательствах. Трудно говорить о целой историко-литературной и (социологической) теории, покуда она выражена в трёх, четырёх афоризмах. Между тем, как сама эта теория, так и формулировки её у Шкловского вызывают сомнения. <…>
Шкловский имеет тенденцию представлять себе эволюцию литературы в виде двух переплетающихся нитей (линий!), двух – и не более. Всё упрощается до крайности. Происходят канонизации и отталкивания, – и все процессы литературной эволюции сводятся к этим двум группам. Николаевская эпоха канонизует Матвея Комарова; этой формулой для Шкловского исчерпывается вопрос об историческом месте почти всей прозы Николаевской эпохи, прозы Гоголя и ряда его современников. Вельтман, Даль – „спокойно продолжают традиции XVIII века“. Это „спокойно“ – „характерно“. Как будто ничего не изменилось; „буржуазия“ и её выразитель – лубок были внизу общества; прошло 60 лет; та же „буржуазия“ со своим выразителем – лубком оказалась наверху общества, и в этом заключалась „эволюция“ низовой литературы; так, по крайней мере, приходится полагать, если довести до ясности замечания Шкловского. Очень сильно вредят этим замечаниям выветрившиеся, в конце концов, уже пустые термины вроде – „линий“ и т. под. Конкретного теоретического содержания такой термин, как „линия“, не имеет, т. е. он не содержит никакого указания на сущность исторического отношения, устанавливаемого между произведениями, составляющими „линию“. Поэтому проведение таких „линий“ методологически произвольно, и поэтому же проведение их слишком легко…
Третья мысль книги Шкловского развита несколько более подробно. Дело в том, что Шкловский указывает ряд сказочных мотивов в составе книг Комарова, в частности в „Невидимке“. Сопоставления эти примечательны. Но на основании их Шкловский делает выводы, не вытекающие из показанного материала. <…> В „Заключении“ Шкловский формулирует опять те же мысли, без особого изменения их.
<…> Если идея Шкловского о молодости сказочного фонда русского народа – не более чем безответственный домысел, то идея о нисхождении литературных произведений из книжной литературы в „народ“ – удивительна в другом смысле… В самом деле, идея Шкловского – трюизм, и остаётся совершенно непонятным, как можно писать научные или даже псевдонаучные книги, не подозревая о существовании этой идеи в науке. Мне кажется, что этот случай открывания Америки ещё более разителен, чем указанные выше; я бы готов был примириться с недостаточной осведомлённостью Шкловского в научной литературе о русском XVIII веке, если бы он хорошо изучил сам материал, т. е. всю массу прозы и стихов XVIII столетия (он и этого, к сожалению, не сделал); но я никак не могу признать, что можно позволить себе строить теории о соотношении фольклорного и книжного искусства, не только не исследуя материал того и другого искусства, но даже и не имея понятия об основных течениях научной мысли в данной области. Ведь это то же самое, что писать книгу по политической экономии, не зная о существовании марксизма, что писать об эволюции видов, не зная ничего о Дарвине. Таковы последствия свойственного Шкловскому натурального хозяйства в науке, последствия, в высшей степени прискорбные, так как те верные мысли, которые имеются в его книге, оказываются обесцененными незаконным присвоением их и сопровождающим это присвоение упрощением их по существу».
Список неточностей, перепутанной библиографии, источников, не содержащих указанных текстов, и занимает последние несколько страниц. Он показывает, что Шкловский неверно понял цитату из Тредиаковского, не знает языка XVIII века и совершает комические ошибки.
Наконец Гуковский припечатывает: «К сказанному выше мне нечего прибавить. Общая оценка книги Шкловского – ясна: книга плохая».
Переведя дух, нужно сказать вот что – многие упрёки Гуковского справедливы. Они ещё и болезненны – потому что он бил Шкловского в самое уязвимое место. Теоретик литературы, по сути, был очень талантливым, одарённым сочинителем. Его строй мышления не был научным, не говоря уже о том, что у него не было достаточного образования и того, что зовётся академической школой.
Такая работа сродни искусству сапёра, занятого разминированием.
Конечно, потом про этих сапёров слагают стихи, но заниматься обезвреживанием фугасов, следуя лишь интуиции, порывам души, – дело неблагодарное и, главное, не длительное.
У Шкловского как-то взорвался в руках запал. Так вот, чувство обиды и боли, когда ему аккуратно отказывали в праве быть учёным, а по сути Гуковский делал именно это, было нестерпимым, как та, десятилетней давности, боль.
За такое хочется задавить броневиком, но война давно кончилась, прежние заслуги были сомнительны, и Шкловский продолжил жизнь и свою литературу – правда, затаив смертельную обиду.
Однако и обижаться нельзя всё время – вот, к примеру, Ильф и Петров в журнале «Чудак» описывали в юмореске «К барьеру!» встречу классиков с современными беллетристами:
«Наиболее любезным и отзывчивым оказался Лев Николаевич Толстой, немедленно ответивший на приглашение телеграммой: „Выезжаю. Вышлите к вокзалу телегу“.
Гоголь, Пушкин, Достоевский и Лермонтов прибыли с похвальной аккуратностью.
Из современных беллетристов пришли – Лидин, Малашкин, Леонов и Пильняк.
Приходили ещё Шкловский и Катаев. Катаев, узнав, что ужина не будет, – ушёл; Шкловский вздохнул и остался.
Когда все собрались, наступило естественное замешательство. Лев Толстой, заправив бороду в кушак, с необыкновенной подозрительностью рассматривал писателя Малашкина. Лермонтов посвистывал. Пильняк растерянно поправлял очки на своём утином носу и, вспоминая, какую ерунду он написал про Лермонтова в своём рассказе „Штосс в жизнь“, уже пятый раз бормотал Шкловскому:
– Но при советской власти он не может вызвать меня на дуэль? Как вы думаете? Мне совсем не интересно стреляться с этим забиякой!
На это Шкловский отвечал:
– Я формалист, и как формалист могу вам сообщить, что дуэль является литературной традицией русских писателей. Если он вас вызовет, вам придётся драться. И вас, наверное, убьют. Это тоже в литературных традициях русских писателей. Я говорю вам это как формалист.
И Пильняк горестно склонялся на плечо Лидина…
Писатели быстро начинают ссориться и ругать друг друга за разные нелепицы. Гоголь, в частности, пеняет Шкловскому: „А кто написал, что ‘Прусская пехота, поэскадронно гоняясь за казаками…’“ – написано сие в „Краткой и достоверной повести о дворянине Болотове“, в сочинении Шкловского. Вот, где это написано, хотя пехота в эскадронах не ходит.
От неожиданности лысина Шкловского на минуту потухла, но потом заблистала с ещё большей силой.
– Позвольте, позвольте! – закричал он.
– Не позволю! – решительно отвечал Гоголь. – Если уж на то пошло, то и наш уважаемый председатель Алексей Максимович чего понаписал недавно в журнале „Наши достижения“! Рассказал он, как некий тюрк-публицист объяснял „…интересно и красиво историю города Баку: ‘Бакуиэ’ называл он его и, помню, объяснял: ‘Бад’ – по-персидски гора, ‘Ку’ – ветер. Баку – город ветров“. А оно как раз наоборот: „ку“ – гора, „бад“ – ветер. Вот какие у вас достижения!
Назревал и наливался ядом скандал. Шкловский рвался к Льву Толстому, крича о том, что не мог старый князь Болконский лежать три недели в Богучарове, разбитый параличом, как это написано в „Войне и мире“, если Алпатыч 6-го августа видел его здоровым и деятельным, а к 15 августа князь уже умер.
– Не три недели, значит, – вопил Шкловский, – а 9 дней максимум он лежал, Лев Николаевич!»
Но между двухголовым писателем Ильфопетровым и Шкловским есть ещё более странные сближения.
У белорусского филолога Федуты есть статья под названием «Остап Ибрагимович Шкловский»{178}.
Это хорошая статья – прежде всего тем, что в ней говорится о совпадениях и общих чертах, но не говорится о том, что Виктор Борисович Шкловский был прототипом Остапа Ибрагимовича Бендера.
Но между тем сами эти общие черты очень примечательны: В «Золотом телёнке» Остап, самозванцем проникнув в поезд писателей и журналистов, тут же решает заработать на «формальном методе». Он говорит журналисту Ухудшанскому: «Вы, я замечаю, всё время терзаетесь муками творчества.
Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрёл такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения».








