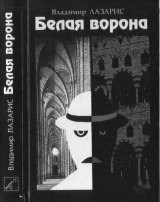
Текст книги "Белая ворона"
Автор книги: Владимир Лазарис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Что за молодежь нынче! Смотреть неловко.
Адель показала ей вслед язык.
«Ну, куда же все-таки ее повести?»
Адель заглянула Домету в глаза.
– Азиз, вы женаты?
– Нет. А почему вы спрашиваете?
Адель сделала несколько шагов, подбрасывая ногой сухие листья, потом остановилась и повернулась к Домету:
– Вы мне нравитесь.
– И вы мне нравитесь.
– А вы не думаете, что я очень испорченная?
– Ну, что вы!
– Сейчас все девушки очень гордятся тем, что они испорченные.
«Она не пошла бы в номера!»
– Вы очень романтичны, Адель.
– Правда?
– Да. Я читаю это в ваших глазах. Таких голубых глаз на Востоке не бывает.
– Ах, как мне хочется на Восток! Это как в сказках «Тысяча и одна ночь»?
– Как в сказках? В общем, да. Сказки там еще можно найти, но их становится все меньше и меньше. А вы, правда, хотите на Восток?
– Ужасно хочу! Папочка, как выпьет шнапса, всегда кричит: «Дранг нах Остен!», «Дранг нах Остен!»[2] Чему вы смеетесь? Тому, что он предлагает идти на Восток?
– Нет, тому, что ваш отец имеет в виду другой Восток. Во время войны он был на Восточном фронте?
– Я не знаю, но он все время рассказывает, как мы били русских.
– Вот видите, его Восток – в России, а мой – в Палестине.
– Тогда я хочу в Палестину.
– Адель, вы знаете, что вы – прелесть?
Следующие две недели они встречались каждый день. Гуляли в парке, ходили в рестораны. Домета часто узнавали. К неудовольствию Адели, смешанному с гордостью, Домета задевали всякие девицы, просили автограф, совали номера телефонов. «Шлюхи противные!»
– А он случайно не еврей? – спросила как-то пухленькая фрау Кебке, вышивая салфеточку.
– Мама, сколько раз я тебе говорила, что он – араб-христианин. Хри-сти-а-нин! Поняла?
– У него, небось, денег куры не клюют, – закатила глаза фрау Кебке.
– Ты все время только о деньгах! При чем тут деньги! Я его люблю!
– Любишь не любишь, а замуж тебе давно пора. Это раньше ты была богатой невестой. Если бы твой отец не разорился из-за проклятой инфляции, ты вышла бы замуж за сына полицмейстера!
– Экое счастье! – Адель передернула плечами. – За этого гнома?
– Твой отец – тоже не великан! Что за важность! Зато не кто-нибудь, а сын полицмейстера! Да ладно, приводи своего писателя, пусть просит твоей руки.
– Да он вроде и не собирается…
– А ты, дурочка, сделай так, чтоб собирался. И не тяни, а то нам и свадебный обед не на что будет приготовить, не то что приданое собрать. Отцу пришлось заложить мою золотую цепочку, а больше и закладывать-то нечего.
Выходя из пансиона и садясь в трамвай, Домет поймал себя на мысли, что скоро увидит сияющую от радости Адель.
«Найдем какую-нибудь скамейку в кустах и будем целоваться. Адель пахнет свежим мылом. Адель-цитадель. Да, собственно, не такая уж она и твердыня. Конечно, ничего лишнего не позволяет, но отталкивает мои руки совсем слабо. Наверняка я ей нравлюсь. Хорошо, что не повел ее в гостиницу. Немецкая девушка – не какая-нибудь шлюха, и отец – строительный подрядчик. Подрядчики всегда богатые. Можно будет жить на ее приданое. И мама торопит меня жениться, в твоем, говорит, возрасте все давно женаты, я внуков хочу нянчить. Адель родит мне детей, будет их воспитывать, а я буду писать. Поселимся в Берлине, в театрах будут ставить мои пьесы, тесть-подрядчик построит нам большой дом…».
Домет чуть не проехал свою остановку.
Небо стало пасмурным, и начал моросить теплый дождь. Домет раскрыл зонт и посмотрел на наручные часы. Еще три минуты.
«А вот и она бежит. Немецкая пунктуальность. Очень красивые ноги».
Он бросился ей навстречу. Они почти столкнулись, и оба рассмеялись. Он наклонился к ее губам и втянул их в свои.
Пока они гуляли, дождь прошел. Адель любила рассматривать витрины. Но вдруг она остановилась у дверей ломбарда.
– Что случилось? – спросил Домет.
– Моя цепочка!
– Вы что, заложили вашу цепочку? Зачем?
– Мне нужны были новые туфли, – соврала Адель, – а папочка ужасно сердится, если я покупаю новые вещи, когда старые еще не сносились. Я и заложила цепочку, а выкупить не смогла. У меня же денег нет.
– Так почему вы не попросили у отца? – удивился Домет.
– Да вы его не знаете. Он меня всю жизнь в строгости держит, говорит, деньги копить надо, а не тратить.
– Это верно, – одобрил Домет, представляя, сколько денег накопил строительный подрядчик.
Они зашли в ломбард, и Домет выкупил цепочку.
Рядом с ломбардом был часовой магазин. Адель остановилась у витрины.
– Азиз, пожалуйста, купи папочке в подарок эти часы, он сразу растает. У него как раз часы сломались.
Ему не послышалось, она сказала ему «ты». Да еще подарок попросила купить. Значит, его приглашают домой. Улыбка Адели не оставляла сомнений: поцелуи на скамейке скоро кончатся.
Они зашли в магазин. Домет попросил показать карманные часы из застекленного прилавка. Хозяин вынул их, нажал на кнопку, крышка мягко щелкнула, и часы заиграли «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»[3]. Адель захлопала в ладоши и поцеловала Домета в щеку.
Цепочку Адель сразу надела на шею, а часы в красивой коробочке Домет положил в карман.
Визит в семью Кебке был назначен на ближайшее воскресенье.
Следующие два дня Домет размышлял о своей будущей жене. Воспитанный в немецком духе, он разграфил листок бумаги на две части и в левой начал писать в столбец достоинства Адели. Немка. Молодая. Красивая. Отец – подрядчик.
Что же в правом? Легкомысленная…
Домет зачеркнул это слово, порвал листок на мелкие кусочки и выбросил в мусорную корзину.
С утра Домет купил букет белых роз для фрау Кебке и попросил фрау Хоффман, чтобы служанка хорошенько отутюжила его брюки. Положил сорочку на постель, долго прикладывал к ней разные галстуки и выбрал строгий темно-синий.
Угрюмый таксист привез Домета в небогатый район Кройцбург и остановился у нужного дома. Домет расплатился, вышел и увидел в окне с геранью Адель. Она выскочила на крыльцо в нарядном платье с кружевами и поцеловала Домета в губы.
– Идем, – прошептала она.
В гостиной Домета ожидали фрау и герр Кебке. Оба небольшого роста. Лунообразное лицо фрау Кебке с маленькими глазками излучало благовоспитанность, что вряд ли можно было сказать о герре Кебке. У него была раздражающая привычка все время потирать руки и выпячивать нижнюю губу. На столе стоял графинчик с напитком сомнительного цвета, а из кухни тянуло сомнительным запахом. У супругов Кебке на лбу было написано, что главная их забота – выдать дочку замуж. И как можно скорее.
После первых приветствий Домет протянул цветы фрау Кебке и увидел у нее на шее знакомую цепочку. Адель бросила на мать угрожающий взгляд.
– Ах, герр Домет, – промурлыкала фрау Кебке, – мы так рады видеть вас в нашем доме. В честь такого гостя я даже надела дочкину цепочку.
– Мы с мамой, – вставила Адель, – часто меняемся драгоценностями.
– А я – человек простой, – просипел герр Кебке. – Драгоценностей не ношу. Вот они, мои драгоценности! – и он показал на жену с дочерью.
Тут Домет достал из кармана коробочку с часами и подал герру Кебке.
– Что это? – удивился тот, открывая коробочку. – Боже! Часы! Золотые? Не может быть! Мне?
Домет с улыбкой поклонился.
«Какой богач! – подумала про себя фрау Кебке, жалея, что получила только цветы. – Правда, он выкупил мою цепочку. Ладно. Главное, чтоб женился».
Герр Кебке нажал на кнопку и при первых же тактах гимна встал во фрунт и запел вместе с часами. На глазах у него выступили слезы. Он обнял Домета, и тот почувствовал, как от его будущего тестя разит спиртным.
По всей гостиной – на диване, на тумбочках, на буфете – лежали вязаные салфеточки. А на стенах висели картины: ангелочки над влюбленной парочкой, ангелочки над детской колыбелькой и просто ангелочки. Под столом спал кот с розовой ленточкой на шее. На камине, раскинув крылья, стоял огромный деревянный орел, перед ним выстроились по росту семь белых слоников, а по бокам высились узкие вазы из цветного стекла с букетами высушенной травы, похожей на страусиные перья. Угол возле окна занимал огромный фикус, а на окне висела клетка с канарейкой.
– Чего же мы ждем? Прошу к столу! – закричал герр Кебке, похлопывая по жилетному карману с новыми часами.
Гостя посадили во главе стола. Слева от него села Адель, справа – фрау Кебке, а на другом конце стола – герр Кебке.
После первого обмена любезностями Домет встал и, одернув пиджак, торжественно попросил у родителей руки их дочери.
Адель зарделась и бросилась в объятия матери. Фрау Кебке не могла сдержать слез. Герр Кебке прочистил нос, потом – горло и сказал:
– Герр Домет, вы забираете у нас единственную дочь, но я надеюсь, что в вашем лице мы обретем сына.
Фрау Кебке зарыдала в голос и хотела поцеловать будущего зятя, но дотянулась только до его плеча и поцеловала пиджак.
Герр Кебке быстро наполнил рюмки и предложил тост за молодых. Домет только пригубил эрзац-шнапс, а невеста с матерью пили вишневую наливку. Герр Кебке залпом выпил первую рюмку, налил вторую и поднял тост за кайзера.
– А вы знаете, герр Кебке, – сказал Домет, – я видел самого кайзера.
За столом наступила благоговейная тишина, и Домет рассказал о визите кайзера в Иерусалим. Потом оказалось, что будущий муж Адели и герр Кебке были союзниками на фронтах Первой мировой войны. Выпили и за это.
К тому времени, когда фрау Кебке внесла блюдо с индейкой странного вида, мужчины сидели на диване и громко распевали бравые солдатские песни. Потом герр Кебке вытащил нечто похожее на сигару, закурил и гордо сказал:
– Гавана!
Но от «гавани» пошла такая вонь, что фрау Кебке возмущенно замахала руками и выгнала мужа из гостиной.
Пока мужа не было, фрау Кебке отвела Домета в спальню и рассказала, какую перину, какие подушки, сколько салфеточек, сколько покрывал и сколько серебряных ложечек Адель получит в приданое. О деньгах разговора не было, но Домет был уверен, что для единственной дочки папаша Кебке не поскупится. Поэтому он был несколько удивлен, когда ему пришлось заплатить и за свадебный туалет Адели, и за свадебный обед да еще нанять извозчика, чтобы отвезти все семейство в церковь и обратно.
В первую брачную ночь оказалось, что в постели девицам из солдатских борделей Бейрута и Константинополя есть чему поучиться у молодой жены Домета.
Но самый неприятный сюрприз ожидал Домета наутро, когда на его деловой вопрос о денежной части приданого фрау Кебке, покраснев до ушей, начала смущенно мямлить:
– Дело в том, дорогой зять…
– Денег нет, – отрубил герр Кебке, – и тупо посмотрел на Домета.
– Но вы же – строительный подрядчик! – Домет все еще не верил, что его обвели вокруг пальца.
– Я разорился. – Герр Кебке потянулся за стоявшей в буфете бутылкой шнапса, но жена ударила его по руке.
Тут из соседней комнаты впорхнула Адель и прижалась к Домету.
– Что за важность, Азиз! Какое значение имени папины деньги! У нас есть свои. Верно?
– В самом деле, – обратился герр Кебке к Домету. – Вы же человек состоятельный.
– Зато уж перину с подушками вы получите на всю жизнь, – попыталась разрядить обстановку фрау Кебке. – И шесть серебряных ложечек.
– Как шесть? – возмутилась Адель. – Ты же говорила, дюжину!
– Трудные времена, – прошептала фрау Кебке, прикладывая к глазам носовой платочек. – Осталось только шесть.
Позже, пересчитав тайком от жены наличные деньги, Домет понял, что их и на месяц жизни в Берлине не хватит. Последняя надежда – Гепхард. Тот задолжал ему за две пьесы.
У входа в театр Домет встретил заплаканную Эдит Визе.
– Что случилось? – спросил он, отгоняя дурное предчувствие.
Фрейлейн Визе схватила его за руку.
– Какой негодяй! – произнесла она, четко выговаривая каждое слово. – Ну, какой негодяй!
– Кто негодяй?
Фрейлейн Визе отпустила руку Домета и недоверчиво спросила:
– Разве вы ничего не знаете?
– Нет.
– Гепхард сбежал.
– Как сбежал?
– Очень просто: продал весь реквизит, прикарманил наши деньги и сбежал. Говорят, в Америку.
– А как же театр?
– А он и театр продал. Может, вы проводите меня домой, и мы выпьем настоящего кофе? – игриво спросила она Домета.
– Очень сожалею, но меня ждет жена.
– Ах, вы женаты… – разочарованно протянула фрейлейн Визе.
– Как раз вчера женился.
– Ну что ж, тогда прощайте.
Вскоре супруги Домет уехали в Палестину.
5
В Хайфе молодожены поселились на склоне горы Кармель, в верхней части квартала Вади-Ниснас, где жили в основном арабы-христиане. Азиз и Адель сняли небольшой домик из двух комнат по соседству с семьей Домета. К этому времени Салим вернулся из Египта, а Амин – из Ливана.
В одной комнате была гостиная с обеденным столом и с буфетом, в другой – спальня, она же и кабинет Домета. Там стояли двуспальная кровать, письменный стол, книжный шкаф и три стула. Больше ни для чего не оставалось места.
Со свекровью у Адели сразу не сложились отношения. Целыми днями Адель рассматривала привезенные из Берлина старые иллюстрированные журналы. А через год после приезда родилась дочь, которую назвали Гизеллой. После родов Адель сильно располнела и стала похожей на свою мать. Теперь Адель была занята все время: с маленьким ребенком забот по горло.
Домет сидел у кроватки, где лежала его плоть от плоти, кровь от крови с такими же, как у него, черными глазами, похожими на хевронские маслины.
– Какие цепкие ручонки! Всего ничего, еще и не человек, а как крепко держит меня за палец! Не сразу выдернешь, – умилялся он. – Почему она хнычет? Может, у нее что-то болит? Гизелла, детка, что у тебя болит, а? Животик? Ну, скажи папе, что болит?
– Боже мой, Азиз, – не выдержала Адель, – ну, как она тебе скажет, когда она еще не говорит.
– Я знаю. Но ребенок должен слышать, что с ним разговаривают. И чем больше, тем раньше он заговорит.
– Ты лучше со мной поговори.
– О чем?
– Ах, со мной уже и говорить не о чем? А когда ты ко мне сватался, рта не закрывал!
– Сватался? Да это ты меня под венец затащила. Ты и твоя мамаша с ее дюжиной серебряных ложечек.
– Ты, что, так и будешь всю жизнь меня попрекать этими проклятыми ложечками? Лучше бы на себя посмотрел: денег на семью заработать не можешь. Все сидишь и пишешь. Нашел бы работу, а то мы скоро по миру пойдем. Не забывай, что у тебя жена и ребенок.
Ребенок! Дочь! А Домет так ждал сына, для которого уже было готово имя Сулейман в честь его отца.
Адель настаивала, чтобы дома говорили только по-немецки.
– А с кем же Гизелла будет говорить по-арабски? – спросил Домет.
– С нянькой. Возьмем няньку, и пусть она говорит с ребенком по-арабски. А со мной моя дочь будет говорить только по-немецки.
– Но ты же знаешь, что у нас пока нет денег на няньку, а моя мама не знает немецкого. Так что же, она так и не сможет поговорить с собственной внучкой?
– Будут деньги, будет нянька. А мамочка твоя потерпит. В моем доме будут говорить только по-немецки. Я по-вашему не понимаю.
Чувствуя себя победительницей, Адель пошла вешать белье, бормоча на ходу: «Что за страна! Даже балконов нет. Белье на крыше вешать надо!»
На соседних крышах женщины тоже развешивали белье, громко переговариваясь о чем-то. При виде Адели они замолчали, потом одна из них что-то сказала, и все громко засмеялись.
Адель поняла, что смеются над ней, покраснела и убежала в дом.
Когда Адель вошла, Домет сидел возле письменного стола и писал, напевая «Ах, майн либер Августин». Гизелла смеялась. Завидев жену, Домет перестал напевать, и Гизелла заплакала.
Детский плач раздражал Домета. Вдохновение как рукой снимало. Да и то, что он не работал, не прибавляло вдохновения: семью кормить-то надо.
В один из таких дней, когда у Домета было особенно скверно на душе, пришел его младший брат Амин и сказал, что есть вакантное место учителя в мусульманской школе, которой заведует отец его старого приятеля. Они пошли к нему. После беседы с Дометом директор предложил ему занять место учителя арабского и немецкого языков с окладом в размере двух фунтов в месяц. У Домета впервые появился твердый заработок, и он воспрянул духом. Но делом всей жизни оставались пьесы, а дома не было условий, чтобы их писать. Сначала Домет по привычке пытался писать в кафе, но быстро понял, что он не в Европе. Там ему никто не мешал. Тут к нему все время подходят знакомые: одни спрашивают, как дела, другие интересуются успехами своих детей. Увидев его с блокнотом, все задают один и тот же вопрос: «Никак новую пьесу пишете?» Кончилось тем, что Домет снова начал писать дома, а в кафе ходил только, чтобы встречаться с друзьями.
Среди друзей были и евреи из местной интеллигенции: адвокат Авраам Вейншал, учитель реальной гимназии Меир Хартинер и популярный в городе гинеколог Элияху Урбах, который сам принимал роды у Адели. С ними всегда было интересно беседовать, потому что они много видели, много знали и, что важнее всего, смотрели на все еврейскими глазами, вводя Домета в новый, незнакомый ему мир. Вейншал любил вспоминать о юношеских годах сионистской борьбы на Кавказе и в Швейцарии. От него Домет впервые услышал о сказочно красивом городе Баку, где евреи всегда ладили с мусульманами. Хартинер был неисчерпаемым источником историй о еврейском заселении Эрец-Исраэль, как он называл Палестину. Но ближе всех Домету был доктор Урбах – выходец из Германии, который во время войны сражался в немецкой армии. Батальонный врач на французском фронте, он открыл полевой госпиталь в хижине, которую назвал «Вилла Хайфа». Домет был потрясен, узнав, что в этой «Вилле Хайфа» под артиллерийским обстрелом доктор Урбах написал книгу «Пророчество», посвященную библейским пророкам. «Еврейские пророки, – шутил Урбах, – спасли немецкого офицера от французской пули».
Обычно друзья встречались в конце недели в кафе на улице Бальфура, где играл оркестр Дунаевского.
Однажды Вейншал сказал Домету, что у этого Дунаевского есть младший брат в России, который играет на пианино.
– Ну, что ж, – усмехнулся Домет, – и у меня есть младший брат, который играет на пианино. И даже выступает с концертами.
Потом заговорили о школах. Чем отличается еврейская школа, где преподает Хартинер, от арабской, где преподает Домет.
Домет сокрушался, что его ученики какие-то забитые: смотрят учителю в рот, боятся поднять руку, сидят так тихо, что порой кажется, будто работаешь в пустом классе.
– Вот бы мне такой класс! – позавидовал Хартинер. – А то я иногда сам себя не слышу. Наглецы, конечно, но с перцем, и очень развитые дети.
– А у вас на уроках о политике говорят? – поинтересовался Урбах.
– А что, – сказал Хартинер, – бывает, и о политике. Они же дети. Что слышат дома, о том и говорят. К тому же они – большие патриоты.
– У меня тоже дети говорят о том, что слышат дома, – с заметным огорчением сказал Домет. – А слышат они, что надо… простите, избавиться от евреев. Вы даже не представляете, что им вбивают в голову дома и в школе.
– Как же такое может быть в христианской школе? – спросил Урбах.
– Я не знаю, может ли быть такое в христианской школе, я-то преподаю в мусульманской.
Под разговор друзья заказывали вскладчину бутылку французского вина или ликеру.
– Нам повезло, что вы не мусульманин, Азиз, – подшучивал круглолицый Вейншал, чокаясь с Дометом. – А то не пить бы нам вместе этот божественный ликер.
Домету было хорошо с этими образованными людьми, которые несли просвещение дикому Востоку. Они видели в Азизе друга, а не араба, как и он видел в них друзей, а не евреев.
В Хайфе евреи и арабы жили бок о бок: от главной улицы Халуц до Кармеля – еврейская часть города, на Кармеле и в прибрежной части – смешанные кварталы, в перенаселенном Вади-Ниснас, по соседству с Немецкой колонией – арабы-христиане и в нижнем городе – мусульманская беднота. Арабы-христиане были богаче арабов-мусульман. Такие кланы, как Бутаджи, Тума и им подобные, владели обширными земельными участками, вели европейский образ жизни и детей отправляли учиться в Европу.
Как раз в Хайфе и появился первый еврейско-арабский профсоюз. Но если евреи хотели бороться за улучшение условий труда, то со временем арабы все больше и больше хотели бороться с евреями. Дело в том, что арабская беднота из окружающих городков и деревень, составлявшая главную и дешевую рабочую силу, со страхом смотрела на прибывающих в Хайфу евреев, вытеснявших арабов с рынка труда.
А прибывающие из разных стран евреи начинали строить заводы – стекольный, цементный, мукомольный, не говоря уже о созданной бывшим русским революционером Пинхасом Рутенбергом Электрической компании, куда арабов вообще не брали. Борьбе арабов против евреев за рынок труда способствовало и то, что городской голова Абд эль-Рахман эль-Хадж евреев просто не любил. А тут еще появилась Декларация Бальфура, даровавшая евреям Национальный очаг в Палестине. Против нее в городе прошло несколько демонстраций. Мусульманские проповедники призывали арабов создать свое правительство, свергнуть власть англичан и аннулировать Декларацию Бальфура. Состоялась арабская демонстрация и против визита Уинстона Черчилля, и на ее фоне местный муфтий довел своими проповедями антиеврейские настроения до такого накала, что арабская толпа двинулась к площади Хамра бить евреев. Но ее встретила английская полиция, открывшая огонь на поражение. Двое арабов были убиты. Остальные разбежались, успев по дороге избить нескольких евреев. Во время похорон убитых арабов в городе были закрыты все арабские магазины.
В такой обстановке арабы и евреи начали готовиться к выборам в городское Законодательное собрание.
Азиз Домет был далек от политики. После Берлина Хайфа казалась ужасно провинциальной. Большинство евреев, конечно кроме выходцев из Германии и его соседей из Вади-Ниснас, не носят галстуки; на весь город всего два банка – «Англо-палестинский» и «Барклис», один кинотеатр «Ора», он же – «Народный дом», и три кафе, из них два – еврейских и одно – арабское. Ни кабаре, ни настоящих театров, одним словом – провинция. Но Домет не сомневался, что со временем трудолюбие евреев-мечтателей превратит захудалую Палестину в часть Европы, а Хайфу – в Баку. С другой стороны, провинциальный уклад жизни позволял сосредоточиться на работе. Нет, не в школе, конечно, где он поневоле морщился, когда ученики произносили немецкие слова, а заработка едва хватало, чтобы прокормить семью. Оживал Домет за письменным столом после того, как закрывал дверь, чтобы не слышать ни глупостей Адели, ни плача Гизеллы.
Адель хотела богатой жизни, вечно жаловалась, ходила надутая.
– Ты разве не видишь, что я донашиваю старье, которое привезла из Берлина? Ты же мне еще ни одного платья не купил!
– Вот и донашивай. Сама же говорила, что отец тебя так воспитал.
– Ты что, издеваешься? Мне тут и выйти некуда, и поговорить не с кем. Хоть бы кто-нибудь по-немецки понимал!
– А доктор Урбах?
– Вот еще, буду я с евреем разговаривать!
– Он же у тебя роды принимал!
– Подумаешь! Это же – его работа. Он за это деньги получает.
– Ну, и дрянь же ты! Все деньгами меряешь!
– Сам ты – дрянь. На папочкины денежки кто позарился?
– Да вы же меня просто надули!
– Ага, значит, я права, значит, ты не на мне женился, а на деньгах, и еще меня дрянью обзываешь! Постой, куда ты? Азиз! Куда ты? Опять к своим евреям? Только с ними все время и проводишь. Все разговоры только о них. Думаешь, тебе от них какая-нибудь польза будет? Черта с два! И не смей хлопать дверью!
Домет пошел к матери, перебирая в голове одни и те же мысли.
«И это – семейная жизнь? Господи, как надоело все время слышать ее крики! Как хочется тишины! Как хочется быть одному!»
– Опять поругались? – с порога спросила мать, взглянув на сына.
Домет опустил голову.
Они сели за стол и начали есть.
– Чего она теперь от тебя хочет?
– Хорошей жизни. Ходить в гости, в рестораны.
– Слава Богу, что соседи ее не слышат.
– Но Адель тоже можно понять. Целый день одна с ребенком, поговорить не с кем. Она же не понимает ни слова по-арабски.
– Могла бы и выучить. А если не выучила, пусть с тобой говорит. Ты – ее муж.
– Со мной она уже наговорилась. Теперь хочет с другими. С тобой, вот. Ты же – ее свекровь.
– Мальчик мой, я уже в том возрасте, когда и учиться бесполезно, и волноваться вредно. Ты же знаешь, что у меня на примете была для тебя другая невеста. И красивая, и хорошо воспитанная, и богатая. Зачем тебе понадобилась немка?
– Ну, мама, что плохого в том, что Адель – немка?
– Плохого, может, и нет, но ты не хуже меня знаешь, что она – чужая.
– А что ты сказала бы, женись я на еврейке?
– Хоть на еврейке, хоть на немке – никакой разницы нет: жениться нужно на своих.
– Может, ты и права.
– А твоя невеста еще не замужем, – оживилась мать. – Поговорить с ней?
– Это еще зачем?
– Затем, что с чужими счастью не бывать. Попомни мои слова. Конечно, Адель родила мне внучку. А лучше бы внука.
– Может, она еще родит тебе и внука.
– А ты этого хочешь?
Домет молчал.
– Что ж ты молчишь, мой мальчик?
– Не хочу врать.
– Мне?
– Себе. Если бы не ребенок, я давно от нее ушел бы.
Мать опустила глаза.
– Как обед?
– Очень вкусно. Как всегда.
Когда Домет вернулся домой, Адель еще не спала.
– Будешь есть?
– Нет.
– Мамаша уже успела накормить?
– Не трогай мою мать.
– А с чего это она меня так возненавидела? Что я ей плохого сделала? Мои родители приняли тебя как сына.
– Чтобы облапошить.
Адель зарыдала.
В постели Домет как бы невзначай прикоснулся к плечу Адели. Плечо дрогнуло. Он прижался к ней. Она застыла. Потом резко повернулась к нему. Он целовал ее заплаканные глаза, а она лихорадочно нашептывала ему на ухо бессвязные слова, прерываемые всхлипами и вскриками. Ночью Адель была лучше, чем днем.
Адель уже заснула, а Домету опять начали лезть в голову всякие мысли. Главным образом – о деньгах.
«Полтора фунта за квартиру… Зеленщик подождет, ничего с ним не случится. За перепечатку рукописи еще не заплатил, а это важнее зеленщика. Новое платье для Адели… Откуда я возьму ей денег на новое платье? Как меня надула ее семейка! Неужели евреи могли бы меня так обмануть? Никогда! Евреи – народ Библии. Господи, как все повторяется. Евреи снова совершают Исход, только не из Египта, а из Европы. Снова идут на Землю обетованную, где им уже ни с кем не придется воевать. А я, слава Всевышнему, живу в это время. Не говоря уже о том, что возвращение евреев на Святую землю ~ это исполнение библейских пророчеств. Я хочу писать о евреях и арабах, перековавших мечи на орала».
x x x
Меир Хартинер с Дометом сидели на лавочке в Бахайских садах.
– Случилось это ровно два года назад, – вздохнул Хартинер, – когда убили Трумпельдора.
– Кого? – переспросил Домет.
– Трумпельдора. Разве вы о нем не слышали? – удивился Хартинер.
– Нет.
– Да что вы! Впрочем, вы же тогда были за границей. Если бы вы только знали, Азиз, что это был за человек!
И Хартинер подробно рассказал Домету об одноруком герое русско-японской войны, который погиб, защищая от арабов еврейское поселение Тель-Хай.
По странному стечению обстоятельств не прошло и нескольких дней, как Домет увидел в «Палестайн пост» заметку под названием «Скандал с памятником Трумпельдору». Тут же была помещена фотография памятника и написано, что скульптор Гордон, новый репатриант из Америки, выставил в Тель-Авиве макет памятника: бюст Трумпельдора в окружении льва, орла и двух детей. «Публике этот макет очень понравился, – писал автор заметки, – но, поскольку не нашлось ни одной общественной организации, готовой взять на себя расходы по установке памятника, разгневанный скульптор разбил макет и отбыл обратно в Америку».
Домет долго всматривался в строгое и скорбное лицо Трумпельдора, в котором в самом деле было что-то если не от льва, то уж точно от орла. Понятно, зачем скульптор добавил детей: они придут на смену Трумпельдору. И хорошо, что он изобразил его в военной форме.
«Хартинер сказал, что у Трумпельдора не было одной руки. Левой или правой? И как он стрелял одной рукой? И когда он приехал из России? Знал ли он древнееврейский язык? Кем были его товарищи, которых он повел в бой? И что за арабы на них напали? Как погиб Трумпельдор?»
В следующую встречу с Хартинером Домет записал все, что тот ему рассказал, и получил адреса людей, лично знавших Трумпельдора.
Домет сам не заметил, как начал писать пьесу «Йосеф Трумпельдор».
6
Авигдор Амеири приехал в Эрец-Исраэль, когда за спиной у него уже были и война, на которой он командовал ротой в австро-венгерской армии; и год русского плена в Сибири, где он выучил русский язык, включая отборный мат; и два года жизни в Одессе в самый разгар гражданской войны; и один довоенный сборничек стихов, изданный еще в родной Венгрии под тогдашней его фамилией Фойерштейн, а в руках – целый чемодан рукописей. Зная иврит, он начал работать в газете «ха-Арец».
Как-то раз редактор предложил ему съездить в Хайфу.
– Есть там один интересный араб.
– Араб? – переспросил Амеири.
– Да. Он написал пьесу о Трумпельдоре.
– То есть как? Почему о Трумпельдоре?
– Вот и я удивился, но не все же арабы – враги.
– А я думал, все.
– Нет, как видите, бывают исключения, и он – одно из них. Вот вам рукопись, почитайте, поговорите с этим арабом, его зовут Азиз Домет, а потом напишите статью.
Амеири взял рукопись. В ней было сорок пять страниц убористого текста на немецком языке, написанного каллиграфическим почерком.
Вернувшись домой, Амеири начал читать. Драма в трех актах. На великолепном немецком араб описывал последний день жизни еврейского героя Йосефа Трумпельдора, который погиб совсем недавно, и эта рана еще не зажила.
Чем больше Амеири читал, тем больше росло его удивление: Азиз Домет восхищался Трумпельдором так, как если бы героем был не еврей, а араб.
Отчаянно смелый солдат, борец за сионизм, пожертвовал своей жизнью, защищая от арабов еврейское поселение Тель-Хай. Не менее поразительно и то, что союзниками Трумпельдора были галилейские арабы во главе с вымышленным молодым шейхом Абдар-Раифом, который относился к евреям, как к братьям. Трумпельдора и Абдар-Раифа пытается поссорить некий иностранный офицер, надо полагать – английский, но ему это не удается. Шейх влюблен в красавицу Двору, которая не отвечает ему взаимностью, но это не мешает шейху произносить пламенные речи о необходимости строить новую Палестину рука об руку с евреями. И Трумпельдор, и шейх написаны очень живо. Во втором акте перед зрителями проходит жизнь киббуца, члены которого все душевные силы отдают работе и личная жизнь отходит на второй план (очень верно подмечено). Члены киббуца мастерят хупу[4] для Трумпельдора с Саррой. Дойдя до этого места, Амеири невольно усмехнулся, потому что об увлечениях Трумпельдора ходили легенды, но ни одной девушке так и не удалось завлечь Осю под хупу. Третий акт – поселение окружают несколько сотен арабов: они требуют открыть ворота, чтобы провести обыск. Бой, в котором погибают и Трумпельдор, и шейх Абдар-Раиф.








