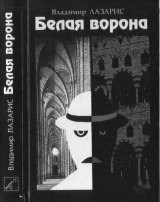
Текст книги "Белая ворона"
Автор книги: Владимир Лазарис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Очень скоро «Аль-Кармель» стала ежедневной газетой, штат увеличился втрое, а у главного редактора Азиза Домета появилась личная секретарша.
По определенным дням Домет встречался с Кляйнштоком на явочной квартире, и они обсуждали положение в Палестине, политические новости и людей, которые интересовали капитана.
Раз в месяц Кляйншток платил Домету жалованье как редактору газеты и брал у него расписку.
Домет шел в гору. Деньги помогали скрашивать семейную жизнь, позволили переехать поближе к Бахайским садам, Адель начала покупать себе наряды и принимать гостей, говоривших по-немецки, у Гизеллы появились новые куклы, и у них теперь были только немецкие имена.
х х х
Страшный взрыв на арабском базаре потряс всю Хайфу. Среди разнесенных в щепки овощных лотков в лужах крови лежали десятки убитых и раненых. Арабы обвинили евреев в убийстве невинных людей, а евреи обвинили арабов в том, что те устроили взрыв, чтобы оправдать погром против евреев. В редакционной статье «Аль-Кармель» написала, что «евреи не сломят свободолюбивый дух палестинских арабов», процитировала Гитлера: «Лучше мир протестовал бы против угнетения брошенных на произвол судьбы арабов в Палестине, чем нападал на Германию» – и выразила уверенность, что взрыв на хайфском базаре – «дело рук сионистов во главе с Бен-Гурионом».
А Бен-Гурион в беседе с наместником утверждал, что взрыв на базаре – дело рук арабов, завербованных нацистскими агентами.
На очередной встрече с Кляйнштоком Домет спросил, знает ли тот что-нибудь о взрыве.
– Смутное время, герр Домет, – спокойно ответил Кляйншток, – самое подходящее, чтобы сеять панику в рядах противника.
Кляйншток периодически бывал в немецких колониях Иерусалима и Тель-Авива, а также в немецком консульстве. На смену прежнему генеральному консулу – либералу, да еще и женатому на еврейке, в Палестину приехал новый генеральный консул – член национал-социалистской партии Эрик Шульц, которого Кляйншток считал набитым дураком. При виде Кляйнштока он вытягивался в струнку, без лишних слов обеспечивал ему телефонную связь с Берлином и возможность пользоваться дипломатической почтой.
Во время очередного визита к новому генеральному консулу Кляйншток спросил его:
– Что хочет от нас эта старая лиса муфтий? Мы ему уже помогли и деньгами, и оружием. Что ему еще нужно?
– Создать национал-социалистскую арабскую партию в Палестине.
– Он того и гляди объявит себя арабским фюрером. Вы запросили Берлин?
– Да. Мне ответили, что членом национал-социалистской партии может стать только ариец.
– Муфтию вы этого еще не передали?
– Не успел.
– И не передавайте. А что с евреями? Они тоже ищут контактов с Германией?
– Кое-кто со мной уже встретился.
– Кто же?
– Этот человек сказал, что он – член еврейской подпольной организации, но не назвался.
– Интересно. Уж не хочет ли эта еврейская организация получать помощь от Германии, чтобы избавиться от англичан?
– Именно так он и сказал. Вы что, уже с ним встречались?
– Нет, но их резон вполне понятен: «Враг моего врага – мой друг». А что он хотел от вас?
– Чтобы я передал в Берлин его предложение сотрудничать с нами.
– Вы передали?
– Не успел еще. Дела заели.
– А как вы должны с ним связаться?
– Он сказал, что сам со мной свяжется.
– Сообщите мне заранее о месте и времени вашей следующей встречи. И не забудьте, что со мной «не успел еще» не пройдет. Вы меня поняли, Шульц?
– Не извольте беспокоиться, герр Кляйншток.
Время от времени в «Аль-Кармель» появлялись безобидные объявления о продаже велосипедов и скупые заметки о велогонках в Европе. И в тех, и в других была зашифрована информация для агентуры Кляйнштока по всей Палестине.
11
Летом Домет с Аделью и Гизеллой поехали в Ливан отдохнуть и повидаться с престарелым дядюшкой Джабаром.
Дядя написал, что будет рад встрече с племянником. Путешествие на поезде было для Гизеллы в диковинку, и она всю дорогу не могла оторваться от окна.
Домет снял дачу в Эйн-Софар, где во время войны размещалась его часть. Там мало что изменилось с тех пор, разве что в казино пускали всех, у кого были деньги, а среди дачников Домет увидел шумных палестинских евреев, которые вели себя так, будто они дома, и поморщился.
Дядю Джабара Азиз в последний раз видел на похоронах отца. Дядя уже не преподавал в университете. Он жил в просторных апартаментах, стены были заставлены книжными шкафами, но в них уже не было места, и книги лежали на столах, на стульях и даже на рояле, на котором дядя в молодости любил играть. Он давно овдовел, и хозяйство вела неприветливая экономка. Она же присматривала за дядей и называла его «господин профессор».
Дядя очень состарился, но сохранил прежнюю величественную осанку.
– А ты повзрослел, – сказал дядя после объятий. – Я помню тебя еще мальчиком.
– С тех пор много воды утекло, – заметил Домет, а про себя подумал, что его отец тоже мог бы дожить до таких преклонных лет. – Дядя, как ты себя чувствуешь?
– Я себя уже не чувствую, – вздохнул дядя. – Для меня время остановилось, а я все еще продолжаю двигаться. Всю жизнь меня занимало только прошлое, с настоящим я мирился, а будущим не интересовался.
– А меня как раз всегда интересовало будущее, – сказал Домет.
– Не одного тебя. В старину люди ходили узнавать будущее к оракулу, сегодня ходят к гадалке.
– У гадалки я уже был.
– И что она тебе нагадала?
– Не знаю. Я ушел не дослушав.
– Испугался?
– Да.
– Ну, и правильно сделал, что ушел. Пути Господни неисповедимы, пусть они такими и остаются.
– Что ты сейчас пишешь?
– Сейчас я не столько пишу, сколько думаю.
– О чем же?
– О закате Востока и о новой породе человека под названием левантиец, или, проще говоря, восточный человек. Ты ведь читал «Закат Европы» Шпенглера?
– Да.
– Тогда ты, должно быть, помнишь его мысль об опасности, которая исподволь подкрадывается и к Востоку. Да, Восток до недавних пор еще сохранял привычный образ жизни, вековые моральные устои, которые делают человека более порядочным, более терпимым.
– Но, дядя, ты же не станешь отрицать, что на Востоке всегда хватало жестокости, попрания личности.
– Не стану. Но наряду с ними на Востоке сохранялись и сострадание, и человеколюбие, и чувство локтя, чего уже давно нет на Западе. Там, как ты знаешь, жестокость, несправедливость, подавление личности возведены, если не в закон, то в норму общественной жизни, чего на Востоке пока еще нет. Здесь остаются прежние устои: люди, независимо от того, на какой ступени иерархической лестницы они стоят, пекутся о своих родителях, верят в Творца и в установленный Им порядок вещей. Когда-то на Западе было все то же самое, но Запад давно изменился, а Восток – пока еще не совсем.
– Чем же ты это объясняешь?
– Тем, что в современном мире сократились расстояния, увеличилась зависимость Востока от Запада, от его промышленности, от международных финансов. Западом завладела жажда наживы. Она сметает все на своем пути, не считаясь с моральными устоями. Не то чтобы Восток никогда не знал этой жажды – просто она не была всепоглощающей. «Закат Востока» – вот как я назову свою книгу, если Всевышний даст мне время ее написать.
Что же касается левантийца, то раньше так называли жителей стран восточного побережья Средиземноморья, а теперь левантиец – это понятие. В него входят лень, зависть, гордыня, и никакой связи между местом проживания и этим понятием нет. Наряди левантийца в европейское платье – и он сойдет за европейца. Падение Рима объясняют тем, что в нем больше не оставалось римлян. Падение Востока будут объяснять тем, что на нем не осталось арабов. А если и остались, то искалеченные западной цивилизацией.
– Но есть арабы-мусульмане и арабы-христиане. Ты что, не видишь между ними разницы?
– Оставим мусульман. Посмотри на арабов-христиан. Они же научились пить вино, отошли от веры, тянутся к злачным местам, где царит порок, живут не по слову Писания, а по теории Ницше…
– Дорогой дядя, прости, что я тебя перебиваю, но насчет Ницше ты заблуждаешься. Его «Заратустра» – великое творение духа, а его теория сверхчеловека идеально подходит к нашему веку, когда сила слова отступает перед силой кулака.
– И ты прости, дорогой племянник, но из нас двоих профессор философии все же – я. Уж поверь мне, что теория твоего Ницше не выдерживает никакой критики, это бред больного воображения. А то, что в наш век сила слова действительно отступает перед силой кулака, лишний раз показывает, что я весьма своевременно прожил свою жизнь. Пусть кулачные бои состоятся без меня. Ну да ладно, я что-то разговорился. Лучше ты расскажи о своих пьесах.
– Я давно ничего не писал. Газета не оставляет мне ни минуты. Кстати, ты ее регулярно получаешь?
– Получать-то получаю, но… не стану скрывать, она на меня производит странное впечатление.
– Почему?
– Потому что ты, человек, воспитанный в духе христианской терпимости, поставил свое перо на службу воинствующему исламу, который не терпит иноверцев. Не будь ты моим племянником, я решил бы, что ты – из окружения иерусалимского муфтия.
– А чем тебе не нравится иерусалимский муфтий?
– Вести серьезную дискуссию в категориях «нравится»-«не нравится» нельзя. Я боюсь одержимых людей, будь то муфтий, Муссолини или этот немецкий канцлер. Одержимые тащат мир в пропасть. Мне недолго осталось, но все мое естество восстает против насилия. Не хочу, чтобы люди истребили друг друга. А твоя газета насквозь пропитана духом насилия.
– Помилуй, с чего ты это взял?
– Разве ты не призываешь разделаться с англичанами и с евреями?
– Что значит «разделаться»? Я никого не хочу лишать жизни. Я только хочу, чтобы наша арабская страна принадлежала нам, арабам.
– Вот это я и называю «разделаться». У нас в Ливане арабы живут в мире с евреями, как они жили в средние века в Испании.
– Дядя Джабар, о чем ты говоришь! Средние века кончились – в XX веке миром правят не философы, а генералы.
– Вот в этом-то и кроется корень зла. Все генералы не стоят одного философа. К генералам можно добавить и кое-кого из журналистов.
– Ты имеешь в виду меня?
– Я имею в виду тех, кто сеет рознь, кто сбивает невежественный народ с пути истинного – иными словами, людей безответственных.
– А кто определит меру ответственности человека? Закон? Народ? Господь Бог?
– Мера ответственности определяется совсем просто: она прямо пропорциональна свободе, которой пользуется человек. Чем больше свободы, тем больше ответственности лежит на нем.
– Это все – слова. А на деле нельзя оставаться над схваткой, как ты, дядя. Извини за откровенность. В Палестине решается отнюдь не философский вопрос, кому она будет принадлежать – арабам или евреям. Иными словами, сохранится арабский народ или исчезнет. Так что мое перо служит не воинствующему исламу, как ты изволил выразиться, а арабскому народу, и только ему.
– Прости, Азиз, я отвык так долго спорить и устал. У меня к тебе единственная просьба: не печатай больше моих эссе в своей газете.
Обозленный, Домет решил не рассказывать Адели о беседе с дядей и не идти с ней к нему в гости, как она просила. Сказал, что дядя плох и никого не принимает.
Три недели летнего отдыха пролетели как один день. За это время Домет свозил Адель один раз в Бейрут и один раз повел в казино, где она выиграла пятьдесят лир и купила себе новую шляпку.
12
Когда Домет вернулся из Ливана, его ждало приглашение от муфтия. Польщенный, Домет едва дождался назначенного дня.
Точно так, как в детстве Домет увидел перед собой оживший портрет кайзера, так сейчас он увидел перед собой оживший портрет муфтия. Домет не мог скрыть растерянности, но муфтий привык к тому, что в его присутствии люди теряются.
Муфтий протянул Домету руку для поцелуя и пригласил его сесть, а сам сел по другую сторону низкого резного столика слоновой кости. Слуга принес кофе. От вида за окном дух захватывало. Золотая люстра солнца висела над яркой лазурью Иудейских гор и над сверкающим куполом мечети. В прозрачном воздухе гигантский сад казался картиной, которую Господь вставил в раму. Домет хорошо знал ритуал и пил медленно, воздавая хвалу гостеприимству Великого муфтия, который удостоил его, неприметного редактора какой-то газеты, столь высокой чести.
– Ну, зачем же так скромничать, дорогой Домет, – шутливо пожурил его муфтий. – Мы прекрасно знаем, каким успехом пользуются ваши пьесы, знаем, что их ставили в Берлине.
– Великий муфтий в курсе всех дел! – восхитился Домет, стараясь не выдать волнения.
– Да, – согласился муфтий. – Мы даже знаем, что в свое время одна из ваших пьес была очень популярна среди евреев… – Муфтий искоса взглянул на побагровевшего Домета и, как ни в чем не бывало, продолжил: – Знаем и то, что, к счастью, вы вернулись на путь истинный.
– И больше никогда с него не сойду, – заверил Домет муфтия, глядя ему прямо в глаза.
– Мы в этом не сомневаемся, – благосклонно кивнул муфтий. – Ваша «Аль-Кармель» приносит большую пользу нашему общему делу. Я давно хотел познакомиться с вами лично и поблагодарить за ваше участие в освободительной борьбе арабского народа против англичан и евреев.
– Я готов делать для нашего народа все, что в моих силах.
– Кажется, вы говорите по-немецки?
– Не хуже, чем по-арабски.
– Прекрасно.
Муфтий не пояснил, почему это «прекрасно», и продолжал:
– Вы сделали благое дело, Домет, напечатав «Протоколы сионских мудрецов»: дали возможность арабскому народу ознакомиться с этим подлинным документом. Теперь арабы узнают о еврейских планах завоевать весь мир. Как все, кто страдает паранойей, евреи одержимы идеей-фикс, что их преследуют немцы и арабы. Всякий, кто не видит, что они больны, болен сам. Мы ведем войну не на жизнь, а на смерть с одержимыми, и в этой войне для нас каждый солдат важен не менее генерала.
– Если я хоть чем-то могу помочь Великому муфтию, я буду счастлив это сделать.
– Ответ, заслуживающий похвалы. Я рад, что мы нашли общий язык, и хотел бы, чтобы вы печатали на страницах вашей газеты материалы, которые я буду вам посылать.
– Сочту за честь. Если только цензура…
– Об этом не беспокойтесь. К тому же я полагаюсь на ваше профессиональное мастерство, – улыбнулся муфтий.
– Великий муфтий безмерно добр ко мне.
– Вот мы и договорились. Да, чуть не забыл. Вы знакомы с иностранными журналистами, аккредитованными в Палестине?
– Кое с кем знаком.
– Знаете ли вы, кто такой Пьер ван Пассен?
– Да, я читал его статьи. По-моему, он склонен поддерживать сионистов.
– Вот и я обратил на это внимание. Постарайтесь ему и его заграничным коллегам дать правильное представление о нашей, арабской, точке зрения на события в Палестине. Журналисты всех стран, подобно их коллегам из великой Германии, должны понимать, что еврейское засилье опасно не только для Палестины, но и для всего мира. Я полагаюсь на вас.
Губы Домета почувствовали холодок печатки на золотом кольце Великого муфтия.
Домет начал публиковать пламенные проповеди муфтия с призывами «искоренить еврейское семя» (с разрешения муфтия Домет заменил эти три слова на «избавиться от еврейского засилья»), а также статьи представителей арабской интеллигенции, как их рекомендовала колонка редактора. В этих статьях доказывалась фальсификация Ветхого завета, на котором евреи обосновывают свои притязания на Палестину. Домету претила мысль о фальсификации Ветхого завета, но что поделать, притязаниям евреев на Палестину нужно противостоять любыми способами. Печатал он и «рассказы простых арабов», которых евреи лишают заработка, обрекая тем самым умирать с голоду.
Домет старался не вспоминать обидных слов дяди Джабара о газете, но иногда они все же всплывали в памяти. Хотя здесь у него таких критиков не было: с евреями он порвал, а либерально настроенные арабы (не говоря о тех немногих, кто симпатизировал евреям) старались на пушечный выстрел не приближаться к редактору «Аль-Кармель». Злые языки советовали поменять название газеты на «Голос муфтия».
С другой стороны, покровительство муфтия обеспечило Домету расположение арабской знати. Он был несказанно обрадован, когда Кэти Антониус пригласила его в свой салон в Иерусалиме. Домет был наслышан и о самой мадам Антониус, и о высшем обществе, которое собирается в ее салоне, но уж никак не думал, что когда-нибудь туда попадет.
Кляйншток был рад не меньше Домета.
– Там бывают английские офицеры, дипломаты, журналисты. Обстановка интимная. Могут завязаться полезные знакомства. Особый интерес представляют те, у кого денежные затруднения. Среди знати такие бывают довольно часто. О женщинах и говорить нечего: их природная болтливость – неоценимый клад, – наставлял Кляйншток Домета.
Джордж и Кэти Антониус жили в старинном арабском особняке в квартале Шейх Джерах на горе Скопус рядом с развилкой, от которой дорога уходит на Масличную гору. Особняк они купили благодаря их американскому патрону, эксцентричному миллионеру и антисемиту, который сделал Джорджа Антониуса стипендиатом основанного им Института мировых проблем. Поддержка миллионера позволила Антониусу целиком посвятить себя вопросам «пробуждения арабского народа». В доме было много ковров, книг и пластинок.
Первое, что увидел Домет – мужчин в смокингах. Домет был без смокинга, но, к счастью, не он один. Салон Кэти Антониус напоминал европейский салон доброго старого времени: слуги обносили гостей дорогими французскими винами, разговоры велись преимущественно о мировых проблемах, несколько пар вальсировали на мраморном полу, с которого на время приемов убирали огромный персидский ковер. Мелькали лица, вечерние туалеты, журчали неспешные беседы под негромкую музыку, то тут, то там появлялась элегантная Кэти, сверкая бриллиантовым колье – подарок самого муфтия!
Кэти родилась в Каире. Ее отец был известным политиком, специалистом по арабской филологии, издателем влиятельной газеты «Аль-Мукатем» и англофилом. С детства Кэти свободно говорила на нескольких европейских языках, воспитывалась на европейской литературе, хорошо разбиралась в политике и в искусстве. Привыкнув чувствовать себя на приемах в родительском доме среди сильных мира сего как рыба в воде, Кэти и у себя дома чувствовала себя так же. Она поражала всех острым умом, высказывала неординарные суждения и покоряла тонким чувством юмора.
Когда Домет представился Кэти, она посмотрела на него с нескрываемым интересом.
– А вы случайно не родственник профессора Джабара Домета?
– Он мой дядя.
– Так вы родом из Ливана?
– Нет, я родился в Каире.
– Неужели? Я тоже. Не могу не выразить своего восхищения вашим дядей. Он – гордость арабского народа. Наконец-то у нас появился философ такого масштаба. На его лекции в Каирском университете было не пробиться. Он по-прежнему там?
– Нет, он уже давно преподает в Американском университете в Бейруте.
– Что вы говорите! Там учился мой отец! Правда, это было так давно. Тогда университет еще назывался Сирийским лютеранским колледжем.
– Сплошные совпадения! Я учился в Иерусалиме в лютеранской школе «Шнеллер».
– Еще немного, господин Домет, и мы с вами окажемся родственниками.
– Об этом, мадам Антониус, я и мечтать не смею. Не могу удержаться, чтобы не сказать, как мне нравится ваш дом. Один из лучших, которые мне доводилось видеть в Иерусалиме.
– А какие еще дома в Иерусалиме вы считаете лучшими?
– «Ориент-хауз».
– У нас и вкусы совпадают. Я тоже его люблю. Мы с мужем читаем «Аль-Кармель» и много раз слышали хвалебные отзывы от муфтия о вашей газете. В «Аль-Кармель» я обратила внимание на эссе вашего дяди и еще на очень интересные статьи из Египта за подписью Салим Даблан. Вы случайно не знаете, кто это?
– Это мой средний брат. Я начал писать раньше него, и он взял себе псевдоним, чтобы нас не путали. Рад, что вам нравятся его статьи.
– Я родилась в Каире, и мне очень интересно следить за новыми веяниями и умонастроениями в Египте, а ваш брат их глубоко анализирует. А чем занимается ваш младший брат?
– Он – пианист.
– Как жаль, что он не пришел с вами. Я часто устраиваю музыкальные вечера. Может быть, в следующий раз?
– Боюсь, не получится, он все время гастролирует. Последнее время разъезжает с концертами по Америке. А вы музицируете?
– Немного. Меня, конечно, музыке учили, и музыку я люблю, но политика интересует меня больше. Не хотите ли познакомиться с гостями?
– С удовольствием.
Кэти взяла Домета под руку и, переходя от одной группы гостей к другой, представляла его как известного драматурга и издателя.
Потом она извинилась и отошла к кому-то из гостей, а с Дометом завела разговор жена американского вице-консула.
– Мистер Домет, вы превосходно говорите по-английски.
– Вы очень любезны, миссис…
– Зовите меня просто Глэдис, – жена вице-консула была на голову выше Домета, и, когда смеялась, у нее обнажались десны. – Вы живете в Иерусалиме?
– Нет, в Хайфе.
– О, Хайфа! Мы там были, и мне очень понравилось, – Глэдис подозвала слугу и взяла с подноса бокал вина.
Домет последовал ее примеру.
– За встречу!
К ним подошла Кэти.
– Простите, Глэдис, я хочу познакомить господина Домета с другом нашей семьи.
– Вы отнимаете у меня интересного собеседника, Кэти! – шутливо возмутилась Глэдис.
– Он скоро к вам вернется, – пообещала Кэти и подвела Домета к мужчине с высоким лбом.
– Прошу любить и жаловать, – сказала она. – Азиз Домет. Халил Сакакини.
У Сакакини была репутация гуманиста и непререкаемого авторитета в общине арабов-христиан.
– Очень приятно, – Домет поклонился.
– И мне тоже, – сказал Сакакини. – Я хорошо знал вашего отца. Очень уважаемый был человек,
– Мне лестно это слышать.
– Какое-то время мы с ним учительствовали в одной школе. Я много лет пользуюсь его превосходным арабско-немецким словарем. А теперь и мои дочки им пользуются.
– Они учат немецкий?
– Да. В Немецкой школе. Как там все изменилось! Просто сердце радуется. Каждое утро дети выстраиваются на школьном дворе, поднимают немецкий флаг и поют немецкий гимн. К сожалению, моих дочек не приняли в «Гитлерюгенд»: туда принимают только немцев, но я их успокоил тем, что скоро и у нас появится такое же движение.
– Да, немцы, как всегда, всех опережают, – сказал Домет, а про себя подумал: «Вот и наша интеллигенция начинает понимать, что Гитлер – не зверь, а борец за дело своего народа».
– Вы похожи на отца. Он вами по праву гордился бы. Ваша газета – дело нужное, – продолжал Сакакини. – Она преследует не сиюминутные цели, а воспитывает будущие поколения. Мы, арабы, по сути дела, не знаем евреев. А ваши переводы материалов из «Штюрмер», и особенно карикатуры на евреев, открывают нам глаза: мы всегда боялись евреев, думали – они страшные, правят миром, а они, оказывается, жалкие и смешные, их нечего бояться. Если у них и есть ружье, то без патронов.
– Ваш афоризм рожден для моей газеты, – усмехнулся Домет.
– Дарю его вам, – Сакакини похлопал Домета по плечу. – Вы взяли правильный курс. Чем лучше у арабов отношения с Германией, тем больше пользы нашему народу. Сильная Германия подорвет основы Британской империи, ослабит ее позиции в Палестине, а теперь…
– А теперь, – раздался рядом мелодичный голос Кэти, – позвольте мне похитить господина Домета.
– О чем вы так оживленно беседовали с этим господином? – спросила жена вице-консула, когда Домет снова сел рядом с ней на диван.
– Конечно же о дамах, – лукаво посмотрел на нее Домет.
– Глэдис, куда ты подевалась? Нам пора домой, – подошедший господин в смокинге смотрел на Домета, не замечая его.
– Милый, хочу тебе представить господина Домета, известного арабского драматурга. А это – мой муж, Роди. То есть Роджер Спенсер Прайс-младший.
В руках у Домета осталась визитная карточка вице-консула.
Подняв голову, Домет увидел знакомое лицо, напоминавшее грушу.
«Этого английского капитана я уже раньше встречал. Но где? Да это же Перкинс! Секретарь наместника! Он тогда вернул мне „Йосефа Трумпельдора“. Только Перкинса мне не хватало! Может, не узнает?»
– Кого я вижу! Господин Домет! Сколько лет, сколько зим! Помнится, вы хотели посвятить наместнику свою пьесу, но он не разрешил.
У Домета запершило в горле. Он тупо смотрел на Перкинса и никак не мог придумать, как бы улизнуть. А Перкинс не унимался.
– Если не ошибаюсь, еврейская пресса отозвалась с большим энтузиазмом о вашей пьесе, не так ли?
Домет раскрыл было рот, и в этот момент Перкинса кто-то окликнул.
– Простите, – извинился Перкинс и отошел.
Домет облегченно вздохнул и поспешил затеряться среди гостей.
– Вы не скучаете? – спросила неизвестно откуда появившаяся Кэти. – Хочу познакомить вас с очень достойным человеком. Журналист из лондонской «Таймс».
Кэти подвела Домета к мужчине лет пятидесяти с небольшим брюшком.
– Джеймс Крайтон. Азиз Домет, наш известный писатель.
– Очень приятно, – сказал Крайтон.
– Господин Домет пишет пьесы, – продолжала Кэти.
– Писал. Сейчас я ничего не пишу, – поправил Домет.
– Вас можно понять, господин Домет, – сказал Крайтон, неверно истолковав слова Домета. – Как писать в такой напряженной обстановке, когда арабский бунт может привести к роковым последствиям.
– Вы правы, господин Крайтон, в том, что бунт арабский, но спровоцировали его евреи.
Это было сказано тем вежливым тоном, который подчеркивает уверенность говорящего в его правоте.
Глаза у Крайтона стали злыми.
– Прошу прощения, – сказал Крайтон точно таким же тоном, – о какой провокации вы говорите, господин Домет? Возможно, меня ввели в заблуждение, но, насколько мне известно, нынешнее восстание началось с того, что арабы убили евреев. Да и прошлые беспорядки тоже с этого начались.
– Под провокацией я подразумеваю не тот или иной инцидент, а политику сионистов, направленную на вытеснение арабов из Палестины, как и политику мандатных властей, которые поощряют сионистов.
– Что касается мандатных властей, то какую бы политику они ни проводили, она обречена на провал, потому что и евреи, и арабы всегда будут ею недовольны. Всем не угодишь. Вот, спросим у этой милой дамы, прав ли я. Элен, – Крайтон коснулся плеча стоявшей к ним спиной загорелой брюнетки.
Брюнетка обернулась.
– Познакомьтесь, дорогая. Драматург Азиз Домет. Элен Мэтьюз из «Чикаго трибюн». Элен, вы довольны политикой мандатных властей в Палестине?
– Конечно нет, – решительно ответила та. – Торчу в этой дыре уже целый месяц, и за все это время ни одного нового голливудского фильма, не с кем поиграть в теннис да еще из города в город приходится ездить в броневике, как на войне;
– А тут и есть война, миссис Мэтьюз, – сказал Домет.
– Мисс, – поправила его Элен.
– Простите.
– Партнера для тенниса я вам найду, – сказал Крайтон. – Жена американского вице-консула играет очень неплохо.
– Глэдис? – вырвалось у Домета.
– А вы с ней играли? – удивился Крайтон.
– Нет, мы только что познакомились. Как вы думаете, мисс Мэтьюз, – Домет тщательно подбирал слова, – кто прав в споре между арабами и евреями?
– О, это слишком сложный вопрос. Я здесь всего месяц и пока только присматриваюсь. Буду рада, если вы поделитесь со мной своими соображениями. Мне они очень пригодятся в работе. Вот вам номер моего телефона.
Домет положил записку в то отделение портмоне, где уже лежала визитная карточка вице-консула.
Крайтона отозвали в сторону, Элен пригласили танцевать, а Домет пошел по залу. Иногда он останавливался и прислушивался к разговорам.
«…не трудно понять, почему англичане предпочитают проводить время не с евреями, а с арабами-христианами. Вы только посмотрите на этот особняк!»… «Я не торопился бы с такими мрачными прогнозами, немцы – не варвары…»… «Что вы! Утреннюю маску нужно делать из огурцов!»… «Не могу понять русских евреев: зачем они едут сюда, где их убивают арабы. Жили бы себе в России, о которой американские газеты пишут с таким восторгом…»… «Слышал от весьма сведущего человека, что мистер Гитлер – хладнокровный политик да еще с обезоруживающей улыбкой и с личным обаянием…»… «Супруга наместника устроила ужасно милый раут, а ее кузина показала нам новый танец…»… «Муфтий давно мог положить всему этому конец. – Так в чем же дело? – В том, что он не хочет…»… «От здешней жары можно сойти с ума…»… «Холодным британцам далеко до арабских мужчин…»… «…когда эти евреи вышли из синагоги, закутанные в белые покрывала с черными полосами, я чуть в обморок не упала со страху: настоящие привидения».
13
Никто не знал точно, когда Бенци Чечкис поселился в Хайфе. Его жизнелюбие, словоохотливость и радушие помогли ему быстро найти работу. Какое-то время он служил бухгалтером в Управлении железных дорог, потом около года – на Кипре и наконец стал начальником отдела сбыта компании «Немецкое храмовое общество», которая экспортировала в Европу палестинские апельсины.
Кляйншток познакомился с Чечкисом в Тель-Авиве, когда они встретились в доме управляющего «Немецким храмовым обществом» Рудольфа Вайленда.
В Немецкой колонии Сарона, которую основала христианская секта темплеров, Чечкис и Кляйншток были впервые и не скрывали своего восхищения. По обе стороны чисто выметенной улицы стояли добротные двух– и трехэтажные каменные дома под красной черепичной крышей. Немцы строили на века. Перед домами зеленели палисадники, а кругом – сосны, эвкалипты, пальмы. Колонисты жили на Святой земле зажиточно. Евреев они сторонились и отказывались продавать им землю.
Над дверью дома Вайленда красовалось изречение из устава темплеров: «Благословенны выполняющие обеты – они идут прямым путем». Колония была закрытым мирком, где, впрочем, всего хватало. Там были свой винокуренный заводик, своя аптека и свое кладбище.
Попивая шнапс домашнего приготовления, гости слушали хвастливые разглагольствования хозяина дома, который ругал арабов и говорил, что по-настоящему умеют работать только немцы.
В приоткрытую дверь за взрослыми с интересом подглядывал сын Вайленда, тощий и белобрысый Курт. С раннего детства ему внушали, что от евреев надо держаться подальше. Но папа сидит с герром Чечкисом за одним столом, а мама вчера спросила папу: «Зачем тебе водить дела с этим евреем?», и папа ответил: «Этот Чечкис – полезный еврей». Курт получше присмотрелся к «полезному еврею»: когда тот говорил, у него над губой подергивался маленький шрам.
– Эй, – крикнул отец, услышав шорох за дверью, – а ну-ка иди сюда!
Покрасневший Курт вошел в комнату.
– Прошу любить и жаловать, – гордо сказал Вайленд. – Мой сын Курт, член «Гитлерюгенда». Как нужно приветствовать гостей?
– Хайль Гитлер! – Курт вскинул вверх руку.
Кляйншток одобрительно потрепал мальчика по щеке, а «полезный еврей» спросил:
– Где ты учишься?
– В Немецкой школе, – тонким голоском ответил Курт, смущенный общим вниманием.








