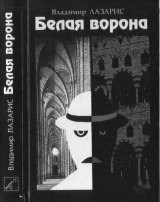
Текст книги "Белая ворона"
Автор книги: Владимир Лазарис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
– Эй! – крикнул один из них. – Кончил блевать? Может, ты эту армянку хочешь? Она еще тепленькая! – и солдаты весело заржали.
Домет не помнил, как ему удалось добраться до казармы. В следующие дни он видел избиение армян в разных кварталах города и каждый раз убегал прочь. За один месяц Домет похудел на десять килограммов. Стоило взять что-нибудь в рот, как его начинало рвать. В полковом госпитале Домета осмотрел врач, ничего не нашел и поставил диагноз «отравление».
Медсестра приносила и уносила тарелки с едой. Бедный господин Домет, такой красивый и такой худой! Говорят, он – поэт!
Больше года он провалялся в военных госпиталях, где врачи проводили разные обследования, созывали консилиум, посылали на комиссии, но поставить диагноз не смогли и даже заподозрили, что он – симулянт. Так продолжалось до тех пор, пока Домет не попал к немецкому психиатру.
– Как мы себя чувствуем? – спросил тот.
Домет вяло пожал плечами и ничего не ответил.
Тогда врач проверил у него зрачки, постучал молоточком под коленями и спросил:
– У вас что-нибудь болит?
– Живот болит.
– Все время?
– Только во время еды.
– У вас было какое-то нервное потрясение?
– Да.
– Ах, вот как. Ну, что ж, все ясно. Вам нужен полный покой, так что для армейской службы вы уже непригодны. А позвольте полюбопытствовать, откуда у вас такой великолепный немецкий?
– Это мой второй язык.
Психиатр написал заключение, на основании которого Домета списали из армии с белым билетом.
Мать была счастлива: ее Азиз, ее первенец! Форма болталась на нем, как на палке, но теперь он снова с ней, она-то его откормит.
Средний сын, Салим, еще до войны уехал в Египет, занялся там журналистикой и литературными переводами и подавал большие надежды. От него приходили письма, где вычеркнутых строк было больше, чем оставшихся. Бывший военный цензор, Азиз Домет объяснял матери, что, судя по оставшимся строчкам, брат имел в виду только одно: англичане скоро будут в Палестине.
Как только турки объявили мобилизацию старшеклассников в возрасте семнадцати лет, мать Домета заплатила бедуинам-контрабандистам сколько смогла, и они переправили в Египет и младшего сына Амина. Соседи ее не выдали, а когда к Дометам пришел турецкий полицейский с повесткой для Амина, Азиз надел военную форму, налил полицейскому большой стакан арака и опустил ему в карман несколько пиастров. Больше Амина не искали, и он отсиделся в Египте, после чего уехал в Бейрут поступать в консерваторию по классу фортепиано.
х х х
Война подходила к концу.
Английская армия захватила Беэр-Шеву, потом – Газу и приготовилась к решающей битве за Иерусалим.
Домет шел на поправку. Прибавил в весе, цвет лица стал совсем другим, он читал газеты от первой до последней полосы – словом, к нему возвращался интерес к жизни. Вернулась и давняя мечта поехать в Берлин.
Домет понимал, что по воле судьбы стал свидетелем смены империй. Турецкая империя рушилась, английская готовилась отхватить себе чуть ли не весь Ближний Восток. Но будущая смена власти Домета не волновала: он научился ладить с турками, научится ладить и с англичанами, тем более что знает английский.
Турки начали отступать в направлении Иерихона, а евреи в Иерусалиме – баррикадировать двери, опасаясь, что со злости турецкие солдаты могут напоследок устроить погром.
В канун еврейского праздника Ханукки турецкий губернатор Иерусалима вбежал на почту рядом с Яффскими воротами и собственноручно разбил вдребезги телеграфный аппарат, чтобы англичане не смогли тут же оповестить весь мир о своей победе.
Всю ночь перепуганные иерусалимцы слышали топот ног и копыт убегающей турецкой армии.
Кончились четыреста лет Османской империи, и евреи восприняли это как хануккальное чудо.
Ранним декабрьским утром двое английских солдат – повар Черчь и его помощник – шли в деревню Лифта на окраине Иерусалима. Они хотели устроить сюрприз своему командиру батальона, раздобыв для него свежих овощей. Вдруг они увидели, что им навстречу идут люди в праздничных одеждах, с белым флагом, точнее, с простыней, привязанной к палке. Впереди на лошади ехал арабский градоначальник Иерусалима.
Приняв вооруженных солдат за представителей английской короны, градоначальник спешился и на ужасающем английском языке громко зачитал им акт о капитуляции Иерусалима.
Сколько Черчь ни пытался объяснить градоначальнику, что он, Черчь, – повар, что он не вправе принимать подобный документ, градоначальник насильно сунул ему в руки акт о капитуляции.
Когда Черчь с помощником вернулись в расположение своей части и показали бумагу с печатью, которую им всучил какой-то араб, разразился скандал. Двое английских офицеров помчались в Иерусалим и потребовали, чтобы градоначальник заново вручал им акт о капитуляции. Градоначальнику пришлось его составлять во второй раз. От затяжных церемоний на холодном воздухе он простудился и слег.
Радости евреев, христиан и арабов не было конца: они были спасены от турецкого ига. Их радость перешла в буйное ликование, когда командующий экспедиционным корпусом, генерал Эдмонд Генри Хайнман Алленби, въехал в Иерусалим на вороном коне.
Генералу Алленби очень не понравилось, что акт о капитуляции вручили не ему. Он потребовал новой официальной церемонии, но в ней не смог принять участия градоначальник: он умер от воспаления легких.
Евреи гуляли всю неделю и напекли для английских солдат столько хануккальных пончиков с повидлом, что новый губернатор Иерусалима запретил их продажу. Может, опасался, что растолстевшие солдаты будут плохо воевать?
4
Все детство Домета было пропитано немецким духом. Вместо колыбельной отец пел ему «Ах, майн либер Августин», и этот Августин представлялся Азизу ангелом со святочной открытки. Азиз знал, что есть на свете Германия, прекраснейшая из всех стран, а в ней – Берлин, прекраснейший из всех городов. И вот сбывается его мечта: поезд въезжает в этот сказочный город. Могло ли у него не сжаться сердце при виде огромных букв БЕРЛИН, которые сияли белизной на черном вокзальном указателе, проплывавшем мимо пыльного вагонного окна.
Поезд остановился, и первым, кого увидел Домет, был полицейский в зеленой форме. Он строго осматривал выходящих на платформу пассажиров. От избытка счастья Домет сказал ему «Добрый день!», и полицейский буркнул в ответ: «Добрый».
Вокруг звучала немецкая речь, и Домет сразу почувствовал, что попал в родную стихию. На больших щитах переливалась цветная реклама, продавцы мороженого в белоснежных фартуках наперебой расхваливали свой товар, какая-то дама на высоких каблуках пробежала мимо, видимо опаздывая на поезд, а за ней – мужчина в меховом пальто с чемоданом.
Домет отказался от носильщика, купил газету у мальчишки-разносчика и вышел на привокзальную площадь.
«Я – в Берлине! В Бер-ли-не!»
Домет пошел гулять по улицам, благо его чемодан весил немного.
Высокие дома, в пять-шесть этажей, а то и больше. Ни одной веревки на фасадах. Интересно, где немцы сушат белье. И на балконах – ни души. Тротуары вымыты. Мостовые вымощены. Улицы рукавами расходятся от площадей, но и те, и другие неотличимо похожи друг на друга.
Домет дошел до какого-то бульвара и сел на скамейку. Бульвары такие же неотличимо похожие друг на друга, как и улицы. Переходишь с одного бульвара на другой, а кажется, будто идешь по тому же самому.
Домет отдохнул и пошел искать ночлег. Он читал на столбах и заборах объявления о пансионах, заходил в них. В одних было дорого, в других из окон выглядывали мрачные физиономии.
Перед булочными стояли длинные очереди, у мясных лавок люди с нескрываемой завистью смотрели на жирные окорока, на тонко нарезанные колбасы в витрине и на тех счастливчиков, которые, глядя под ноги, выносили из лавки купленные яства.
Карточная система не обошла стороной и прекрасную Германию, а инфляция вот-вот ее доконает. В очередях говорят, что марка продолжает падать, а цены – расти, и владельцы магазинов придумали хитрый трюк: вместо того чтобы открыто повышать цены, делают на них специальную надбавку и повышают не цены, а ее. Никто уже не спрашивает, «сколько сегодня стоит?», спрашивают, «какая сегодня надбавка?».
А в легком пальто холодно. Здесь и солнце, что ли, выдают по карточкам? Оно не печет, не раскаляет воздух, как дома, оно только выглянет и снова спрячется за сизые облака. Открываешь кран в общественном ватерклозете, а из него вода течет тоненькой струйкой: воду экономят.
В пивной тощая официантка, не улыбнувшись, спросила:
– Герр доктор хочет сосисок с квашеной капустой?
Домет от сосисок отказался и ограничился пивом. У него за спиной кто-то хрипло гудел о версальском позоре и о том, что давно пора прикончить такого министра иностранных дел, как Ратенау!
Оглянувшись, Домет увидел краснолицего человека с военной выправкой и его собеседника – изможденного старика в дырявой шляпе.
– Продал, подлец, Германию. А чего и ждать от еврея! – громко сказал краснолицый.
Выйдя из пивной, Домет поплотнее запахнул пальто. Сколько машин! Сколько людей! А говорят тихо.
Домет еще не успел узнать, что теперь в трамвае, в автобусе, в метро люди и вовсе молчат да еще стараются не смотреть друг на друга и лица у них безжизненные. Бродячих фокусников на улицах еще можно увидеть, но гадалки исчезли: никто не хочет знать, какое ему уготовано будущее. Только в недавно открывшемся кабаре «Апокалипсис» наплыв посетителей. Те, кто уносят домой жирные окорока, отплясывают там шимми под песенку, которую исполняет лысый певец:
Фрау, мы станцуем с вами шимми,
Шимми овладел детьми большими,
Шимми нынче гвоздь сезона
На-ба-лах.
Вечером в кабаре загораются гирлянды разноцветных огней, а над высокими домами бегут огни рекламы дамского нижнего белья, патефонов, мыла, еще чего-то, как будто Германия не пережила войну.
У Домета засосало под ложечкой, и он пожалел, что отказался от сосисок с квашеной капустой. Уже за полночь, а еще нужно найти какое-нибудь пристанище – не ночевать же на вокзале.
Под утро Домету улыбнулась удача: в опрятном и тихом пансионе ему предложили за умеренную цену комнату с табльдотом. Он заплатил, и хозяйка поставила перед ним чашечку эрзац-кофе, булочку и немного эрзац-джема.
– Завтрак – в девять, – сонно предупредила хозяйка, фрау Хоффман, высохшая особа без возраста с распятием на плоской груди. Но, когда она узнала, что герр Домет – собрат во Христе да еще и живет на Святой земле, с ней произошла волшебная перемена: из гусеницы она превратилась в бабочку. Домет и ахнуть не успел, как фрау Хоффман схватила со стола эрзац-джем и эрзац-кофе, упорхнула с ними и вернулась с настоящим кофе, с домашним вареньем да еще и с настоящим маслом.
– Боже! Герр Домет, – всплеснула хозяйка руками, – неужели вы были в храме Гроба Господня?
– Когда я жил в Иерусалиме… – торжественно начал Домет, намазывая толстый слой масла на булочку и придвигая поближе розетку с вареньем.
– Ах, Иерусалим! – фрау Хоффман сладко зажмурилась.
– …я ходил туда каждый день, – закончил Домет, попивая настоящий кофе.
Счастью фрау Хоффман не было предела.
За обедом выяснилось, что в пансионе живут всего шесть человек: вдовец герр Вальтер Кранц, в котором Домет не без удивления узнал человека из пивной, призывавшего убить Ратенау; две немолодые сестры-белошвейки Хельга и Магда Браун; розовощекий мойщик трупов в городском морге Юлиус Шолле; меланхоличный русский поэт-эмигрант Михаил Фридберг и бывший жокей Вилли, чью фамилию не знала даже хозяйка. Домета она представила жильцам как «известного писателя из Иерусалима». Герр Кранц едва оторвался от тарелки с овсянкой; сестры Браун вежливо улыбнулись Домету; мойщик Шолле заинтересованно осмотрел Домета с ног до головы; жокей Вилли похлопал Домета по плечу, как бывало похлопывал по крупу свою кобылу, а поэт Фридберг приветливо кивнул коллеге.
Первые дни Домет просто гулял по городу, хотя ему и не терпелось показать свои пьесы в театре, но он боялся отказа и уговаривал себя не спешить, получше узнать обстановку в театрах. Крыша над головой есть, и денег должно хватить на несколько месяцев. За это время все прояснится, и он завоюет Берлин! Его имя будет написано на афишах огромными буквами, и вот тогда…
Домет проехался в двухэтажном автобусе. «Вот я уже и на Берлин смотрю свысока», – усмехнулся он. Его обдувало ветром, со всех сторон неслись автомашины, и он убеждался, что очутился, если не в центре мироздания, то уж наверняка в центре Европы. Очереди за хлебом? Инфляция? Что поделать – время такое. Но Берлин не перестает быть красивейшим городом Европы, а его жители – самыми европейскими из всех европейцев.
Отовсюду Домет слышал знакомые звуки русской речи: русские эмигранты заполонили Берлин. Они ходили по городу толпами, в кафе сидели большими компаниями, заказывали чай и все время о чем-то спорили. Русские были ужасно серьезными. Все женщины курили не меньше мужчин. Клубы табачного дыма поднимались к потолку. На террасе одного из кафе Домет увидел Фридберга, который дружески помахал ему рукой. Рядом с ним сидели несколько человек, которые что-то гневно кричали друг ДРУГУ-
Чем дольше Домет бродил по Берлину, тем быстрее этот серый город становился розовым и более близким Азизу Домету, подданному Палестины, но с детства ощущавшему себя гражданином Германии.
Домет так ушел в свои мысли, что чуть не врезался в стену. На ней углем было написано: «Смерть евреям!»
Домет побледнел.
– Вот-вот, – обратился к Домету проходивший мимо толстяк, переведя взгляд с него на стену. – Во всем виноваты евреи. Они, и только они. Когда их не станет, эта проклятая инфляция сразу же кончится.
Пока что инфляция не кончалась, а усиливалась. День в пансионе сначала стоил тысячу марок, потом – десять тысяч, потом – миллион. Если бы не надежно спрятанные в поясе семьдесят английских фунтов стерлингов, Домету пришлось бы отказаться от мысли остаться в Берлине еще на два-три месяца. А со своими фунтами он чувствовал себя миллионером. Все было доступно. В знаменитом универсальном магазине КДВ, напротив ухоженной Виттенбергплац, Домет купил себе невесомое бежевое пальто из верблюжьей шерсти, серый костюм, модную шляпу, сорочки с галстуками, лайковые перчатки, черные туфли и черный зонт. Толпа покупателей бродила по всем четырем этажам магазина, и среди вавилонского смешения языков почти не слышалась немецкая речь: немцам тут было не по карману. Если они и забредали сюда, то покататься на лифте, поглядеть со смотровой площадки на верхнем этаже на Берлин или броситься с нее вниз, чтобы избавиться от кредиторов.
Марка упала еще больше, когда Вальтера Ратенау застрелили в служебном автомобиле по дороге в министерство.
Больше всех радовался герр Кранц. За обедом он предложил тост «за настоящих немецких патриотов, избавивших Германию от этого еврейского кровопийцы». Сестры-белошвейки молча качали головами; жокей Вилли заметил, что на Ратенау он не поставил бы ни одной марки; мойщик Шолле был занят супом; поэт Фридберг возразил Кранцу, что Ратенау сделал для Германии больше многих других, и побагровевший от возмущения Кранц бросил ему через стол:
– Кому-кому, а вам-то лучше помолчать! Кто в России сделал революцию? Теперь вы у нас хотите ее сделать?
– А вы, герр Кранц, лучше платили бы в срок, – вмешалась фрау Хоффман, разливая суп. – А то мне скоро продукты не на что будет покупать.
При этих словах Вилли как-то незаметно сполз со стула и исчез из столовой; Кранц закашлялся и твердо заявил, что живет на скромную военную пенсию, не в пример разным спекулянтам; Фридберг потуже затянул узел галстука; сестры Браун потупили взгляд; Шолле громко прихлебывал жидкий суп, делая вид, что к нему это не относится.
Заводы и фабрики закрывались. Голодные безработные с ненавистью смотрели на иностранцев, которые фланировали по залитой электрическим светом Курфюрстендамм, расплачиваясь хрустящими долларами или фунтами. В кварталах бедноты не прекращались демонстрации рабочих с красными флагами и с плакатами, на которых было написано «За что мы проливали кровь в революцию 1919 года?!». Ораторы на каждом углу призывали покончить с капитализмом, империализмом и еврейским засильем. Десятитысячные банкноты валялись на помойке вместе с газетами, которые изо дня в день предсказывали конец света. По утрам из садов и парков полицейские со сторожами уносили бездомных самоубийц. Мойщик трупов Шолле сказал Домету, что Берлин теперь занимает первое место в мире по количеству самоубийств. Поэты писали о смерти и нюхали кокаин. В одном из своих стихотворений Фридберг зарифмовал «Берлин» и «кокаин». В начале июля он перебрался к знакомой русской поэтессе. За ним из пансиона исчез жокей Вилли, задолжавший хозяйке семьсот миллионов. Сестры-белошвейки жаловались на отсутствие заказов. Герр Кранц все реже выходил из своей комнаты, поскольку ему не на что было купить пиво. И только Шолле радовался жизни, которую оплачивала смерть.
x x x
Домет решил, что пора сходить в театр и показать свои пьесы.
Директор театра «Красная лампа», тучный, грубый Франц Гепхард, мрачно крутил в руках деревянный нож для разрезания бумаги с ручкой в виде женского торса. Проводя толстыми пальцами по ручке, Гепхард тоскливо прислушивался к урчанию в животе. А тут еще его любовница, эта дрянь, сбежала с каким-то заезжим американским музыкантом, наверняка евреем, как все американцы. Театр прогорал. Надо было срочно найти какую-нибудь ходовую пьесу, на которую публика рвалась бы, как в добрые старые времена. Но драматурги либо писали возвышенную белиберду, либо заламывали за пьесы такие цены, что хоть театр продавай. Кстати, этот еврей Шумахер из оперетты уже предложил ему продать театр, но старый Гепхард, во-первых, не дурак, чтобы продавать во время инфляции за бесценок, а во-вторых, он лучше сдохнет с голоду, чем продаст свой театр еврею.
В дверь постучали.
– Войдите, – Гепхард отбросил нож.
В дверях стоял широколицый человек. Черные волосы, черные глаза, но больше всего смуглая кожа выдавали его восточное происхождение. Одет очень элегантно: дорогое пальто из настоящей верблюжьей шерсти, фетровая шляпа, в руке – портфель из настоящей кожи.
– Простите, – сказал вошедший по-немецки без малейшего акцента, – вашей секретарши не было, так что…
– Знаю, – раздраженно бросил Гепхард. – Я ее выгнал, когда она потребовала, чтобы из-за инфляции ей платили два раза в день, а не один, как всем. Присаживайтесь, – кисло пригласил директор. – Вы из полиции?
– Нет, я – драматург. Азиз Домет. Из Палестины.
Герр Гепхард непроизвольно наклонился вперед и внимательно посмотрел на гостя.
– Из Палестины? – недоверчиво переспросил он.
– Да, – улыбнулся Домет.
– Ах, вы – еврей, – прищурился Гепхард.
– Нет, я – араб, – спокойно ответил Домет.
«Это уже легче», – подумал Гепхард и начал обстоятельно расспрашивать, о чем герр Домет пишет, много ли у него пьес, в какой гостинице он остановился. Узнав, что тот привез с собой пять пьес, директор чуть не вскочил. Он выразил желание прочесть все пять. Домет протянул объемистую пачку рукописей. Гепхард лично проводил герра Домета до самого парадного, умоляя про себя Всевышнего послать ему хоть одну подходящую пьесу.
Договорились, что герр Домет зайдет через неделю.
Вернувшись в кабинет, Гепхард вынул из пачки первую попавшуюся пьесу. Она оказалась одноактной. «Игра в гареме». Идеальное название для «Красной лампы». Сняв пиджак и спустив подтяжки, Гепхард начал читать.
В гареме халиф Гарун аль-Рашид играет в шахматы с любимой женой. Проигравший выполняет желание победителя. Любимая жена проигрывает и, выполняя желание халифа, танцует перед ним обнаженной.
«Неплохо. Хоть бы раз эта дрянь танцевала передо мной обнаженной. Где там! Она и в постели гасила свет».
Потом проигрывает халиф, и любимая жена велит ему поцеловать руку ее служанке. Халиф приходит в ярость, швыряет факел на пол, от факела загорается покрывало служанки.
«А немецкий язык у этого Домета превосходный. Да и пьеса подходит».
От возбуждения Гепхард забегал по кабинету.
«Экзотика! Восток! А чего стоит араб, пишущий по-немецки!»
Плюхнувшись в потертое кресло, Гепхард взял еще одну пьесу.
«„Валтасар“. Валтасар… Валтасар… Что-то связано не то с битвами, не то с пирами… Тоже в самый раз!»
Гепхард начал читать.
Погрязший в грехе Вавилон. Безумный царь Валтасар, опьяненный кровью своих жертв, включая собственную мать, действительно устраивает пир.
«Ну, у него пир, а у нас будет оргия. Световые эффекты, роскошные декорации, голые женщины, сумасшедший Валтасар – насильник и убийца, а на белой стене – кровавые буквы! Публика же будет визжать от восторга! Аншлаг обеспечен».
Наутро в пансионе фрау Хоффман раздался телефонный звонок.
Фрау Хоффман на цыпочках подошла к двери герра Домета и несмело поскреблась:
– Герр Домет, вас просит к телефону герр директор театра «Красная лампа».
Домет выскочил в коридор.
– Слушаю, – еле выдохнул он.
– Говорит Гепхард. Я прочитал ваши пьесы, герр Домет. Вы – замечательный драматург. Приходите, мы все обсудим.
Домет чуть было не расцеловал фрау Хоффман, которая, как всегда, подслушивала разговоры своих жильцов.
Франц Гепхард встретил герра Домета у входа в театр. Он сиял заранее отрепетированной улыбкой.
– Дорогой герр Домет! Блестящие пьесы, замечательные образы! Этот плотоядный Гарун аль-Рашид просто живой. Да и Валтасар. Ну, все женщины у нас, конечно, будут голыми.
– Зачем же все? – удивился Домет. – Я имел в виду только…
– Разумеется, разумеется, дорогой герр Домет. Ваши героини и одетые поразят зрителей, а раздетые – сразят наповал. В «Валтасаре» есть все, чего хочет наш зритель: смерть, насилие и кровь. Люди озверели, дорогой герр Домет, и хотят видеть то, чего они сами сделать не решаются…
– Но у меня в пьесах этого нет.
– Так будет, герр Домет. Будет кровь – будет аншлаг. Будет аншлаг – будут деньги.
Гепхард захохотал и обнял Домета за плечи, прежде чем перейти к главному вопросу.
– У нас тут есть небольшая, чисто техническая загвоздка. Так, мелочь. Дело в том, что гонорар…
– Я понимаю, – перебил Домет. – Гонорары у вас небольшие. Но меня это не смущает.
– Видите ли, время сейчас такое, что я не могу заплатить вам даже аванса. Но я не сомневаюсь, что зал будет переполнен, и после премьеры я расплачусь с вами сполна. А пьесы мы начнем репетировать прямо на этой неделе.
На первой читке Домету аплодировали, а ведущая актриса, фрейлейн Эдит Визе, даже поцеловала его.
Пьесы репетировали параллельно, чтобы выпустить их в одном сезоне. Домет не пропускал ни одной репетиции. Его познакомили с актерским составом, и он сразу пришел в восторг от мрачного Хельмута Кребса с громоподобным голосом в роли Валтасара, и от коварного Курта Пелеманна – халифа, и конечно же от полногрудой Эдит Визе – любимой жены халифа.
Домет сидел рядом с Гепхардом и упивался своей пьесой.
Торжественно заведя Домета в кабинет, Гепхард показал ему еще пахнущие типографской краской афиши.
– Ну, как?
У Домета перехватило дыхание. На фоне смуглого тела восточной танцовщицы большие красные буквы: «Азиз Домет. „Игра в гареме“». И черные буквы помельче: «Пьеса в одном акте. Постановка Франца Гепхарда».
Вернувшись в пансион, Домет повесил у себя в комнате афишу. Он не мог от нее оторваться. Читал ее вслух, потом – про себя, потом снова вслух. Проводил пальцем по своему имени, а танцовщица ему то улыбалась, то подмигивала, становясь похожей на фрейлейн Визе.
Приглашения театральным критикам были разосланы заранее. Захватывающие интервью Гепхарда появились в вечерних газетах. Поговаривали, что «Красная лампа» поставила что-то чересчур пикантное и на сцене будут голые арабы. Опытный Гепхард вызвал наряд полиции на случай скандалов.
В день премьеры оказалось, что нет занавеса: один из рабочих сцены спустил его на черном рынке. Пришлось расписать наспех сшитые холстины.
Увидев столь оригинальный занавес, публика зашепталась о смелом режиссерском решении. После третьего звонка Восток окутал зрительный зал, вытесняя гнетущие мысли о тяжелом положении в стране. Разноцветные блестки, налепленные на голое тело любимой жены, сверкали в лучах софитов. Придуманный Гепхардом трюк с горящим покрывалом служанки удался на славу.
Занавес уже опустился, а публика еще не пришла в себя, пока критик Хайнц Зайгер, известный в артистическом мире под кличкой «Джек-Потрошитель», спокойно не захлопал. Тогда к нему быстро присоединились его коллеги, и очнувшаяся публика разразилась громом аплодисментов.
Под настойчивые крики «Автора!» Азиз Домет вышел на сцену и растерянно поклонился. От волнения он не различал лица людей, среди которых, как на проявляемой пленке, постепенно все отчетливее проступало лицо одной блондинки во втором ряду. Она смотрела на него с нескрываемым восторгом.
Наутро Домет помчался за газетами.
«Это не театральщина с философствованием и нравоучениями, а свободное излияние чувств наивных людей, близких к самой природе. Восток на сцене дышит, не зная, что на сцене нужно играть, а не дышать».
«Пьеса написана на великолепном языке, но пронизана чуждой этому языку вольной фантазией».
А больше всего Домета растрогал Хайнц Зайгер, который написал: «Нужно расставить все точки над i: у Германии, переживающей глубочайшее унижение, появился друг, а сегодня это просто чудо. Да еще, если вспомнить, что автор – араб и живет под высокомерными англичанами. Но главное – любовь этого араба к Германии бескорыстна».
У Домета на глаза навернулись слезы. Ему захотелось обнять и герра Зайгера, и Франца Гепхарда, и фрау Хоффман, и всю Германию.
«Валтасар» имел еще больший успех. Как только прошел слух, что в пьесе есть изнасилование, кровосмешение, расчленение трупа и другие душераздирающие ужасы, билеты расхватали за час. Гепхард постарался, чтобы натуралистические сцены были «совсем, как в жизни», и разгоряченные зрители задерживали дыхание, глядя на вспотевших актеров. На премьере Домет испытывал неловкость от обилия таких сцен, но распроданные билеты и вызовы автора как-то примирили его с режиссерским замыслом Франца Гепхарда. Выйдя на сцену, Домет снова увидел во втором ряду блондинку, не отрывавшую от него глаз.
Критика не скупилась на похвалы. Одни отмечали библейский трагизм пьесы, другие – пластику, которая прекрасно передает восточную экспансивность и вместе с тем – немецкую строгость. А один критик написал, что «пьеса герра Домета о Вавилоне – как раз для Берлина: второго такого Вавилона, каким стала наша столица, больше нет нигде. Правда, в Германии нет такого царя, как Валтасар, но после убийства Ратенау нетрудно поверить, что он скоро появится».
Солидный иллюстрированный журнал прислал к Домету фотографа, который долго его усаживал то в фас, то в профиль, а под конец попросил стать рядом с афишей на пустой стене и скрестить руки на груди.
Одна из опубликованных статей называлась «Араб в Берлине». В ней подробно перечислялись все зверства на сцене, «которые автор списал с натуры: во время войны он был солдатом турецкой армии».
Когда, придя к Гепхарду, Домет заикнулся о гонораре, тот оживился:
– Да, да, разумеется! Вы получите гонорар сполна, но я же должен сначала расплатиться с кредиторами и с актерами. Подождите недельку-другую, а пока наслаждайтесь успехом. Посмотрите, какая очередь в кассу!
Домет попрощался, вышел на улицу, посмотрел на очередь и увидел блондинку из второго ряда. В руке она держала, как пароль, иллюстрированный журнал, раскрытый на той странице, где Домет стоит перед афишей, скрестив руки. На блондинке с капризно вздернутым носиком, пунцовыми губками, голубыми глазками и с челкой было легкое голубое платье, перехваченное розовым поясом и туфли на высоком каблуке.
«Очень красивые ноги. На вид ей не больше двадцати».
– Герр Домет? – подошла она к нему.
– Да.
– Меня зовут Аделаида. Аделаида Кебке. Можно просто Адель.
– Очень приятно. А вы знаете, что значит ваше имя?
– Нет. Разве оно что-то значит?
– На древнем верхненемецком «Аделаида» значит «из благородного сословия». Вы из благородного сословия?
– По-моему, нет, – голубые глазки широко раскрылись. – Мой отец – строительный подрядчик. Это благородное сословие?
Домет засмеялся.
– Думаю, вполне, особенно в наше время. Вы сидели на спектакле во втором ряду, верно?
– Ах, герр Домет, неужели вы меня заметили? Я три раза ходила на «Игру в гареме» и пять раз – на «Валтасара».
Адель восторженно щебетала о его пьесах, о его фотографии в журнале, о таинственном Востоке, о гадалке, которая ей предсказала… папа запрещает курить… подруг почти нет… мама говорит, девушки не должны знакомиться на улице…
– Что-что? – очнулся Домет.
– Мама говорит, что девушки не должны знакомиться с мужчинами на улице. Но я думаю, это – предрассудки. Вы не рассердились, что я сама к вам подошла?
– Ну что вы, я… я просто счастлив. Может, зайдем в кафе?
Адель взяла его под руку, и он невольно вздрогнул от ее прикосновения.
В кафе Домет заказал два «шерри-коблер». Адель продолжала щебетать, а Домет не отрывал взгляда от голубых глазок и старался не смотреть на два белых полушария в глубоком вырезе.
«В пансион? Фрау Хоффман не разрешит. В номера – неудобно, все же девушка из приличной немецкой семьи. Красивое типично немецкое личико!»
– А-де-ла-и-да!
– Я вас слушаю, – откликнулась Адель.
– Простите, вы что-то сказали? – смутился Домет.
– Нет, это вы сейчас назвали мое полное имя, герр Домет.
– Оно у вас замечательное. Пожалуйста, не называйте меня «герр Домет». Для вас я – Азиз. Хорошо?
– Хорошо, Азиз, – Адель положила ему руку на плечо, от чего он снова вздрогнул.
«Я ей нравлюсь. И она мне очень нравится. Но не в номера же, ей-Богу! И не в первый день».
От коктейля Адель разрумянилась. Она предложила пойти в Тиргартен.
На скамейках целовались парочки, и Адель слегка прижалась к своему спутнику. По дорожкам прыгали белки, не обращая внимания на людей. Гипсовые статуи смотрели вверх слепыми глазами. Шелест вековых дубов настраивал на лирический лад. Домет прочитал несколько строчек из своих «Индийских мелодий». Адель захлопала в ладоши.
– Так вы еще и поэт?
– Думаю, каждый писатель – поэт, – заметил Домет. – Чтобы быть поэтом, не обязательно рифмовать слова. А вы любите стихи?
– Я люблю танцевать. Вы танцуете, Азиз?
– Плохо.
– Не беда, я вас научу. Сейчас все танцуют «шимми». Это очень просто. Смотрите, – Адель закружила Домета прямо посреди дорожки, громко смеясь.
Парочки на соседних скамейках зааплодировали, а проходившая мимо пожилая фрау с двумя собачками в вязаных жилетиках неодобрительно бросила через плечо:








