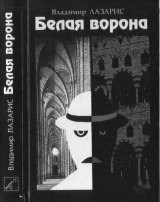
Текст книги "Белая ворона"
Автор книги: Владимир Лазарис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Владимир Лазарис
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Часть третья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
От автора
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Владимир Лазарис
Белая ворона
Роман
Светлой памяти мамы и папы
«Каждый человек проживает свою жизнь не только как индивидуум, но, осознанно или нет, жизнь своей эпохи, своих современников». Томас Манн, «Волшебная гора»
Часть первая


1
Азиз Домет смутно помнил Каир, где он родился. Помнил только, что все было огромным: река, пирамиды, сам город. Он рос с младшими братьями Салимом и Амином под строгим наблюдением отца. Господин Сулейман Домет был директором Немецкой школы в Каире, а в свободное время сочинял музыку к песнопениям в протестантской кирхе. В отцовском кабинете висели фотографии усатых и бородатых дедов и прадедов семьи Дометов из сирийского города Суфита, а рядом – большой портрет немецкого кайзера Вильгельма II. Азиз думал, что это еще один его предок. Справа от кайзера висела большая географическая карта, где одно место на береговой части Восточной Африки было обведено красным карандашом. На вопрос Азиза, что там обведено, отец произнес три непонятных слова «Дар-эс-Салам» и задумался. Он вспомнил этот портовый город, где служил переводчиком в немецком консульстве и где у его отца было немного акций алмазных приисков. Африка была раем. Бессловесные негры по первому же знаку прибегали с опахалом и с кувшином ледяной воды, в саду летали птицы с волшебным оперением, а за окном лежал Индийский океан.
– Папа, о чем ты думаешь? – спросил Азиз.
И отец начал рассказывать. Азиз слушал не дыша. Ореол отца засиял с новой силой: папа жил в Африке и купался в океане!
Когда Азизу было шесть лет, семья Дометов переехала из Каира в Иерусалим. Азиза отдали в школу, которой заведовал лютеранский миссионер, пастор Людвиг Шнеллер. Эту школу все так и называли «Шнеллер». Азиз носил серый мундирчик, такие же брюки, черные ботинки и красную феску. В мрачном здании «Шнеллера» по длинным коридорам никто не бегал и не шумел: это строго запрещалось. В классе полагалось сидеть, выпрямив спину, положив руки на парту и глядя только на учителя. Азиз очень любил уроки немецкого языка и литературы. Немецкий стал для него вторым родным языком. Отец внушал ему, что с великой немецкой культурой никакая другая культура не сравнится, как никакой другой язык не сравнится с немецким, и учитель немецкого языка, герр Витхофф, не мог нахвалиться маленьким арабским мальчиком, который наизусть читает целые куски из Гете и сам пробует писать стихи.
Раз в неделю отец брал своего первенца Азиза на прогулку по Иерусалиму. Они бродили по Старому городу, заходили в Еврейский квартал, в Армянский, потом шли на Русское подворье, в Немецкую колонию с ее ухоженными домами под черепичными крышами и с непременными палисадниками. «Вот она, Европа, – говаривал отец. – Даже на Восток немцы сумели перенести кусочек Германии». Рассматривали они и витрины, любовались проезжавшими каретами и дилижансами, рядом с ними нередко вышагивали верблюды, тащились нагруженные товарами мулы и ослы. На ослах Дометам домой привозили молоко в ведрах и оливковое масло в кувшинах. У каждого торговца была своя мерная кружка. Оливковое масло из Хеврона было зеленоватым, густым и с горьковатым привкусом. В погребе стояли мешки с мукой, с рисом и с сахаром. Сулейман Домет был человеком запасливым.
Во время прогулки с отцом Азиз всегда ждал встреч: с точильщиком ножей, на которого он с испугом смотрел, прячась за отцовскую спину от летящих из-под ножа искр; со старым цыганом, у которого была маленькая обезьянка в красной жилетке и в синих штанах. Она кувыркалась, скалилась и протягивала прохожим сморщенную ладошку, в которой была зажата бумажка с предсказанием будущего, обычно счастливого; и с продавцом финикового сока. Продавец в черных шароварах и в туфлях без задников нес в руках огромный кувшин. Носик кувшина напоминал хобот, и, когда продавец наклонял кувшин, оттуда лился сладкий-пресладкий сок. Но самым замечательным были медные тарелки, на которых продавец вызванивал условные знаки: один удар – сок сегодняшний, два – вчерашний, три – осталась только гуща.
Азиз видел, с каким уважением кланяются его отцу знакомые. Они нередко трепали Азиза по щеке и совали ему в карман сладости.
Сулейман Домет любил Иерусалим – Азиз этого города побаивался, потому что однажды услышал, как мама сказала папе: «Иерусалим его убил». Азиз понял, что город, в котором они живут, колдовской. Захочет – и убьет человека.
Лица юрких армян и печальных евреев, прекрасные особняки иностранных консулов, миссионеров и арабских купцов – все перемешалось в детских воспоминаниях. И только особняк богача Исмаила Бека эль-Хуссейни, о котором любил рассказывать отец, хорошо запомнился.
Назывался особняк «Ориент-хауз» и был одним из самых роскошных в Иерусалиме, под стать положению его владельца. Исмаил эль-Хуссейни строил дома в Иерусалиме и в Рамалле, завод по производству оливкового масла в Шхеме, открыл лодочную станцию на Мертвом море, искал нефть в районе Иерихона и при турках возглавлял Совет по делам арабского образования.
Стоявший на возвышении, «Ориент-хауз» всегда смотрел на прохожих сверху вниз. Внутренний дворик был засажен розами, гвоздиками и геранью, а в углу бил небольшой фонтан. В доме была огромная гостиная, обставленная в лучших традициях Востока. Вдоль стен – диваны, резные кресла красного дерева, привезенные из Египта, посередине – стол, на нем большая ваза с цветами. Когда заканчивалась официальная часть приемов, мужчины переходили из гостиной в кабинет покурить и побеседовать. В кабинете висела хрустальная люстра с разноцветными подвесками в виде виноградных гроздей.
Этот двухэтажный особняк с литыми воротами, украшенными арабскими письменами, и с открытой галереей, над которой нависла мансарда, конечно же оказался наиболее подходящим местом для приема немецкого кайзера Вильгельма II, посетившего Землю обетованную.
Все жители Иерусалима высыпали на балконы, на крыши и на главную улицу Яффа. В честь высокого гостя многие иерусалимцы расстелили у домов ковры, а на окнах средь бела дня зажгли свечи. Больше всех были возбуждены евреи из Германии, которые громко скандировали: «Да здравствует кайзер!» На пути кортежа высокого гостя стояли и ученики «Шнеллера» вместе с учителями. Азиз во все глаза смотрел на оживший портрет кайзера, висевший в отцовском кабинете, и готов был поклясться, что портрет ему подмигнул.
– И надо же было случиться несчастью как раз в такой день! – сказал наутро отец.
Восьмилетняя дочка хозяина «Ориент-хауз» сильно обгорела при пожаре, вспыхнувшем от одной из многочисленных свечей, которые зажгли в честь кайзера. Вильгельм II послал к девочке своего личного врача, но и он не смог ее спасти.
Когда отец дошел до смерти девочки, Азиз широко раскрыл глаза и сказал: «Иерусалим убил ее». Отец удивленно посмотрел на сына и строго сказал: «Не говори ерунды». А года через два Азиз услышал, как отец сам сказал немолодой шведской писательнице Сельме Лагерлёф, которой показывал город: «Иерусалим убил ее».
Когда в Палестине началась эпидемия холеры, Азиз был уверен, что это – дело рук Иерусалима. Под окном грохотали телеги, на которых везли за город на кладбище сотни умерших. «Шнеллер» закрыли, и братья Домет сидели дома. Да и взрослые старались не выходить на улицу.
Как-то вечером, читая газету, отец спросил:
– Почему в Яффе умерло триста арабов, а евреев – всего восемь?
– У евреев Бог сильнее, – ответила мать.
– А если поставить рядом Иисуса, Аллаха и еврейского Бога, кто из них сильнее? – спросил самый младший Амин.
– Это вас троих можно поставить рядом, – улыбнулся отец, – а Бога ни с кем рядом ставить нельзя.
– Ну, пусть не рядом. А кто из них все-таки сильнее? – не отставал Амин.
– Для каждого верующего его Бог самый сильный, – ответил отец.
Не прошло и месяца, как боги отвернулись от Иерусалима: ранней весной земля встала дыбом и задрожала, да так, что целые кварталы рухнули и улицы завалило обломками.
Родители Азиза вбежали в детскую, схватили детей и вместе с ними спрятались под кровати. В темноте, среди грохота падающих стен дети орали в три голоса. Мать судорожно молилась. Отец, задыхаясь, повторял: «День Страшного суда». Но через несколько минут Страшный суд окончился.
x x x
Уже взрослым Азиз прочитал роман Сельмы Лагерлёф «Иерусалим», за который она получила Нобелевскую премию. Будто подслушав страхи маленького Азиза, она написала в своем романе: «…Мало у кого хватает сил жить в Иерусалиме. Даже если люди хорошо переносят тамошний климат, долго они не выдерживают. В этом городе дня не прожить, не услышав таких слов об умершем: „Иерусалим его убил“. Приезжие спрашивают, как может город убить человека и что имеют в виду те, кто говорит эту страшную фразу „Иерусалим его убил“?»
Азиз подумал, что Лагерлёф сама же и ответила на свой вопрос, написав:
«Там мусульманин клевещет на христианина, еврей – на араба, русский – на армянина, фанатик строит козни против мечтателя, верующий сражается с еретиком. Там не знают милосердия, там, во имя Всевышнего, ненавидят людей. Иерусалим открылся нам другой своей стороной – город ловцов душ, злоязычников и лжецов, клеветников и хулителей. Там всегда кого-нибудь да преследуют, кого-нибудь отдают под суд. Вот почему правильно говорят, что Иерусалим убивает людей».
2
Вспоминая самые сильные потрясения в своей жизни, Домет начинал отсчет с того страшного дня, когда умер отец. Произошло это так неожиданно и так быстро, что домашние не сразу заметили, что он скончался.
Отец читал газету, мать на кухне готовила обед. Выйдя из своей комнаты и увидев отца с закрытыми глазами, Азиз решил, что тот задремал. Азиз подобрал с пола упавшую газету и пошел во двор играть с братьями в мяч. Они играли с полчаса, когда из дома раздался душераздирающий крик матери. Азиз вбежал в комнату: отец сидит в той же позе, мать стоит перед ним на коленях, кричит не своим голосом, хватает его за руки, целует их и не перестает кричать. Азиз испугался и не знал, что делать. А когда мать, как слепая, начала проводить руками по отцовскому лицу, тормошить его за плечи, дергать в разные стороны и ее крик перешел в завывание, Азиз от страха выбежал из дому.
На похоронах Азиз впервые увидел старшего брата отца, Джабара Домета, первого арабского профессора философии Американского университета в Бейруте. Дядя потрепал Азиза по щеке:
– Теперь ты – старший в семье. Береги мать.
По окончании траура Дометы перебрались в Хайфу.
Двенадцатилетний Азиз стал главой семьи, а в шестнадцать лет написал свою первую пьесу – «Цветущий лотос».
Азиз прочитал в какой-то старой книжке, что индусы считают лотос символом земного шара, плавающим в океане, и на тринадцати страницах написал одноактную пьесу об индийской девушке, которая расцветает от первой любви подобно лотосу. Об Индии ему рассказывал сосед, торговавший пряностями. От их запаха все время хотелось чихать.
Собрав домашних, Азиз стал в позу актера и на разные голоса продекламировал печальную историю индийской любви.
Мать заплакала от гордости за своего старшего сына, а заерзавшие от зависти Амин и Салим тоже захотели стать писателями. Но из них двоих писателем стал только Салим, а Амин, которого с детства учили музыке, стал пианистом.
Небольшого состояния, оставшегося от дедовских акций алмазных приисков Африки, хватило на то, чтобы дать детям хорошее образование.
Сначала Азиз изучал в Каирском университете арабскую литературу, музыку, историю египетского театра. Жил у родственников и подрабатывал в адвокатской конторе переводами с немецкого. К двадцати годам он написал трехактную пьесу на немецком языке «Рамзес II», а окончив университет, по возвращении в Хайфу еще одну – «Людовик XVI».
В хайфском театре молодому драматургу сказали, что он не лишен способностей, но пьесы вернули, сочтя их слабыми. От такого удара Домет никак не мог оправиться, пока на семейном совете не было решено, что он поедет в Европу продолжать образование.
В те предвоенные годы Европа напоминала человека, еще не знающего, что он смертельно болен. Австро-Венгрия, Германия, Англия, Россия – все эти империи печатали шаг на парадах, были заняты крупными международными скандалами, закатывали балы, кружились в вихре вальса, утопали в собольих палантинах, сверкали бриллиантовыми диадемами и жемчужными колье, ни на минуту не сомневаясь в своей незыблемости и вечности.
А Домет с большим увлечением изучал в Будапештском университете европейскую литературу и историю религий, а в Венском – философию и театральное искусство. С не меньшим интересом изучал он и мир актеров. Регулярно ходил в театры, не забывал посещать кабаре, кафе, а иногда и публичные дома.
Вена подавляла Домета своим величием и покоряла воздушностью дворцов, а Будапешт – еще и пейзажами. Он смотрел с высокой горы на этот уходящий за горизонт город, опоясанный Дунаем, и чувствовал себя на вершине мира. Потом сбегал вниз, бродил в зеленых садах и огороженных чугунными решетками парках, проходил мимо старинных дворцов, останавливался у античных статуй на площади Миллениум, в центре самых аристократических районов.
В Будапеште Домет подружился с венгерским трагиком Оскаром Бэрэги, который был знаменит исполнением шекспировских ролей и еще тем, что лишил невинности легендарную балерину-«босоножку» Айседору Дункан, о чем не упускал случая рассказывать, особенно после бутылки вина. Бэрэги посвящал Домета в тонкости театральной жизни, которым не учат ни в одном университете. Бэрэги прочитал первые пьесы Домета и сказал, что в них есть экзотика и это хорошо, но экзотики больше, чем жизни, и это плохо.
Неудивительно, что знаменитый трагик обворожил Айседору Дункан и Азиза Домета, но что могло привлечь Бэрэги к Домету? Возможно, он уловил в его пьесах тот театральный пафос, который был в моде перед войной, да еще сдобренный восточными страстями.
В одной из будапештских газет появилась такая заметка:
«Вчера в большом зале Королевской венгерской академии восточных искусств состоялся вечер, на котором арабский драматург Азиз Домет, живущий в нашем городе, впервые предстал перед публикой. Зал был переполнен. После приветственной речи ректора академии доктора Куноша интересный доклад о пьесах господина Домета сделал профессор Йозеф Патай. Он отметил, что эти пьесы воплощают в себе дух арабской поэзии и великолепие красок Востока. Кстати, добавил профессор, нельзя не отметить, что они написаны на прекрасном немецком языке. Господин Домет прочитал отдельные сцены из своих драм „Игры в гареме“ и „Валтасар“, которые вызвали гром аплодисментов. Затем артист Национального театра Оскар Бэрэги прочитал эпилог из драмы господина Домета „Смерть Семирамиды“, и публика снова устроила овацию, после чего Оскар Бэрэги вызвал Азиза Домета на сцену и выразил уверенность, что вскоре вся Европа будет рукоплескать его произведениям».
Заметка была датирована 12 июня 1914 года.
До выстрела в Сараево оставалось шестнадцать дней.
3
Журналист Итамар Бен-Ави, сын Элиэзера Бен-Йехуды, возродившего разговорный иврит, принес домой телеграмму об убийстве в Сараево эрц-герцога Фердинанда. В тот вечер у них собрались гости, и немедленно разгорелся спор.
Итамар считал, что сегодня же ночью начнется война. Австрия вступит в нее первой, ей на помощь придет Германия, а на помощь сербам придет Россия, Франция придет на помощь России, Англия – Франции и так далее.
Один из гостей с Итамаром не соглашался, и его поддержал основатель школы изящных искусств «Бецалель» Борис Шац. Он считал, что Европа не сошла с ума, чтобы из-за одного убийства начинать войну. Войны не будет. А Бен-Йехуда спросил сына, что, по его мнению, будет с Эрец-Исраэль[1], если война все-таки начнется. Итамар уверенно ответил, что в таком случае Эрец-Исраэль только выиграет, потому что Турция обязательно полезет воевать и конечно же будет разбита.
Сын Элиэзера Бен-Йехуды оказался прав.
x x x
Турция вступила в войну на стороне Германии в ноябре того же 1914 года. Она начала мобилизацию не только турок, но и всех своих подданных. Поэтому в ее армию попали и евреи, и арабы, одинаково ненавидевшие турок.
Мать забрасывала Домета тревожными письмами, а он не мог решить, вернуться домой, где его ждет армия, или оставаться в Европе, бросив на произвол судьбы мать с братьями. Хотя братья уже не маленькие, вполне могут позаботиться о матери. Но как же оставаться в Европе, раз у него турецкое подданство? Ну и что? Пусть они там все переколошматят друг друга. Ему-то какое дело до них! Ему всего двадцать четыре года. Сам Бэрэги сказал, что ему будет рукоплескать вся Европа. Что говорить – лучше афиша, чем некролог. Но, может, ему полезно побывать на войне: незаменимый материал для пьес. А если убьют? А если останется в живых, как на него будут смотреть, когда кончится война? Будут кричать вслед: «Дезертир!»?
В очереди к турецкому консулу Домет был двадцатым.
– Очень похвально, господин Домет, – сказал консул, – что в такое тяжелое время вы не забыли о своем долге.
– Собственно, я хотел узнать, – замялся Домет, – могу ли я получить отсрочку, потому что как раз сейчас у меня пьеса…
– Господин Домет, – сухо перебил консул, – о каких пьесах может идти речь, когда Его Величество султан объявил всеобщую мобилизацию?
– Да, конечно. Я только думал…
– Что бы вы ни думали, ваше место в армии.
– Дело в том, что я собирался поехать в Германию и уже оттуда… в самом скором времени…
– Господин Домет, дезертиров в военное время расстреливают. – Консул взял со стола приготовленную папку и открыл ее на первой странице. – У вас в Хайфе мать и двое братьев. Подумайте о них. Если вы немедленно не вернетесь домой и не явитесь на сборный пункт, у них будут большие неприятности.
x x x
Война занесла Домета в Дамаск, где размещался восьмой корпус турецкой армии под командованием полковника Джамаль-бея, которого за спиной называли «кучук Джамаль», «маленький Джамаль», в отличие от всемогущего министра морского флота Джамаль-паши, которого, не – смотря на малый рост, никто не называл иначе как «буюк Джамаль», «большой Джамаль».
Рядовой Азиз Домет был приписан к штабу пехотного батальона арабской бригады как писарь и переводчик при немецких офицерах, которых кайзер послал обучать турок стратегии ведения войны.
Очень скоро немецкие офицеры поняли, что их стратегия, как и немецкое мышление, несовместимы с турецкой армией.
Все командные должности в арабской бригаде занимали турки, не знавшие арабского языка и с нескрываемым презрением относившиеся к солдатам. Впрочем, с не меньшим презрением, разве что хорошо скрытым, к туркам относились немецкие офицеры.
Немцы были уверены, что прусская муштра в сочетании с теорией военного дела Клаузевица превратит турецкого солдата в копию немецкого. Но их ждало большое разочарование: измученные, голодные турецкие солдаты не могли долго маршировать на плацу, подобно прусским гренадерам, и вообще не рвались в бой. Что же касается насильно мобилизованных солдат-арабов, так у тех и вовсе не было ни малейшего желания умирать за турецкого султана. Обо всем этом Домет слышал в казарме, в столовой, в уборной, где велись бесконечные солдатские разговоры.
Поскольку и турки, и немцы не могли сговориться не только с солдатами, но и друг с другом, переводчики заменяли им рот и уши.
Азиза Домета сделали личным переводчиком начальника интендантской службы, майора Фрица Гробы, которому в турецкой армии присвоили равный чин – «бимбаши». Гроба был на голову выше Домета, выбрит до синевы, носил лихо закрученные усы, пенсне и не расставался с тростью. А ходил он, как на плацу, и любил похлопывать тростью по сапогам. Уроженец Баварии, майор Гроба хмыкнул, услышав слишком правильный немецкий язык своего переводчика.
– В штаб являться ровно в семь утра, – приказал Домету майор Гроба. – К моему приходу чтобы был готов крепкий чай с двумя кусками сахару, писчая бумага на моем столе должна лежать слева, карандаши, обязательно заточенные, – справа, а помещение хорошенько проветрено.
Прекрасный переводчик, Домет был незаменим для начальника интендантской службы, так как стал еще и его секретарем.
Перегруженная узкоколейка Дамаск-Иерусалим, сложности с переброской из Турции свежего подкрепления и боеприпасов, нехватка вооружения, амуниции, лошадей – все это ежедневно проходило перед глазами Домета во входящей и исходящей почте, которую он тщательнейшим образом регистрировал и аккуратно подшивал, к удовольствию своего начальника.
– Хорошая работа, Домет, – сказал майор Гроба, подкручивая усы. – Не отличить от немецкой. В нашем деле главное – порядок! На войне порядок – это победа, а беспорядок…
– Поражение, герр майор, – с готовностью отозвался Домет.
– Правильно. Поэтому с турками не повоюешь. Если не хватает сапог нужного размера – прощай победа. Солдат должен быть одет, обут, сыт и здоров. А что мы тут видим?
– Беспорядок, – поторопился ответить Домет.
– Нет, это уже не беспорядок, а бордель, – отчеканил майор Гроба. – Чего у англичан и, конечно, у немцев быть не может. Разве что у русских. Но мы-то союзники не англичан, а турок, черт побери! Какая тут все же тоска для нас, немцев, в этом Дамаске! А вас я, пожалуй, представлю к званию ефрейтора, – помолчав, добавил майор Гроба.
Домет часто мечтал, что сядет на поезд и через полдня выйдет в Хайфе. Вот это будет сюрприз для всей семьи! Что-то скажет мать, увидев его в военной форме! Впрочем, он знал, что она скажет: «Будь прокляты эти турки!»
Но никто не собирался отпускать Домета в Хайфу. Тем более майор Гроба, тонувший в ворохе бесконечных бумаг на неведомом ему языке. Да еще из Берлина приходили идиотские приказы от всяких тыловых крыс, которые не нюхали пороха и требовали от него ускорить поставку сапог самого ходового сорок первого размера.
– Где я им его возьму? – чертыхался майор, хлопая тростью по своим шевровым сапогам сорок первого размера.
Под стук пишущей машинки, чертыхания майора Гробы и пальбу с соседнего полигона Домет размышлял о новой пьесе из жизни египетского султана, что как-то скрашивало ему рутину солдатской жизни.
Где-то там, на севере, был русский фронт, гораздо ближе, на юге, – английский, но, если бы ефрейтора турецкой армии Азиза Домета спросили, чьей победы он хочет, он не знал бы, что ответить. Если он чего и хотел, так это конца войны, кто бы ее ни выиграл.
После Сирии Домет попал в Ливан. Их штаб восьмого корпуса разместился в очаровательном курортном городке Эйн-Софар в тридцати километрах к востоку от Бейрута. Место было выбрано великолепное: тысяча семьсот метров над уровнем моря, свежий воздух – спасение от вечной приморской жары, и, что не менее важно, есть казино, где до войны просаживали большие деньги богатые евреи из Эрец-Исраэль и богатые египтяне, снимавшие здесь на лето дачи. Теперь на дачах расположились штабные офицеры и вдохнули жизнь в опустевшее казино, куда низшим чинам вход был воспрещен.
Майор Гроба не хотел отпускать Домета, но нужда в людях, знающих арабский, немецкий, турецкий и английский языки, была так велика, что ефрейтора Азиза Домета в приказном порядке перевели из Дамаска в Эйн-Софар, где он благодаря связям майора Гробы попал в военную цензуру.
Турецкое командование всегда бдительно следило за настроениями в армии, особенно в военное время. Через военную цензуру проходили все письма в Европу из Палестины. На новом месте Домет ожил: теперь он занимался не сапогами, а людьми. Точнее, не людьми, а их мыслями, к которым получил неограниченный доступ. Вскрытые письма проходили через его руки, и он с трепетом вчитывался в строки, предназначенные одной-единственной живой душе на свете, на пути к которой вставал военный цензор Азиз Домет.
На столе у Домета лежала ручка, и главное – стоял пузырек с черными чернилами: по инструкции, Домет должен был вымарывать все, что казалось подозрительным. А заодно – и непонятным. Скажем, пишет человек о погоде и вдруг начинает подробно перечислять температуру за последние дни. А вдруг это вовсе не градусы, а номера воинских частей? Или солдат пишет, как не хочется менять море на пустыню. За такое и под суд могут отдать, чтобы не выдавал место будущей операции. Или письмо немецкого еврея из Иерусалима, в котором он рассказывает родным, что в городе началась эпидемия брюшного тифа.
Домет искал в письмах сюжеты и характеры для будущих пьес, но эпистолярный жанр определенно вырождался. Очень редко попадалась хорошая разговорная речь для диалогов или образная для описаний, которую приходилось вымарывать особо тщательно.
Во время увольнительных в Бейрут Домет несколько раз заходил к дяде Джабару, но не заставал его. Потом он узнал от матери, что дядя за границей. В Бейруте было много возможностей развлечься, и Домет их не упускал. Сидел в кофейнях, захаживал в бордель «Три розы». Он воображал себя султаном, который пришел в свой гарем. Разве что «султан» выстаивал длинную очередь и платил за любовь. Из девиц Домету очень приглянулась румяная и ласковая хохотушка Камилла. Она носила белые блузки с большим декольте, широкие цветные юбки и вплетала в длинные белокурые волосы нитку фальшивого жемчуга. Камилла обожала черешню. Она запрокидывала голову, открывала рот, и стоило Домету опустить в него ягодку, как ровные белые зубы зажимали черешок. Домет прикидывался, что не может его вырвать, и Камилла начинала хохотать. Еще она любила, неспешно раздеваясь, напевать старинную турецкую песню. Ее голос журчал, как ручеек, смывая усталость и тоску.
– Откуда ты знаешь эту песню?
– Меня научил один полковник.
– И как же его звали?
– Акрам-бей.
– Что? Начальник контрразведки?
– Может, и начальник. Для меня кто платит деньги, тот и начальник.
– А как он выглядит? Такой старый, толстый мерин с обвисшими щеками и проваленным носом? И голос тоненький, как у евнуха?
– Похож, – сказала Камилла, лукаво улыбаясь.
– Убью соперника! – шутливо крикнул Домет.
Через несколько дней его вызвали в контрразведку.
– Имя, фамилия? – рявкнул молодой следователь без особых примет.
– Азиз Домет. А в чем дело?
– В какой части служишь?
– В цензуре. Да зачем же меня вызвали?
– Ты подозреваешься в шпионаже.
– Что? Я? С чего вы это взяли?
– Заткни пасть! Здесь я задаю вопросы.
– Как вы смеете так со мной разговаривать!
Следователь с размаху сильно ударил Домета в ухо. Тот от неожиданности потерял равновесие и упал. Следователь закурил, спокойно подождал, пока Домет встанет, и снова ударил его. Из носа пошла кровь. Домет закричал.
– Молчать! – рявкнул следователь. – Отвечай на вопросы. Ты – английский шпион?
– Нет.
– Ты – французский шпион?
– Нет.
– Ты – русский шпион?
– Нет, нет, н-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-т!
– Молчать! Кто тебе приказал убить начальника контрразведки Акрам-бея?
– Что? При чем тут…
– Повторяю вопрос: кто тебе приказал убить Акрам-бея? Не ответишь – тебя подвесят за ноги на всю ночь. А потом сунут в камеру к трем турецким бандитам, которые сделают из тебя девочку. Кто тебе приказал убить начальника контрразведки?
– Я не понимаю… – Домет умоляюще прижал руки к груди. – Я в самом деле не понимаю…
– На прошлой неделе был в «Трех розах» у Камиллы?
– Что? – страшная догадка была слишком неправдоподобной. – У Камиллы? – он тянул время, чтобы избежать еще одного удара. – Да, был.
– Ты сказал ей, что убьешь Акрам-бея?
Домет побелел.
– Я же пошутил! Просто пошутил. Да вы спросите у Камиллы.
– Нам не нужно спрашивать. Она сама нам докладывает. Кто тебе приказал убить Акрам-бея?
– Никто. Я же говорю, это была шут…
Следователь вызвал двух дюжих верзил. Они перебрасывали друг другу Домета, как мячик, осыпая ударами. Все лицо у него было в крови, на одно ухо он ничего не слышал, а в другом стоял какой-то звон. Домет потерял сознание. Открыв глаза, он увидел следователя.
– Кто тебе приказал убить Акрам-бея?
Разбитые губы не могли пошевелиться.
Домета отволокли в камеру, но уже через полчаса снова потащили к следователю. Верзилы стояли наготове.
На второй день истязаний Домет хотел только одного – потерять сознание. Там, по ту сторону сознания, ему уже ничего не страшно.
– Будешь признаваться? – без всякого выражения спросил следователь.
– Мне… не… не в чем… признаваться, – еле-еле выговорил Домет.
– Ты назвал Акрам-бея евнухом. Ты знаешь, что для турка нет оскорбления страшней? Ты знаешь, что сам можешь стать евнухом?
– Я не называл. Я не хотел. Ради Бога, сделайте что-нибудь…
– Кое-что можно сделать.
Голова у Домета раскалывалась.
«Что он сказал? „Можно сделать“. И о шпионаже уже не говорит… Может, мое начальство вмешалось? У нас же работы по горло, а меня уже два дня нет».
– Умоляю вас, – пролепетал Домет. – Освободите меня. Я щедро отблагодарю.
В турецкой империи бакшиш открывал любые двери. В том числе и тюремные.
Домет еще не скоро оправился от потрясения. О Камилле он вспоминал с отвращением.
x x x
И все же ужасы войны, которыми запугивали Домета великие европейские писатели, казались преувеличенными, пока его бригаду не перевели в район Константинополя.
Там двое турецких солдат вывели из дома, откуда доносились женские вопли, армянина с разбитым лицом, и один солдат с размаху ударил его штыком прямо в живот. Армянин захрипел, скорчился и упал на землю. Тогда солдат всадил ему штык в горло и быстро отскочил, чтобы не запачкаться брызнувшей кровью. Оба солдата вернулись в дом и выволокли оттуда двух до смерти перепуганных мальчишек лет пяти-шести. Одного оглушили прикладом и перерезали горло ножом, а второго ударили головой о стену, а потом потехи ради отрезали у него уши и сунули ему в рот. Почистив штыки песком, солдаты попили воды из колодца, вернулись в дом и вскоре вытащили два женских трупа в разорванных платьях.
Домета, осевшего на землю, вырвало. Он хотел расстегнуть ворот мундира, но пальцы окостенели и только скользили по пуговицам. Рвота не прекращалась.
Хозяин соседней кофейни принес ему стакан воды и мокрую тряпку обтереть рот.
– За что они их? – шепотом спросил Домет.
– За то, что они армяне, – спокойно ответил хозяин и удивленно посмотрел на странного солдата, который до сих пор не знает, что армяне собирались перебить всех турок и захватить их государство.
Тем временем солдаты зашли в кофейню, сели пить кофе, после чего начали играть в нарды. К ним подошел хозяин и что-то сказал. Они повернулись в сторону Домета и захохотали.








