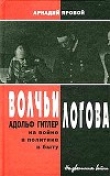Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
– Командующий бельгийской армией, – представился он официально и, отдал честь, приложив руку к козырьку фуражки.
На встречу с Гитлером он приехал в форме генерала, лишний раз подчеркивая этим, что капитулировал не король Бельгии Леопольд III, а командующий бельгийской армией. Гитлер сдержанно и снисходительно улыбнулся не столь сложному и поэтому легко разгадываемому демаршу Леопольда, протянул ему руку и совсем миролюбиво произнес:
– Ваше величество, я ценю мужество и доблесть ваших генералов, офицеров и солдат. Бельгийская армия сражалась достойно, а ваше руководство войсками было блестящим.
– Благодарю вас, – ответил Леопольд.
От миролюбивого настроя Гитлера у него отлегло от сердца, в груди начал таять затаившийся страх, рассеиваться тревожное опасение, за возможно, уготованное унижение. Конечно, это было только начало встречи и ее результат трудно было заранее предугадать, но начало оказалось неожиданно обнадеживающим.
– Ваши слова о мужестве и доблести моих солдат, офицеров и генералов делают им честь, – подстроился под тон Гитлера Леопольд.
– Я всегда считал вас опытным государственным и политическим деятелем, – продолжал Гитлер. – Провозглашенный вами принцип нейтралитета Бельгии в делах Европы – свидетельство великой мудрости и вашего личного мужества.
Гитлер умолк, посмотрел проницательно в лицо Леопольда, будто проверяя его состояние как от теплой встречи, так и от заранее заготовленной лести. Поняв, что он польщен и слушает с великой серьезностью, выложил самое главное.
– Ваше величество, судьба представила мне возможность убедиться, что вы еще и блестящий полководец. Вы – великий человек – решительно подчеркнул Гитлер. – И я счастлив видеть и принимать вас у себя. Прошу.
Он уступил дорогу, пропуская Леопольда в виллу.
Дипломатический этикет встречи был соблюден и исполнен по всем правилам. Леопольд, окрыленный высоким отзывом Гитлера, величественно проследовал в апартаменты. Покаянно сжимавшееся в нем в начале встречи королевское «я», распрямилось, внушая уверенность в нелегкой и ответственной беседе.
В кабинете Гитлер предложил ему место у журнального столика, демонстрируя этим свое расположение, создавая условия для непринужденной беседы. Сам расположился в кресле напротив и все тем же пронзительно-любопытным взглядом рассматривал Леопольда, которому было явно не по себе, но он сидел смиренно, ожидая начало разговора, который, должен был начать Гитлер.
– Нет ли у короля Бельгии личных просьб и пожеланий? – спросил Гитлер, откровенно давая понять Леопольду, что принимает его у себя не как командующего бельгийской армии, а как короля Бельгии.
Леопольд понял это и, выждав несколько мгновений, ответил спокойно, благодарно.
– Личных просьб и пожеланий нет. Я благодарю вас за то, что оставили мне и моей семье замок Лакен. В нем я чувствую себя совершенно свободным.
– Я очень рад. Беспокойство о сохранности семьи короля было для меня приятным, – вновь польстил Гитлер и после некоторой паузы, видимо, свидетельствовавшей, что дипломатический этикет закончен, уже совершенно иным голосом, в котором звучали нескрываемые нотки повелителя, спросил: – Я хотел бы знать, есть ли у вас личные взгляды на будущее вашей страны?
– Да, есть, конечно, – изменившись в лице, поспешно ответил Леопольд.
– Я готов вас выслушать.
Леопольд бесстрашно посмотрел в его помрачневшее, нервное лицо, подтвердил.
– Да, господин канцлер, есть, конечно, – Голос его при этом дрогнул и он мысленно выругал себя за расслабленность. В одно мгновение овладев собой, продолжил: – Для Бельгии я остаюсь королем и в связи с этим серьезно озабочен ее судьбой, судьбой моих подданных в оккупации. Все мои заботы о Бельгии, подчинены главному: я хотел бы получить от вас, господин канцлер, заверение относительно независимости моей страны.
Гитлер недовольно повел плечами, будто удобнее устраиваясь в кресле для решительного разговора, но ничего не ответил.
– Прежде, чем обсудить другие проблемы, – мягко настаивал Леопольд, – я хотел бы иметь разъяснение по этому вопросу.
С каждым его словом о независимости Бельгии, все больше ожесточалось лицо Гитлера. Его лихорадочный взгляд поблуждал по Леопольду, уставился в одну точку на мундире в области сердца, и король почувствовал, как в груди у него похолодело.
– Что будет с независимостью Бельгии? – еще раз спросил он свинцовыми губами.
Гитлер и на этот раз ничего не ответил. Поднялся из-за столика, несколько раз нервно прошел по кабинету. Остановившись около сидевшего в потерянной позе Леопольда, спросил:
– Что будет с независимостью Бельгии?
– Да, господин канцлер.
– Прежде всего, – приглушенным голосом начал Гитлер, – я хочу заметить, ваше величество, что Германия не хотела войны. Не хотела, – подчеркнул он и, заражаясь гневом, продолжил: – И я сделал все, чтобы предотвратить ее. Но бельгийское правительство приложило немало усилий, чтобы вместе с Англией и Францией подготовить войну против Германии. Бельгия служила трамплином для военных действий против рейха.
Будто разрядившись от гнева, он круто повернулся перед Леопольдом и вновь пошел по кабинету.
– Независимость? – спросил издалека, от своего рабочего стола.
– Я позволю себе напомнить, господин канцлер, о нейтралитете Бельгии, невмешательстве в дела Европы и события в ней происходившие до начала войны, – осторожно сказал Леопольд.
– Нейтралитет, независимость? – мрачно проговорил Гитлер, возвращаясь к столику и усаживаясь на свое место, – В настоящее время в Европе складывается такая обстановка, которая дает мне право требовать от Бельгии безоговорочного подчинения в военной области и во внешней политике.
Мраморная бледность лица Леопольда сменилась приливом крови. Его мечты о независимости Бельгии в условиях оккупации рухнули в один момент и от этого он почувствовал себя близким к потере сознания.
– Но… – молвил он, пытаясь сопротивляться, – Но, господин канцлер, безоговорочное подчинение в военной области и во внешней политике исключает независимость Бельгии и я, как…
– Во внутренней области, – прервал его Гитлер, не дав довести мысль до конца, – вы можете делать все, что хотите. Германия не для того существует, чтобы выполнять роль гувернантки малых стран.
Ошеломлявшие и категорические решения Гитлера сбили Леопольда с занятой позиции, но он все же надеялся, что не все кончено, что где-то еще есть проблеск на положительное решение проблемы, надо только отстаивать свое право.
– Да, но оккупационный режим, – продолжал он осторожно, – установленный вашими войсками, лишает меня, как короля Бельгии, возможности делать, что я хочу и во внутренней области.
– Повторяю, Германия не гувернантка малых стран, – отрезал Гитлер.
Леопольд понял, что этот вопрос исчерпан и умолк. Той борьбы, которую он был намерен вести по главной проблеме, не получилось. Непреклонная и решительная воля диктатора сломила его и он, до глубины души потрясенный крушением своих иллюзий, после короткого, но мучительного раздумья, перешел к другой проблеме.
– Я желаю обратить ваше внимание, господин канцлер, на недостаток продовольствия, – сказал он, стараясь придать своей речи уверенный, независимый тон, но голос его фальшивил, выдавая внутреннее волнение и страх, – У нас нет больше резервов, они вывезены вашей администрацией. Если не случится чуда, то в Бельгии в ближайшее время начнется голод.
Гитлер уловил состояние Леопольда и, словно потешаясь над ним, ответил назидательно, как отвечает учитель школьнику.
– Сейчас, ваше величество, все должны страдать, испытывать часть общих трудностей. Но, – повысил он голос, – германский народ должен меньше всего страдать от последствий войны, потому что мы ее не хотели! – На его мрачном лице с темными полукружьями под веками при этой откровенной лжи не дрогнул ни один мускул. – Если голод наступит, – продолжал он развивать свою мысль, – то его должны испытать прежде всего другие страны, а не Германия. Они должны перенести свою долю ответственности. Бельгийское правительство также имеет свою долю ответственности.
Логика Гитлера была чудовищной. Собственную вину за развязывание войны в Европе он безоговорочно взваливал на другие государства, правительства, народы, привлекая их к ответственности. В свое оправдание он выворачивал всю довоенную историю Европы наизнанку, пытаясь убедить в этом Леопольда.
Заметив плохо скрываемое недоумение и несогласие на лице Леопольда, он прибег к шантажу.
– Я могу опубликовать документы, которые убедительно это доказывают. У бельгийского правительства была особая точка зрения на нейтралитет, – вновь повысил он голос, по-видимому, совершенно забыв, что несколько минут назад утверждал, что принцип нейтралитета Бельгии – свидетельство политической мудрости Леопольда, – К десятому мая оно сделало все, от него зависящее, чтобы вместе с Францией и Англией подготовить войну против нас.
Леопольд мог сопротивляться, доказывать обратное, пытаться все поставить на свое место, но его положение, опасение за свою жизнь не позволяли этого делать.
– Мы понимаем военный аспект этого вопроса, – согласился он сдержанно. – Но у нас нет резерва продовольствия, – вернулся он вновь ко второй проблеме. – Нормы выдачи продовольствия бельгийскому населению не только ниже норм выдачи немецкому, но и цифры этой нормы являются фиктивными и теоретическими. Мы не получаем того количества продовольствия, на которое имеем право.
– Право? – метнул на него Гитлер недовольный взгляд, в котором вспыхнул твердый блеск. – Продовольственный вопрос – это вопрос дисциплины между производителем и потребителем. Мы, немцы, дисциплинированный народ. В других странах в этом вопросе дисциплины нет.
Гитлер умолк, словно поставил точку и в кабинете наступила мертвая тишина. Леопольд видел, что встреча теряла всякий смысл, стремительно шла к концу и поэтому пытался цепляться за иллюзорную возможность склонить Гитлера к положительному решению хоть одной важной для Бельгии проблемы, чтобы вернуться домой не с пустыми руками.
– Господин канцлер, – попросил он не так уверенно, как хотел, – я прошу вас рассмотреть третью проблему, которая волнует меня, как короля Бельгии и командующего бельгийской армии. Я прошу вас рассмотреть вопрос о возвращении на Родину бельгийских военнопленных.
Это была последняя проблема Леопольда и, высказав ее, он смотрел на помрачневшее, непроницаемое лицо Гитлера, с нескрываемой надеждой на положительный ответ. Но Гитлер не внял его просьбе, не заметил просящий взгляд, отрывисто нажимая на каждое слово, будто расстанавливая их, как солдат в одну шеренгу, ответил:
– Нам нужна рабочая сила в Германии. Всей Европе будет полезно поработать у нас, в Германии! Всей!
Выпалив это, несколько успокоенным голосом, самолюбиво и рассудительно сказал.
– У нас, в Германии, находится 166 тысяч ваших военнопленных. Конечно, для вас было бы неплохо отпустить их, но я не вижу, что можно сделать в этом вопросе в настоящее время.
Он демонстративно посмотрел на часы, давая понять, что время встречи истекло и Леопольд поторопился вновь вернуться к первой проблеме.
– Могу ли я, господин канцлер, – спросил он, – вернувшись в Бельгию, заверить бельгийцев, что наша независимость будет восстановлена?
Гитлер непонимающе посмотрел на него, будто спрашивая, о какой независимости могла идти речь? Но ответил спокойно.
– Я был бы вам признателен, если бы вы об этом пока ничего не говорили. Я хочу вас заверить, что я не дотронусь до вашего дома в любом случае, – закончил он многообещающе и торжественно. – А сейчас, ваше величество, прошу на чай в вашу честь.
Мрачный, подавленный ни с чем возвращался Леопольд в Брюссель, не подозревая, что в историю Бельгии, как и в историю его судьбы эта встреча войдет под названием «Чаепитие с Гитлером!»
* * *
Возвращаясь в Брюссель с линии обороны на реке Диль, Марина, Марутаев и Деклер быстро нашли общий язык, прониклись доверием и, чтобы не терять связь обменялись телефонами.
– Звоните, – просил Деклер. – Я рад знакомству с патриотами Бельгии.
– И России, – добавила Марина.
– И России, мадам, – согласился он.
Шло время. Марутаев и Марина довольно часто, до мельчайших подробностей вспоминали встречу с Деклером, размышляли над каждым, произнесенным им, словом, высказанной мыслью и открывался он им не только страстным поклонником русской литературы, блестящим знатоком русского языка, но и убежденным антифашистом.
– Нужно поднимать бельгийцев на борьбу с оккупантами, – говорил он доверительно. – Дело это сложное, опасное, но крайне нужное. Мы убеждены, что народ пойдет за нами.
– Кто это «мы»? – задала вопрос Марина.
Деклер пристально посмотрел сначала на нее, потом на Марутаева и, не решаясь сказать правду о том, что под этим «мы» надо подразумевать коммунистов, ответил уклончиво:
– Бельгийские антифашисты, мадам. Правда, нас пока немного, но мы надеемся зажечь в сердцах бельгийцев пламя ненависти к фашистам. А пока надо вооружаться.
– Мы поможем вам, – пообещал Марутаев, вспомнив, что об этом же говорил и Шафров.
– Буду весьма благодарен, мсье, – ответил Деклер и учтиво склонил голову в знак признательности за понимание и обещанную поддержку.
Однако добывать оружие оказалось делом нелегким. Марина и Марутаев несколько раз ездили на линию обороны, но возвращались почти ни с чем. Немецкий пистолет «Парабеллум», сломанный автомат да около сотни собранных в разных местах патронов – вот и все, что удалось найти. Видно было, что в поисках оружия на линию обороны приходили не одни они.
* * *
Над Бельгией стояла тихая, лунная ночь. Залитая лунным светом довольно далеко и достаточно четко просматривалась дорога Брюссель—Намюр, по которой двигались автомашины с войсками, боеприпасами, военным имуществом, горючим.
В районе города Вавра, что в тридцати километрах от Брюсселя, притаившись в кустарнике, вторую ночь терпеливо наблюдал за движением на дороге Марутаев. Сюда привело его обещание добывать оружие, которое он дал Деклеру.
Он понимал, что способ приобретения оружия, которым намеревался воспользоваться был довольно рискованным, опасным для жизни, но иначе поступить не мог. Честь русского человека, свое слово он ставил выше опасности, а что касается жизни, то был уверен, что операцию проведет успешно.
Наблюдая за дорогой, он отметил, что поток автомашин к ночи ослабевал, а после полуночи почти совсем замирал и только отдельные автомашины да мотоциклисты изредка проносились по асфальтной ленте на бешеной скорости. Их-то, мотоциклистов, и выжидал Марутаев.
В третьем часу ночи он осторожно перебрался из кустарника поближе к повороту дороги, которая резко сворачивала влево, устремляясь вниз, в долину. Именно здесь, думал он, удобно метким выстрелом из пистолета снять мотоциклиста, захватить оружие.
Медленно тянулось время томительного ожидания. Шоссе, сколько можно охватить взглядом, было пустынно – ни одной машины или мотоциклиста ни в Брюссель, ни из Брюсселя и Марутаев начал нервничать, опасаясь, что мотоциклисты могут вообще не появиться или появятся, когда на шоссе под утро вновь хлынет поток автомашин.
Однако вскоре со стороны Брюсселя послышался шум мотоцикла и чувство сомнения у Марутаева исчезло, уступив место напряженному ожиданию, поединка. «Как-то произойдет этот поединок? Как предполагалось? Или?…» – думал Марутаев. Впрочем неудачного развития задуманной операции он не предвидел и поэтому извлек из кармана пистолет, пристально посмотрел на шоссе. В лунном свете увидел серый силуэт мотоциклиста, который, соблюдая маскировку, ехал без света. С каждой минутой он обретал все более ясные очертания. И Марутаев, не отрывая от него сторожкого взгляда, поспешно занял удобное для выстрела положение. Он не боялся встречи с немцем и, кажется, не волновался, но при этом однако почувствовал, как словно замерло в груди сердце да все тело стало каким-то напряженным, будто туго натянутый жгут мышц и нервов.
Между тем звук мотора стремительно нарастал, но Марутаев уже не слыхал его потому, что все внимание сосредоточил на темном силуэте мотоциклиста. «Подпустить ближе. Бить наверняка», – думал он.
Когда же мотоциклист оказался на таком расстоянии, что стала совершенно четко видна его фигура, склоненная над рулем, Марутаев жарко прошептал себе: «Пора!» и нажал на спусковую скобу пистолета. Грохнул выстрел, на мгновение заглушив рев мотора, но вопреки ожиданиям Марутаева мотоциклист не свалился на шоссе, не выехал в кювет, а, прибавив газу, промчался мимо него в сторону Льежа.
Марутаев заскрежетал зубами от внезапно охватившей ярости. «Не попал!» – выругал он себя самыми последними словами и вскинул пистолет, чтобы выстрелить в спину стремительно удалявшегося немца, но тут же мысль об осторожности остановила его. Два выстрела на дороге могли привлечь к себе внимание. Он поднялся из засады и бросился в след за мотоциклистом, все же надеясь, что не промахнулся, что немец, должно быть, вот-вот свалится. Бежал, что есть силы и не ошибся. Примерно, в ста метрах от засады на крутом повороте дороги мотоцикл вынесло в кювет. Взревев мотором, он несколько раз перевернулся, выбросив на землю мотоциклиста.
Лицо Марутаева рассекла самодовольная улыбка – все ведь складывалось так, как он задумал. Задыхаясь от спринтерского бега, он подошел к мотоциклисту, лежавшему неподвижно, бездыханно, уткнувшись лицом в землю, и остановился перевести дух. Переполненный ощущением одержанной победы, уверенный в себе, он посмотрел на шоссе, которое по-прежнему было пустынно, и, не обнаружив ничего подозрительного, положил в карман брюк пистолет, нагнулся к немцу, чтобы снять с него перекинутый за спину автомат.
Ему показалось, что немец тихо застонал, но это было так невероятно, что он отнес этот стон скорее к галлюцинации, чем к действительности. Чтобы снять автомат, он повернул немца на спину и тут произошло совершенно непредвиденное. Внезапно немец обеими руками вцепился ему в горло и сдавил так, что дикая боль пронзила все его тело.
От неожиданного нападения Марутаев растерялся и этого оказалось достаточно, чтобы немец сильным рывком и болевым захватом шеи бросил его на землю и навалился всей тяжестью своего тела.
Почувствовав смертельную опасность, Марутаев мгновенно овладел собою. Резкими движениями всего корпуса он пытался вывернуться из-под немца, что было силы и позволяло положение лежачего, колотил его кулаками по лицу и голове, но немец сносил эти удары, понимая, что они не смертельны, а словно железными тисками сжатое горло Марутаева вскоре лишит его силы и он задохнется.
А Марутаев действительно задыхался и от удушья, и от невыносимой боли, и от лютой ненависти к немцу. Отчаянным усилием он сжал в запястьях его руки, стремясь оторвать от горла, но хватка немца была мертвой. «Неужели это все? Неужели конец?» – черной молнией пронеслась в мозгу Марутаева страшная мысль. Ему даже почудилось, что откуда-то пахнуло на него удушливым запахом смерти да невообразимый страх ледяным панцирем сковал тело. «Нет! Я должен жить!» – кричало, сопротивлялось все его существо.
Торопливо нащупав ногами место для упора, он еще раз неожиданным рывком попытался сбросить с себя немца, но тот, по-звериному зарычав, с удвоенной силой налег на него, словно хотел заживо вдавить в землю. Цепенящая волна ужаса захлестнула Марутаева – он понял, что справиться с немцем не хватит сил. Правда, через секунду ему все же удалось несколько ослабить захват рук немца и вдохнуть свежий воздух. Но это было лишь мгновение, за которым со стороны немца последовал такой силы зажим горла, что Марутаев ощутил будто налитые кровью глаза болезненно вылезают из орбит. Голову распирала чудовищная боль, ломило в висках, во рту пересохло до отвратительной шершавости. С тоской подумал он о пистолете, преждевременно и беспечно вложенном в карман, дотянуться до которого не было никакой возможности.
Марутаев потерял счет времени. Конечно, оно отсчитывалось сейчас не часами, а минутами, но каждая из этих минут, наполненная драматической борьбой, казалась ему бесконечно долгой и невыносимо тяжелой. Отправляясь на операцию, он и предположить не мог, что ему суждено было оказаться в смертельно опасном положении, что и секунды с неумолимой жестокостью будут отсчитывать его время. От понимания всей глубины постигшей его трагедии, от сознания, что судьба привела его к последней черте, от страстного желания выстоять и выжить, Марутаев ощутил в себе какой-то внутренний, потайной прилив сил и, преодолевая боль, напрягшись до онемения мышц, резким движением рванул руки немца в стороны. В этот рывок он вложил всего себя, все, что еще имел его измученный, доведенный до предела, организм. Руки немца сорвались с его шеи, ставшей влажной и скользкой. Марутаев, судорожно набрав в легкие воздух, теперь поспешно, в одно мгновение вцепился в горло немца. Следующим рывком сбросил его с себя на землю и у дороги Брюссель—Льеж в свирепой и смертельной схватке сплелись два тела – русского человека и немецкого фашиста. Они катались по траве со звериным рычанием, сдавленными воплями и дрались не на жизнь, а на смерть, которую кто-то один должен был принять. Мысль о смерти приводила их в ярость. Марутаев был на пределе сил, как на пределе сил был и немец, но ни тот, ни другой не позволяли себе передышки, потому что каждому казалось – еще одно усилие и противник испустит дух. Они забыли об оружии, которое могли применить. Впрочем, если бы и вспомнили, то прибегнуть к нему не смогли бы. Пистолет Марутаева во время борьбы вывалился из кармана и затерялся где-то в траве, автомат немцу надо было перевести из-за спины, чего не давал делать Марутаев. Озверев, они видели только одну возможность уничтожить друг друга – задушить, и оба стремились к этому с непостижимой жаждой и упорством.
В какой-то момент Марутаев почувствовал, что немец начал заметно сдавать. Он еще сопротивлялся, но сила сопротивления ослабевала с каждой секундой и, наконец, настал тот момент, когда он, стремясь оторвать руки Марутаева от горла, уже не смог это сделать с той решимостью, как это делал минутой раньше, а только слабо потянул их в стороны и затих. Марутаеву не верилось, что закончилась смертельная схватка и он не отпускал немца до тех пор, пока не почувствовал, что немец мертв. Но даже после этого, чтобы окончательно удостовериться в победе, приложил ухо к его груди и, не услыхав биения сердца, облегченно вздохнул. Победа была полной, но Марутаев не испытывал радости, а сидел у трупа немца опустошенный, с растерзанным видом, медленно остывая от схватки, приходя в себя.
Ломило горло, страшно болела голова, легким не хватало воздуха и он дышал жадно, поспешно, взахлеб. На правой щеке, которой касался груди немца, проверяя, бьется ли его сердце, ощутил влагу и вытер ее ладонью. Ладонь стала мокрой, липкой.
«Кровь! Немец разбил мне голову?» – подумал Марутаев и поспешно ощупал ее. Ран и кровоточащих ушибов не обнаружил, но не успокоился. «Откуда же кровь на лице? – навязчиво пульсировала в его голове мысль. Он осмотрел рядом лежавшего немца. И на его мундире у правого плеча заметил обширное темное пятно. Потрогал рукой. Да, это была кровь и Марутаев впервые после схватки скупо улыбнулся, довольно подумал: «Все же я его ранил».
* * *
Двадцатого июня 1941 года военный комендант Брюсселя генерал Фолькенхаузен и начальник гестапо штурмбанфюрер СС барон фон Нагель каждый по своей линии: первый – из ставки Гитлера, а второй – из Главного управления имперской безопасности Германии – получили шифротелеграммы, в которых им категорически предписывалось к исходу дня двадцать первого июня разработать и быть готовым ввести в действие необходимые меры безопасности, исключающие любые выступления местного населения против оккупационных властей. Нагелю также предлагалось в ночь на двадцать второе июня произвести аресты и изолировать от общества бельгийских коммунистов, антифашистов, просоветски настроенных лиц.
В телеграммах ничего не было сказано о причинах, которые диктовали необходимость проведения столь радикальных мер безопасности, но Фолькенхаузену и Нагелю большого труда не составляло понять, что Германия находится накануне важного события, и в связи с этим ей крайне необходимо обеспечить спокойствие в оккупированной Бельгии.
План нападения на СССР под кодовым названием «План Барбаросса» генеральный штаб вермахта разрабатывал в строгой тайне. До поры, до времени, пока о нем знал ограниченный круг лиц, пока немецкая пропаганда в целях дезинформации трубила о готовящемся вторжении через Ла-Манш в Англию, и эта версия подкреплялась демонстративным сосредоточением войск на северо-западном побережье Франции и Бельгии, мало у кого возникала мысль о войне с Советским Союзом. Когда же к советской границе с запада стали перебрасывать одну за другой дивизии, корпуса, когда Главное управление имперской безопасности начало спешно формировать с огромным штатом службы гестапо и отправлять их на восток, когда несколько десятков белоэмигрантов были взяты в армию, гестапо, армейскую разведку «Абвер» в качестве переводчиков для Фолькенхаузена и Нагеля стало очевидным, что вопрос войны с Советским Союзом предрешен и, судя по телеграммам, начать ее Гитлер решил двадцать второго июня 1941 года.
Всю ночь на двадцать второе июня Нагель не спал. Он четко выполнял приказ РСХА и гестапо под его руководством работало, как хорошо отлаженный механизм беспощадной карательной машины. К четырем часам утра тюрьма Сент-Жиль в Брюсселе была переполнена новыми узниками и Нагель, доложив обер-фюреру СС Нойдорфу об окончании операции, осторожно спросил:
– Если не секрет, я хотел бы получить информацию…
– Через два часа секрета на Востоке не будет, – ответил самодовольно Нойдорф, – Слушайте сообщение радио, барон.
Нагель все понял и через полчаса появился в кабинете Фолькенхаузена.
– Поздравляю вас, генерал, – сказал он радушно. В его голосе звучала приподнятость переживаемого момента и сам он, несмотря на усталость от бессонной ночи, выглядел торжественно, – Из РСХА мне только что дали понять…
– Из ставки фюрера, – прервал его, тепло улыбаясь, Фолькенхаузен, – мне тоже дали понять… Так что и вы, господин барон, примите мои поздравления по случаю…
– Благодарю, благодарю, – ответил Нагель, крепко сжимая в своих больших ладонях тощую кисть руки генерала. – Свершилось… Теперь будем ожидать победных сообщений, – с чувством искренней и глубокой радости произнес он.
– Да, конечно, – согласился Фолькенхаузен и в мыслях не допуская иного исхода начатой Гитлером восточной кампании, – Войска фюрера, обогащенные опытом боевых действий в Европе, молниеносно покончат с Россией. В этом я убежден. Если господин барон не возражает, – вдруг перешел он на доверительный, товарищеский тон, – то я позволил бы предложить коньяк и кофе.
– О, начало победы надо отметить, генерал! – не возражал Нагель.
С раннего утра, как только кончился комендантский час, в городе появились усиленные офицерские патрули, на перекрестках улиц, у зданий немецкой администрации, военных штабов и казарм, у банка, почты, телеграфа, замка Лакен, северного и южного вокзалов заняли боевые позиции танки, бронетранспортеры, по улицам столицы разъезжали машины с солдатами СС. Брюссель напоминал осажденную крепость с усиленным военным режимом. Вскоре распространились слухи об арестах бельгийцев и русских эмигрантов. Волнение нарастало, и люди терялись в различных предположениях. Человеческая фантазия, подогретая напряженной неясностью, рождала одну версию за другой, при этом последующая, порой была более страшной, чем предыдущая. И не известно, чего бы достигла эта фантазия, если бы к полудню по городу непостижимо быстро не прошел слух о нападении фашистской Германии на Советский Союз. В связи с тем, что официального сообщения бельгийского радио и прессы еще не было, слух этот, подобно снежному кому, обрастал всевозможными «подробностями» о разгроме Красной Армии, молниеносной войне, которая продлится всего четыре недели. Немцы в Брюсселе торжествовали. Бельгийцы затаенно и гневно молчали.
Марутаев вихрем ворвался в квартиру.
– Война! – выдохнул он еще с порога, – Война. Включи радио. Война с Россией!
Марина вздрогнула. Уставила на него наполненные испугом глаза. Внутри у нее все замерло и, казалось, сердце сорвалось с места и стремительно опускалось куда-то вниз. Из ее онемевших рук выскользнул и с резким звоном упал на пол острый кухонный нож. Она потерянно смотрела на Марутаева, чувствуя как подкашиваются в коленях ноги.
– С Россией? – прошептала она, опустилась на стул и положила на колени в миг отяжелевшие руки.
– Да. С Россией, – подтвердил Марутаев, включая радио.
Диктор брюссельского радио передавал сообщение об объявлении войны Советскому Союзу. Гитлер обвинял советское государство в нарушении германо-советского пакта о ненападении, заключенного в 1939 году, в концентрации войск на западной границе, ее нарушении советскими самолетами и солдатами. Диктор говорил еще что-то, но все, им сказанное, доходило до сознания Марины, будто прорываясь через густую пелену заслона. Доверчивая по своей натуре, она верила немецкой пропаганде о подготовке вторжения вермахта в Англию и совершенно не представляла, что Гитлер повернет на Восток, что война обрушится на их Родину. Пожалуй, никогда, даже во время оккупации Брюсселя, она не испытывала столь глубокого потрясения. Жгучая боль за судьбу Родины, ощущение чего-то страшного с этого дня ворвалось в ее жизнь.
«Война», – думала она и на память ей приходило недалекое прошлое Бельгии. Она явственно представляла картины ужаса, охватившего толпы брюссельцев, в паническом страхе метавшихся по улицам города. «Война», – думала она и вспоминала армады немецких самолетов, устрашающе грозно пролетавших над Брюсселем, бомбить бельгийские войска, города и деревни. Вспомнился героический Льеж, разрушенный смерчем войны. «И такой же смерч бушует сейчас над Россией?» – больно отдавалось в ее сердце. Она понимала, что дорогу возвращения на Родину отныне ей преградила бездна, которую не перешагнуть, не обойти, и за этой бездной, за пылающим в пожаре войны горизонтом, осталась недосягаемой Россия. «Нет, нет. Это не все!» – боролась она с этим страшным выводом, а диктор продолжал казнить ее, разливая на всю Бельгию туманное море лжи германской политики, утверждая, что Гитлер начал войну с Советским Союзом, чтобы спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и проложить путь к действительному социальному подъему в Европе.