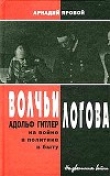Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– Ультиматум привести в действие, если… – уточнил Киевиц.
– Бесспорно. Жестокость на жестокость. Смерть за смерть. Так сейчас говорят русские.
– Ну, что ж, – после некоторого раздумья ответил Киевиц, – Пожалуй, можно согласиться. Изучим маршруты движения офицеров по городу, места их развлечений – рестораны, кафе, театры, парки. Я могу выставить на эту операцию семнадцать офицеров моего полка. В ресторане «Националь» боевой группой будет командовать капитан Мишель Жакен. Помогать ему будет лейтенант Гастон Марен. Они вам известны. Проверены в боях за Льеж. Не подведут.
– Отлично, – обрадовался Деклер. – Мы дадим десять рабочих-коммунистов, бывших солдат нашей армии. Хватит?
– Вполне.
– Разработка операции поручается вам, Анри, – торжественно объявил Деклер.
– Сочту за честь, – ответил по-военному четко Киевиц и принял стойку «смирно», как это делал, когда в армии получал приказ командира.
– Ультиматум Фолькенхаузену и Нагелю я напишу сейчас, – сказал Деклер, сел за стол, сосредоточенно задумался и через какое-то время подал Киевицу крупным, уверенным почерком исписанный лист бумаги. – Прошу ознакомиться.
«Военному коменданту немецких оккупационных войск в Брюсселе генералу Фолькенхаузену. Начальнику гестапо Брюсселя штурмбанфюреру СС барону фон Нагелю, – читал Киевиц, – Ультиматум. Штаб Движения Сопротивления германским оккупационным войскам в Бельгии, стремясь предотвратить бессмысленное кровопролитие, требует немедленно освободить шестьдесят бельгийских заложников и предупреждает, что в случае их казни, в тот же день в Брюсселе будет уничтожено шестьдесят немецких офицеров. В серьезности настоящего предупреждения вы будете иметь возможность убедиться в ближайшее время сами. Штаб ДС. Брюссель, 12 декабря 1941 года».
– Можно подумать, дорогой Шарль, – довольно улыбнулся Киевиц, окончив читать, что вы всю жизнь сочиняли ультиматумы противнику. Четкость, категоричность… Дополнить ничего не могу.
– Мы пошлем это Фолькенхаузену и Нагелю, – объяснял Деклер свое намерение, – а копии расклеим по городу у казарм, штабов, военной комендатуры, гестапо, в местах, где бывают немецкие офицеры.
– Психологическое давление?
– Да, конечно. Нужно поднять бельгийцев на решительный протест, – развивал свою мысль Деклер. – Организовать массовую посылку писем Фолькенхаузену, Нагелю, в тюрьму Сент-Жиль, требовать освободить заложников, угрожать возмездием. Фашисты должны почувствовать гнев народа и остановить казнь невинных.
* * *
Нагель посмотрел на часы. До доклада обер-фюреру СС Нойдорфу оставался один час. Он опустился в кресло и, волнуясь, с бессмысленной аккуратностью принялся перекладывать с места на место многочисленные документы, лежавшие на столе, пытался читать их, но тут же ловил себя на том, что не в состоянии вникнуть в содержание. Отложив это бесполезное занятие, стал готовиться к докладу, подыскивать нужные слова, выражения, определять тон, каким следовало говорить, чтобы смягчить впечатление, которое он произведет на Нойдорфа сообщением о том, что преступник еще не найден. Страх перед докладом, о котором будут информированы рейхсминистр Гиммлер и ставка фюрера, постепенно уступал место гневу, поднимал в груди Нагеля волну ненависти ко всем, кто мешал раскрыть преступление, и прежде всего к шоферам такси, среди которых, несомненно был тот, что взял в машину убийцу. В ворохе лежавших на столе документов, он нашел список арестованных шоферов, шевеля губами, вычитывал их фамилии. Долгие годы работы в службе безопасности выработали у него шестое чувство – гестаповскую интуицию и, положившись на нее, он остановил свое внимание на капитане Матеньи – одном из двенадцати арестованных шоферов, бывших офицеров бельгийской армии.
Среднего роста, худощавый с болезненно бледным лицом, на котором резко выделялись голубой синевой большие печальные глаза, Матеньи был больше похож на юношу, чем на взрослого мужчину, но на допросах под пытками показывал такую выносливость, что видавшие виды гестаповцы диву давались – откуда только брались у него силы?
Нагель отложил в сторону список шоферов, задумался. Его сознанием постепенно, и все настойчивее овладевала мысль о том, что сообщение Старцева о женщине-убийце может оказаться тем рычагом, с помощью которого удастся повернуть следствие в нужном направлении. Неожиданно и решительно использованное на допросе, оно должно подавить Матеньи, заставить его понять, что гестапо неотвратимо подбирается к раскрытию преступления, и ему не остается ничего иного, как во всем признаться.
По приказу Нагеля два эсэсовца ввели, а, вернее, внесли в кабинет и опустили на стул обессиленного Матеньи. Трудно было бы Марине узнать в нем того восторженного бельгийца, который увез ее с площади Порт де Намюр за город. В гестапо умели истязать людей до смерти. Но если требовалось довести жертву до грани смерти и держать ее какое-то время в этом мучительном состоянии, добиваясь признания, то оставляли тонкую ниточку, которая еще связывала ее с жизнью, но которую без особого труда можно было в любую минуту оборвать. Такая ниточка была оставлена и Матеньи.
Заложив руки в карманы брюк, Нагель не спеша обошел вокруг Матеньи, остановил на нем оценивающий взгляд, подумал, как только в его искалеченном теле жизнь держится, но тут же отбросил некстати возникшее сочувствие, с подчеркнутой резкостью напористо спросил:
– Где ты был в два часа дня восьмого декабря?
Матеньи не ответил. Опустив на грудь окровавленную голову, он сидел неподвижно, словно отторгнутый ото всего, что его окружало в кабинете шефа гестапо бельгийской столицы – от самого шефа, дюжих гестаповцев, застывших за спиной, залитого зимним солнцем кабинета, городской жизни, шумевшей за окнами. Он не подавал никаких признаков жизни и желания отвечать. В голове у него гудело, будто совсем рядом раздавался набатный звон колокола такой силы, что в беспрерывном то затухающем, то вновь возникающем от удара до удара звуке тонули слова Нагеля, путались собственные мысли и лишь одна тревожно сверлила в настороженном мозгу: «Выдержать. Молчать о женщине, убившей фашиста. Молчать».
Гестаповец больно толкнул его под бок, Матеньи сдержанно застонал, поднял на Нагеля затуманенный болью взгляд и какое-то время смотрел, словно припоминал, где находится, кто перед ним стоит в вызывающей позе, заложив руки в карманы брюк. Неистребимо хотелось плюнуть в лицо фашиста, но, кажется, даже на это не было сил.
– Я спрашиваю, где ты был в два часа дня восьмого декабря? – повторил вопрос Нагель.
И вновь в ответ молчаливый, налитый ненавистью, взгляд сквозь узкие щелки подбитых, в кровоподтеках глаз. Но вот обезображенное лицо Матеньи оживилось, на нем появилась презрительная гримаса и он заговорил насмешливо:
– Простите, но, если бы я знал, что это потребуется гестапо, то записывал бы, где, когда и кого взял в машину, куда отвез. – Его запекшиеся губы тронула язвительная улыбка. – В следующий раз, когда в Брюсселе еще убьют вашего офицера обещаю все записывать, чтобы доложить вам.
Голова Матеньи вновь обессиленно опустилась на грудь.
Уязвленный вызывающим ответом, Нагель озлобленно смотрел на вновь сникшего Матеньи, будто вместе со своими словами выдохнувшего из себя остатки жизни, и думал: «Неужели этот бельгиец не чувствует своей обреченности?»
Многое не знал барон фон Нагель о Матеньи и шоферах такси, поспешно схваченных гестапо и также поспешно истязаемых в слепой надежде пытками заставить кого-то из них признаться в причастности к убийству Крюге. Уверовав в пытку, как единственное средство добиться признания, он не находил времени выяснить более подробно, что собой представляли арестованные шофера.
Но если бы он навел справки, то узнал бы, что перед ним был не просто шофер такси Брюсселя, капитан бельгийской армии Матеньи, а бывший офицер связи Генерального штаба, участник героической обороны Льежа.
В сопровождении двух солдат он прибыл в Льеж с секретным пакетом для командира крепости поздно вечером 9 мая 1940 года, но вернуться в Брюссель так и не сумел – ранним утром 10 мая началась война, и крепость была атакована фашистскими войсками. Ожесточенные бои требовали людей, и капитан Матеньи оказался как нельзя кстати. Он заменил погибшего командира роты и командовал ею до последних дней падения крепости. Бои за Льеж оказались для него первым и, к сожалению, последним испытанием. Там он впервые понял, что такое ненависть к фашистам, что такое Родина, мужество солдат и офицеров, бесстрашно стоявших на смерть. Матеньи видел смерть и, преодолевая на первых порах неизбежный страх перед нею, выстоял, не дрогнул, оказался сильнее ее. Застенок гестапо оказался для него продолжением боя, начатого в Льеже, и он стоял здесь на смерть, точно так, как стоял в крепости.
Нагель сделал вид, что не обратил внимания на дерзостный ответ Матеньи, спросил:
– Может быть, напомнить, где ты был в два часа дня восьмого декабря? Или сам вспомнишь?
В его угрожающем тоне Матеньи уловил что-то новое, опасное. Поднял на него настороженный взгляд, ответил:
– Мне припоминать нечего.
– И все же советую припомнить. Чистосердечное признание облегчит твою участь.
И хотя подобным допросам за короткий отрезок времени Матеньи потерял счет, нынешний допрос показался ему особенным и потому, что вел его сам шеф гестапо, и потому, что был он не в камере пыток, а в кабинете, но самое главное заключалось в том, что Матеньи почувствовал – в гестапо что-то узнали о его поездке за город с неизвестной женщиной, убившей офицера и, на какой-то миг им овладело смятение.
– Повтори еще раз, где ты был восьмого декабря в два часа дня, – потребовал Нагель, – Я сам хочу услыхать это от тебя.
– Если это интересно, то пожалуйста, – недоуменно пожав плечами, согласился Матеньи, в тоже время лихорадочно соображая, почему Нагель проявляет интерес к показаниям, которые, кажется, уже не вызывали сомнения у гестаповцев. Что случилось? Помолчав и сделав вид, что припоминает подробности, ответил, – Примерно, в это время я возил двух пассажиров. Взял их на улице Короны и отвез к парку. Стоял там минут двадцать. Затем в машину сели два молодых человека. Я свез их на южный вокзал. Все это было, примерно, в два часа дня.
– Та-а-ак, – протянул Нагель, вспоминая что-то важное, совершенно внезапно осенившее его. Спросил с неподдельным интересом: – В котором часу, говоришь, ты был у вокзала?
– Где-то в районе двух.
– Та-а-ак, – вновь протянул он, обрадовавшись возможности проверить Матеньи. В два часа дня на вокзальной площади находился полк СС. Оттуда он маршем с оркестром отправился по улицам Брюсселя. В упор глядя в щелки глаз Матеньи, Нагель потребовал: – В таком случае скажи, что весьма важное и впечатляющее происходило в два часа дня на площади у южного вокзала, на что ты не мог не обратить внимание.
Матеньи с сожалением подумал, что не смог обеспечить себе убедительное алиби на случай ареста и проверки. Попробуй теперь отгадать, что происходило у южного вокзала в два часа дня. А, может быть, ничего там не происходило и все это обычная уловка Нагеля? Он уцепился за эту мысль, ответил твердо:
– Там ничего особенного не происходило. И мне не на что было обратить внимание.
Радостная улыбка рассекла широкое лицо Нагеля – шестое чувство его и на этот раз не подвело. Он победно распрямился, торжественно произнес:
– Плохо защищаешься, Матеньи. Идя на такое дело, надо быть предусмотрительным и надежно прятать концы, – Заложил руки в карманы брюк, отошел к столу, – К твоему сведению, на площади у южного вокзала в два часа дня находился на построении полк СС. Полк! Только слепой этого мог не заметить.
Нервная дрожь прошла по телу Матеньи и он вспомнил, что когда вез неизвестную ему женщину по авеню Ватерлоо, то видел там колонну эсэсовцев, маршировавшую под звуки оркестра, и чтобы избежать встречи с нею, свернул на другую улицу. «Да, Нагель, по всему видно, был прав – эсэсовцы были на вокзальной площади», – заключил он, уронил на грудь голову, ставшую еще тяжелее, больнее и горестно, думал над непостижимостью своей судьбы. Всего лишь несколько минут назад она питала его надеждой выйти из гестапо на свободу если не здоровым, то хотя бы живым, но вот одно мгновенье, и все кончено. Судьба повернулась к нему спиной, отрубив последние надежды на благополучный исход дела. Конечно, он мог еще сопротивляться, мог придумать очередную версию, пусть только проверяют, но вряд ли это могло помочь.
– Так, где ты был в два часа дня восьмого декабря? Надеюсь, ты теперь скажешь правду? – наседал победно Нагель.
Матеньи не поднимал головы и молчал, выкраивая минуты для мучительных размышлений над своим положением. Выхода, кажется, не было, но не было оснований и для признания. «Выдержать. Только ничего не говорить о женщине», – заклинал он себя, свою совесть, волю, сознание.
– Молчишь? – спросил торжествуя, Нагель. – Напрасно тратишь время. Оно на тебя уже не работает. Твой час пробил.
Он сделал несколько шагов от стола к Матеньи, брезгливо поднял за подбородок его окровавленную голову и впился в лицо, обезоруживающим взглядом. О, как он хотел проникнуть в его мысли, схватить и держать под контролем каждый его нерв, чтобы ощутить реакцию на те слова, которые намеревался сейчас сказать. Он готовился нанести тот неожиданный и ошеломляющий удар, которые должен сломить Матеньи, заставить его во всем признаться. Проникая взглядом в узкие щелки его глаз, в глубину зрачков, разделяя каждое слово небольшой паузой, Нагель жестко произнес.
– Тебя видели, когда на площади Порт де Намюр ты посадил в машину женщину, убившую майора Крюге. Мы все знаем! Гестапо не проведешь!
Подобно молнии в сознании Матеньи вспыхнуло страшное предположение: «Выследили» и ощущение смертельной опасности уже не за себя, а за неизвестную женщину, которую могли выследить и задержать, с новой силой стиснуло сердце. Мысли его суматошно метались в больной голове, и он не мог свести их воедино, чтобы вспомнить все, что было с ним и женщиной в машине. Но вот к замутненному болью сознанию прикоснулись его же слова утешения, сказанные тогда женщине: «Вам отчаянно повезло. Я лучший шофер Брюсселя. Меня не так-то просто преследовать» и он явственно вспомнил, что слежки за ним не было. Это придало ему силы.
«Спокойно. Только спокойно», – мысленно твердил он себе.
Матеньи выдержал тяжелый взгляд Нагеля и, превозмогая адскую боль, резким поворотом головы в сторону высвободил подбородок из его руки. Тот отступил на шаг, извлек из кармана носовой платок, вытер руку, окровавленную кровью Матеньи, пробившуюся сквозь марлевую повязку на голове и стекавшую по лицу к подбородку.
В кабинете стояла гнетущая тишина. Затянувшееся молчание нарушил похожий на подавленное всхлипывание, а затем все более различимый смех, Матеньи, – Ха-ха-ха, – хрипел он, одышливо растягивая слова, – Говорите, офицера убила женщина. Ха-ха-ха! Женщина?
От смеха и напряжения его обезображенное лицо с окровавленными губами стало страшным. Нагель не выдержал этого ужасающегося зрелища, отступил к столу и выжидал, когда успокоится словно обезумевший, заливавшийся трагически-веселым смехом Матеньи, а тот продолжал, захлебываясь от смеха, вызывающе дерзко:
– Представляете, господин начальник, что будет с оккупантами, когда за оружие возьмутся еще и мужчины Бельгии? Представляете? Ха-ха-ха!
Насмеявшись вдоволь, он решительно заявил:
– Я не был на площади Порт де Намюр и никакого отношения к женщине, которая убила немецкого офицера, не имею. Я впервые о ней услыхал сейчас от вас.
В ответ Нагель совершенно спокойно, как о чем-то второстепенном, не относящемся к содержанию допроса, спросил:
– У вас есть дети, жена?
– Есть, – настороженно подтвердил Матеньи, – А что?
– Ничего, – бросил на него язвительный взгляд Нагель. На лице шефа гестапо застыла насмешливая улыбка.
Матеньи показалось, что где-то совсем рядом вновь ударил набатный колокол и, оглушенный его звуком, диким взглядом уставился на Нагеля.
– Вы что? Подвергните их пыткам? – прохрипел он, едва шевеля свинцовыми, непослушными губами.
Нагель не ответил. Он смотрел на посеревшее лицо Матеньи, ставшее вдруг растерянным, жалким и думал, что удачно выбрал тактику допроса, нашел у него смертельно слабое место, тут опасно напряженную ниточку, которая еще связывала его с жизнью и, прикасаясь к которой, заставит его говорить правду.
– Что вы с ними будете делать? – вновь прохрипел вконец подавленные Матеньи.
– Пока ничего, – самодовольно ухмыльнулся Нагель. – Но если ты будешь молчать…
– Вы не посмеете тронуть моих детей и жену! – заметался в отчаянии Матеньи, – Не посмеете!
С необыкновенной, потрясающей остротой он почувствовал свою беспомощность перед Нагелем и словно в безумии рванулся к нему, но два гестаповца, положили ему на плечи руки и словно приковали к стулу.
– Так кого ты ваял в машину на площади Порт де Намюр? – с оттенком доброжелательности, спросил Нагель, словно бросая для Матеньи спасательный круг.
– На этой площади восьмого декабря я вообще не был, – сопротивлялся Матеньи.
Как и в любом сражении переменчивое военное счастье сопутствует то одному, то другому противнику, так и на допросе берет верх и на какое-то время становится хозяином положения то обвиняемый, то следователь. Правда, в гестапо в конечном итоге проигрывает обвиняемый, ибо при всех его самых добротных, убедительных доказательствах невиновности его все равно обвинят и накажут. В начале допроса верх взял Матеньи. Он выдержал нажим Нагеля, но устоять не смог, ему просто не хватило сил. Изуверские пытки давали о себе знать с каждой минутой все ощутимей, а внезапная перемена вопросов, требовала той стойкости и хладнокровия, которым он уже не обладал. Смертельная усталость обрывала и путала мысли, у него кружилась голова, и лицо Нагеля то пропадало, как в молочной плотности тумане, то вновь четко появлялось крупным планом с самодовольной улыбкой, подчеркивавшей, что он, Матеньи, находится в полной его власти.
Наблюдая за состоянием Матеньи, за тем, как он метался от мужественной стойкости и гордой независимости к откровенной растерянности и психической подавленности, как трагически выбирал между женой и убийцей Крюге, Нагель все больше убеждался, что шестое чувство, кажется, не подводило его и не давал Матеньи опомниться, взять себя в руки.
– Значит, на площади Порт де Намюр не был? – вновь спросил он и, не получив ответа, продолжил: – Так сколько лет твоим детям и жене? Жена еще молода?
– Причем тут жена, дети? – голосом, словно перетянутым петлей, спросил Матеньи.
– В жизни все бывает, господин шофер. Может пригодится, – многозначительно ответил Нагель. Помолчав, понаблюдав за потрясенным Матеньи, осуждающе спросил: – И ты еще не хочешь сказать, кого взял на площади в машину? Не хочешь?
В голове Матеньи стремительно стал нарастать шум, будто совсем рядом начинал бушевать страшный ураган, который вовлекал его в свой круговорот, закручивал справа налево с неодолимой силой и в этом круговороте мелькали счастливые лица детей, жены и мужественное лицо той женщины, которую взял в машину на площади Порт де Намюр.
– Пощади свою жену, детей. Им жить надо! – прокричал Нагель в круговорот урагана и словно в ответ ему в реве бушевавшей стихии Матеньи услыхал свои собственные слова: «Мадам, разве я не бельгиец? Я буду молиться за вас. Да храни вас господь».
– Я никого не брал в машину, – ответил он, теряя сознание и медленно сползая со стула на пол.
– Убрать! – приказал гестаповцам Нагель, раздосадованный тем, что допрос прерван на самом интересном месте. – Приведите его в чувства, а затем обработайте так, чтобы сказал правду. Тут не просто потеря сознания из-за семьи. Тут кроется что-то большее.
Гестаповцы вытащили Матеньи, а Нагель, потирая от удовольствия руки, прошелся по кабинету, размышляя над докладом Нойдорфу, что, как ему казалось стал ближе к раскрытию убийства и все теперь зависело от показаний Матеньи, которые он, бесспорно, даст. Предчувствуя успех, Нагель почувствовал, как в нем колыхнулось сладкое волнение и он на минутку представил себя в роли принимающего благодарности и награды из рук начальства. Расправив плечи и гордо подняв голову, он уже предвкушал минуты торжества, как в кабинет поспешно вошел один из конвоиров Матеньи. Одного лишь взгляда на него было достаточно, чтобы Нагель понял – произошло что-то непоправимое.
– Господин штурмбанфюрер, – прерывавшимся от волнения голосом докладывал гестаповец, – При попытке к бегству я убил шофера.
– Что? – вырвалось испуганно у Нагеля, – Как?
– Мы конвоировали его по коридору. Впереди шел шарфюрер Вебер, за ним арестованный, потом я.
Нагелю показалось, что по кабинету прошел студеный сквозняк, который мелким ознобом обдал его с ног до головы и от этого сквозняка, и от убийства Матеньи, и от ненужных теперь подробностей доклада ему стало дурно. Пошатнувшись, он оперся рукой о стоявшее рядом кресло и опустился в него, словно подкошенный.
– Навстречу нам другой конвоир вел своего арестованного, – сбивчиво докладывал гестаповец, – У того конвоира, что шел нам навстречу, была открыта кобура пистолета.
Нагель слушал рассеянно. Голос гестаповца звучал для него на каком-то удалении и с трудом доходил до сознания. Значительно громче внутри у него звучал собственный голос: «Как быть? Что докладывать обер-фюреру СС Нойдорфу?»
– Когда встречный конвой поравнялся с нами, наш арестованный шофер неожиданно бросился к встречному конвоиру, выхватил у него из кобуры пистолет, застрелил шарфюрера Вебера и хотел выброситься в окно. Я вынужден был убить его при попытке к бегству.
Гестаповец умолк, боязливо ожидая, что скажет Нагель.
– Кретин, – простонал Нагель, заражаясь гневом, – Как ты посмел? – выкрикнул он пронзительным голосом и с размаху ударил кулаком по столу.
– Я выполнял долг, – оправдывался гестаповец.
Нагель бросил на него разъяренный взгляд, посмотрел на часы – до доклада Нойдорфу оставалось пять минут. Страдальческая гримаса исказила его лицо, и он усилием воли заставив себя успокоиться, отпустил конвоира.
В могильной тишине кабинета отчетливо слышалось тиканье механизма часов, приближая тот момент, когда раздастся настойчивый звонок телефона и телефонистка мягким голосом сообщит: «Соединяю с Берлином». Как хотел Нагель исключить этот момент. Столь резкая перемена обстоятельств от сознания того, что он уже держал в руках нить, которая могла привести к убийце, до безнадежной ее потери, выбила у него из-под ног ту почву, стоя на которой он хотел дотянуться до благодарностей и наград, напомнить о себе в верхах службы безопасности. Пирамида успеха, которую он создал в своем воображении, неожиданно рухнула, и в его сознании уже возникали бескрайние заснеженные просторы России, на которых захоронено тело брата Отто фон Нагеля.
От мысли о подобной перспективе, внутри у него все замерло и только деформированное сознание каким-то образом еще рождало мысли, к которым он прислушивался, за которые цеплялся. Инстинкт самосохранения подсказывал ему необходимость сопротивляться воле начальства, избирая для этого любые пути. И когда его сознание окончательно прояснилось, он вдруг подумал, надо ли докладывать Нойдорфу о Матеньи и тем самым ставить себя под лишний удар? Ведь Матеньи могло и не быть, также как могло не появиться его подозрение, продиктованное шестым чувством, но ничем практически не подкрепленное. Мысль эта пришла вовремя, и он с поразительной ясностью понял, в какое сложное положение мог себя поставить, поступая честно, ничего не скрывая перед начальством.
Раздался звонок, и мелодичный голос телефонистки сообщил, что соединяет его с Берлином. Нагель поднялся с кресла.
– Господин обер-фюрер СС, – докладывал он стоя, – По данным известного вам агента «Дворянин» убийство майора Крюге совершила женщина.
На другом конце провода, в Берлине, наступило молчание и только несколько мгновений спустя Нойдорф с оттенком недоверия в голосе произнес:
– Правильно ли я вас понял? Вы докладываете, что террористический акт совершила женщина?
– Да, женщина, – подтвердил Нагель.
– «Дворянину» верить можно?
– Несомненно.
– Кто эта женщина? Вы уже выяснили?
– Нет, господин обер-фюрер. Этого выяснить пока не удалось, – ответил Нагель, чувствуя как волнение перехватывает дыхание. Сейчас он должен доложить о Матеньи, что был близок к раскрытию убийства и оттого, что поступал нечестно, что скрывал весьма важное обстоятельство, его бросило в дрожь, – Мною приняты все меры, – торопился он уйти от опасного места в своем докладе, – Задействованы силы гестапо, полиции, СД. Нам помогают…
– Меня и рейхсминистра господина Гиммлера мало интересует, что вы делаете, – грубо прервал его Нойдорф.
Нагель прижал телефонную трубку еще плотнее к уху, словно в ней, несмотря на звучавший холодно-металлический голос Нойдорфа, было спасение.
– Меня интересует только результат, – жестко и беспощадно раздавалось в телефонной трубке. – Делайте, что считаете нужным – расстреливайте, вешайте, но террористку найдите, иначе мы вынуждены будем сделать выводы о вас.
– Найду, господин обер-фюрер. Найду, – поспешно заверял Нагель.
Не обращая внимания на его заверения, Нойдорф продолжал официально, холодно.
– Запомните, ежедневно о розыске террористки я докладываю в Ставку фюрера и господину рейхсминистру Гиммлеру. Сообщение о том, что убийство совершила женщина вызовет особый интерес. Вы понимаете это?
– Понимаю, – подтвердил Нагель.
– Что еще вы желаете доложить мне? – спросил несколько мягче Нойдорф и оттого, что он перешел к другому вопросу, у Нагеля несколько отлегло от сердца.
– Господин обер-фюрер, – отчеканил поспешно он. – Бельгийское сопротивление предъявило коменданту Брюсселя генералу Фолькенхаузену ультиматум.
– Кто и кому предъявил ультиматум? – не понял Нойдорф и тут же потребовал, – Уточните.
– Руководители сопротивления предъявили ультиматум нашему военному коменданту Брюсселя, – объяснил Нагель, – Они требуют освободить заложников и предупреждают, что в случае отказа в день их казни уничтожат в Брюсселе шестьдесят наших офицеров. В городе появились листовки с ультиматумом. Их бельгийцы расклеивают на стенах зданий, бросают в наши автомашины, в расположение частей. В Брюсселе складывается напряженная обстановка.
– И все же, – после некоторой паузы ответил Нойдорф, – заложников не освобождать. Рекомендуйте коменданту Брюсселя усилить патрульную службу в городе. Подозрительных лиц задерживать. В случае обнаружения у них оружия, листовок с ультиматумом расстреливать на месте. Усильте агентурную работу. Преданным нам людям дайте деньги, продукты, обещайте награды, ищите убийцу майора Крюге.
– Все будет исполнено, – пообещал Нагель.
* * *
Владыку православной церкви в Брюсселе отца Виталия гестаповцы арестовали глубокой ночью. В ту ночь ему не спалось. Так бывало часто, когда, мучаясь бессонницей, он до зари коротал время, размышляя о сути жизни человеческой, читая Евангелие, а с началом войны Германии с Советским Союзом мысли его занимали судьбы Родины и русских людей в эмиграции. Нависшая опасность над многократно им проклятой, преданной анафеме большевистской Россией неожиданно для него самого 22 июня 1941 года огнем опалила его сердце, и он в тот день как бы открыл в себе другого человека, другого Виталия, который стал смотреть на события в России с иной, ранее ему неведомой, точки зрения – сопричастности к бедам Родины. Такое открытие потрясло его, заставило глубоко задуматься над сущностью русского человека за рубежом, философски осмыслить проснувшееся в этом человеке национальное чувство русскости, кровной связи с Россией. Что потянуло его к стране, с которой он порвал и уже давно сжег мосты с твердым убеждением не наводить их вновь? Годами лидеры белой эмиграции, воспитывали русских людей за рубежом в ненависти к большевистской России и, казалось достигли в этом несомненных успехов, полагая, что подготовили их к крестовому походу на бывшую Родину. Но вот на поверку оказалось, что все это далеко не так.
Говорят, слухами земля полнится. Полнилась ими и оккупированная Бельгия. Преградить путь им не смогли даже фашисты. До отца Виталия дошел слух, что некоторые представители бывшей русской знати изменили свое отношение к Родине: князь Оболенский просил советского посла при Французском правительстве в Виши предоставить ему возможность выехать в Советский Союз, чтобы сражаться на фронте против фашистов в качестве рядового. Князь и – рядовым? Только бы сражаться за Родину! Мог ли кто-либо предсказать это в 20-30 годах, даже накануне войны с Россией? Свершается невероятное. Месяц тому назад к нему пришли за благословением четыре белых эмигранта. И за каким благословением? Они решили идти в Россию. Через Бельгию, Германию, Польшу, но в Россию, чтобы драться с ее врагом. Он благословил их. Дойдут ли? Сумеют ли одолеть нелегкий и опасный путь? Или сложат на нем свои буйные головы так и не повидав Родины? А разве мог кто-либо предсказать, что обыкновенная русская женщина Марина Шафрова убьет немецкого офицера кухонным ножом? Что во имя Родины она пойдет на верную смерть? Пошла ведь. Виталий никогда не забудет ее исповеди в совершенном убийстве. Такого православная церковь, пожалуй, еще не знала. Он отпустил ей грех. Да разве грех это? Так что же тогда? Может быть, это притушенный уголек любви к Отчизне, который вспыхнул ярким пламенем как только подул ураганный ветер и сбросил с него горку пепла, под которой он незаметно тлел, годами ожидая своего часа? Возможно, и так, если отнести это к старшему поколению русских людей. Но откуда этот уголек мог появиться у тех, кого вывезли из России в детском возрасте, кто родился и вырос за границей? Откуда у них появилась любовь к Родине, которую они не знают? Виталий не находил ответа на этот вопрос. Любил владыко русской церкви коротать бессонные ночи за такими размышлениями, доискиваться до сути явлений, глубины человеческих чувств и, не найдя ответов, относил это к воле Божьей. Двенадцатого декабря 1941 года в третьем часу ночи громкий стук в дверь нарушил его покой. Он насторожился, надеясь, что кто-то ошибся дверью. Но ошибки не было. Дверь пришлось открыть и группа гестаповцев с Войцеховским ввалилась в квартиру. Войцеховский наспех провел обыск, разрешил отцу Виталию попрощаться с женой, надел ему наручники и увез в гестапо. Остаток ночи владыко провел в одиночной камере на голых нарах, приводя в порядок встревоженные арестом мысли. Особой вины за собою он не чувствовал. Только проповедь двадцать второго июня, обращенная к русским верующим в связи с началом войны с Советским Союзом, и могла быть поставлена ему в обвинение потому, что утаить ее от гестапо было нельзя – тот же Старцев мог доложить. Отец Виталий то ворочался на нарах, то поднимался, осенял себя крестным знамением и истово молился, прося Господа послать силы вынести то, что было уготовлено ему в гестапо.