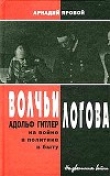Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
– Это… Это невозможно, – послышался в тишине квартиры переполненный горечью голос Марины. Она задыхалась от мучительной боли, от сознания беззащитности перед судьбой в Брюсселе. – Я так хочу на Родину, так хочу в Россию, что не могу и не желаю признавать никаких осложнений. Я хочу в Россию!
Она тяжело поднялась, подошла к окну, прижалась к холодному стеклу лбом и какой-то промежуток времени стояла неподвижно, словно окаменела. Ей хотелось плакать громко, навзрыд, но для такого плача не хватало сил и поэтому в глазах ее застыли невыплаканные слезы по своему счастью, безжалостно отсеченному войной.
– Фашизм… – послышалось от окна, – Нацизм… Гитлер… Я ненавижу их! Будь они прокляты! – Голос Марины внезапно осекся и она вновь умолкла.
Марутаев понял, что она впала в отчаяние и поспешил на помощь.
– Судьба немилостива к нам, – утешал он ее. – Но, что поделаешь? Надо собраться с силами. Надо жить, родная. Жить.
Голос его заметно дрожал, выдавая внутреннее волнение, с которым он сам еще не справился, и от этого с новой силой что-то тяжелое и невыносимо тоскливое сдавило грудь Марины. Она подумала, что Юрий также несчастен, как и она сама, что такими же, обреченными жить без Родины, в унижении, оказались ее дети. А она так хотела добиться им иной участи, иной судьбы. «Так, что же делать? Что?» – думала она.
– Нам предстоят новые страдания, – словно отгадав ее мысли, заговорил Шафров. Говорил он неторопливо, будто внимательно взвешивал каждое слово прежде, чем его произнести. Его печальный голос в притихшей квартире слышался пророчески, – Нам предстоят тяжелые испытания. Но, запомните, дети. Чтобы ни случилось с нами, нужно выдержать. Нужно и на чужбине быть достойными своей Родины, России, – Он выпрямился в кресле, как бы приняв торжественную позу, закончил окрепшим голосом, – Не забывайте: мы – русские.
– Русские… Русские… – шептала Марина. Она отошла от окна с бледным лицом, на котором не было ни кровинки, обвела тоскливым взглядом Шафрова, Марутаева, продолжила с мучительной болью в голосе. – У своих домов на чужбине они высаживают и любовно растят белые березы, как нежное напоминание о далекой Родине. И все… – Губы ее нервно искривились, – Нет у них Родины… Нет для них России, – выдохнула она и вдруг совершенно неожиданно заговорила стихами и читала их с потрясающей силой.
Россия… Печальное слово,
Потерянное навсегда
В скитаньях напрасно суровых,
В пустых и ненужных годах.
Туда никогда не поеду,
Но жить без нее не могу.
И снова настойчивым бредом
Сверлит в разъяренном мозгу:
Зачем меня девочкой глупой
От страшной родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли?
Дочитав до точки, она прикусила губу, чтобы отчаянно не разрыдаться.
Ошеломленный и подавленный сидел Шафров, испытывая чувство неискупимой вины перед дочерью. Прочитанные ею стихи прозвучали жестоким и беспощадным упреком ему и людям его поколения за то, что в тысяча девятьсот двадцатом году, оставляя Россию, уродуя свою жизнь, забыли о судьбе детей, их будущности на чужбине, а теперь, по прошествии многих лет, за свое безрассудство должны держать перед ними ответ по всей строгости родительской и гражданской совести. Он уцепился костлявыми пальцами в подлокотники кресла и едва удерживал себя, чтобы не стать перед Мариной на колени.
– Прости, дочь. Прости, – попросил он раскаяние. – И ты, Юрий Николаевич, прости. Конечно, в двадцатом году мне следовало быть впередсмотрящим, чтобы видеть все опасности в штормовом житейском море. Но я не стал им, этим впередсмотрящим, и был выброшен на скалы. Но, если бы я знал, что так случится, то никогда не снял бы семью с якоря в России. Простите меня, старого, простите…
Голос его задохнулся и неожиданно оборвался. Лицо с выражением виновности и какой-то жалкой старческой растерянности, болезненно дрогнуло и он поспешно опустил голову.
Марина подошла к нему и будто впервые увидела его старость, которую до сих пор не замечала или к которой скорее всего привыкла. Голова Шафрова с редкими седыми волосами, сквозь которые виднелась воскового цвета кожа, нервно и горестно подрагивала. Часть седых волос спадала на заостренное уставшее лицо, на влажный лоб, на котором к переносице скорбно сходились морщины. Морщинами также была иссечена тонкая худая шея, отчего казалась она высохшей, а плечи, всегда развернутые и выглядевшие от этого сильными, были опущены, сломлены. Шафров казался Марине беспомощным и вызывал к себе жалость и сострадание. Она подвинула стул, села рядом, попросила:
– Это ты прости меня, папа.
– За что, дочка? – ответил вопросом Шафров, – Ты сказала горькую правду. В двадцатом году, оставляя Родину, мы мало дума ли о вас, дети, вашей судьбе за рубежом. И вы правильно делаете, что призываете нас к ответу.
Он тяжело вздохнул и умолк. Долгую неловкую тишину нарушил звук шарманки, заигравшей за окном в тесном дворе. По мере того, как ее незамысловатая музыка нарастала и пробивалась в квартиру, к Марутаевым и Шафрову как бы возвращалось ощущение жизни.
– Это старый эмигрант, штабс-капитан Серафим, – печально, с искренним сожалением, пояснила Марина. – Единственный шарманщик в Брюсселе и тот русский эмигрант. От взрыва в бельгийской шахте он потерял зрение. Мальчишка водит его, слепого, по Брюсселю к домам, у которых растут белые березки. И он играет у этих домов русскую музыку. – Голос ее вновь задрожал, она прерывисто задышала, умоляюще попросила Марутаева, – Юра, открой окно. Дай ему денег. Пусть он и нам сыграет что-то русское. Ведь мы же – русские!
Марутаев выбросил в окно деньги и с улицы донесся сильный командирского звучания, голос Серафима: «Благодарю вас, господа. Да будет ваша жизнь счастливой». Минутой позже за окном раздался вальс «На сопках Маньчжурии».
– Боже мой, как тоскливо и тяжело на душе – шептала Марина. – Думала, еще день, два и я вдохну полной грудью чистый воздух России, забреду в лес и буду обнимать белые березки, кричать и плакать от радости. И вдруг все оборвалось. Даже нет надежды…
– У вас есть надежда, – ответил Шафров, – Вы молоды и у вас еще все впереди. А мне, старому моряку, скоро за борт с колосником у ног.
* * *
Третьи сутки король Бельгии Леопольд не оставлял командного пункта бельгийской армии, пребывая в лихорадочном поиске спасения страны от катастрофы. События на фронте развивались не так, как планировали генеральные штабы Франции и Англии, совершенно не так, как предполагал он лично. Совместный план обороны Бельгии под кодовым названием «Диль» оказался несостоятельным. Войска вермахта, прорвав оборону бельгийской армии, стремительно продвигались в глубь страны и не было ни сил, ни возможностей остановить их. Отдавая должное мужеству и героизму своих солдат и офицеров, Леопольд чувствовал как в его собственном сознании с каждым часом росло сомнение в способности выдержать бешеный натиск немцев. Концепция нейтралитета, в которую он непостижимо верил, рухнула, показав ему, что в Европе, разделенной на враждующие лагеря, невозможно было лавировать между двух огней с ложной надеждой остаться в стороне от военных конфликтов. Неудачи и поражения давали достаточную пищу для горьких раздумий и Леопольд все чаще мысленно возвращался к ноте Гитлера, которую немецкий посол в Бельгии вручил министру иностранных дел Спааку в день объявления войны. Наспех тогда отвергнутая, воспринятая с немалой долей возмущения, она теперь обретала иное звучание и Леопольд находил в ней такое, над чем считал необходимым задуматься. Он достал ноту из походного сейфа. «С тем, чтобы упредить вторжение Англии и Франции на территорию Бельгии, Голландии и великого герцогства Люксембург, направленное очевидным образом против Германии, – медленно читал он насквозь лживые утверждения Гитлера, – правительство рейха считает себя обязанным обеспечить нейтралитет, трех указанных стран с помощью оружия… Правительство Рейха гарантирует целостность европейской и колониальной территории Бельгии, как сохранность и безопасность королевской династии, если ему не будет оказано никакого сопротивления. В противном случае Бельгия рискует подвергнуться разрушению и потерять независимость».
Леопольд задержал взгляд на последних словах абзаца, еще раз прочел его полностью, как бы заново осмысливая содержание, которое вдруг открылось перед ним своеобразной заботой о королевской династии, независимости Бельгии. Обещание Гитлера, хотя и не имело никаких гарантий, оказалось созвучным с его чаяниями – сохранить власть и обеспечить независимость Бельгии в случае поражения в войне. Какой-то проблеск появился вдали и он устремился к нему, надеясь на успех. Мысль его работала отчаянно быстро и он уже рассматривал формирующуюся в сознании концепцию независимости Бельгии в оккупационном режиме, которую достичь можно было только путем договоренности с Гитлером. Леопольд оживился, облегченно вздохнул, мутная пелена усталости, покрывавшая его сознание, постепенно рассеивалась, уступая место ясности и четкости мышления и он дочитывал ноту фюрера уже как программный для себя документ: «Значит в интересах самой же Бельгии обратиться с воззванием к народу, армии, чтобы прекратить всякое сопротивление, а также дать необходимые инструкции властям с тем, чтобы последние вступили в прямой контакт с немецким военным командованием».
В кабинет вошла королева Елизавета. Она была в черном длинном платье с неизменным живым цветком на груди, не по годам энергичная и подвижная. Едва она переступила порог, как Леопольд направился к ней.
– Мама, Вы устали?
Елизавета поправила на голове белую накрахмаленную косынку сестры милосердия с красным крестом, и, возбужденная только что пережитыми минутами душевного потрясения, голосом, еще не остывшим от волнения, запротестовала:
– Нет, нет, Ваше величество, я не устала. Я пришла сюда из госпиталя, где навестила наших раненных офицеров и солдат. Там я имела возможность еще раз убедиться, какие у нас замечательные люди! Бельгия с ними непобедима! И никакой Гитлер не сможет поставить их на колени. Да, да. Представьте себе, когда я вошла в палату, один солдат, тяжело раненый в грудь осколком немецкой бомбы, узнал меня. Ему было трудно дышать, но он на всю притихшую палату прохрипел восторженным голосом: «Виват королева непобедимой Бельгии!» Больные подхватили это приветствие. «Виват королева Бельгии!» громкоголосо и потрясающе неслось по палатам госпиталя. Надо было только видеть и слышать это! – с лица Елизаветы на Леопольда смотрели глаза, застланные слезами радости, – Они верят в непобедимую Бельгию! Верят! Это же прекрасно! Понимаете?
– Вера наших офицеров и солдат в победу достойна самой высокой оценки, – поддержал Леопольд, – В тяжелых и неравных условиях они проявляют чудеса храбрости. Я восхищен защитниками Льежа.
– Их мужество войдет в историю Бельгии. Подвиг их бессмертен, – ответила Елизавета, подошла к карте и, внимательно посмотрев, на нее, обратилась к Леопольду, – Как это понимать? – показала рукой на синие стрелы, острыми клиньями расчленившие территорию Бельгии.
– Мы вынуждены отступать, – сдержанно пояснил Леопольд, – Мы наладили контакты с французским и английским командованием и приняли решение произвести перегруппировку, отвести наши войска за линию Антверпен—Намюр.
Он показал эту линию на карте.
– Отвести войска с занимаемых позиций? – недоуменно спросила Елизавета. В ее понятии любое отступление, пусть даже прикрытое хитроумным военным выражением «перегруппировка войск»; в конечном итоге означало оставление врагу части территории Бельгии, с чем она не могла смириться. – С такими, как у нас офицерами и солдатами отступать? С ними можно стоять насмерть, как это делают герои Льежа!
– Иного выхода нет, – спокойно, будто речь, шла о давно решенной проблеме, не вызывавшей сомнения, прозвучал ответ Леопольда.
И это его спокойствие, и новая линия обороны в глубине Бельгии, которую он показал и которую теперь предстояло занять войскам, и карта страны, расчлененная синими линиями, настолько ошеломили Елизавету, что она слепым шагом отошла от стола и беспомощно опустилась на стул. Всем своим существом она противилась любому отступлению.
– Все ли вами взвешено и учтено? – спросила она строго. – Ведь это отступление. Понимаете? Отступление!
– Наши войска ведут ожесточенные оборонительные бои, давая возможность союзникам занять позиции на рубеже Антверпен—Намюр, чтобы достойно встретить противника. Маневр наших войск вынужденный, по крайне нужен. Здесь учтены все обстоятельства.
В кабинете повисла напряженная тишина, которую вскоре нарушил прерывистый гул немецких бомбардировщиков. В динамике, стоявшем на столе Леопольда, раздалось мягкое, но настоятельное предупреждение: «Ваше величество, объявлена воздушная тревога».
– Мама, – обратился Леопольд к Елизавете настоятельно, – наши генералы, офицеры, солдаты и я лично преклоняемся перед вашим мужеством. И все же… Все же Вам лучше отправиться в Брюссель.
– Я должна уехать в Брюссель? Почему?
– Здесь опасно для жизни.
Елизавета медленно поднялась, величественно стала перед Леопольдом.
– Вы забываете, – заговорила твердо, – что я – королева Бельгии и в часы тяжелых испытаний должна быть вместе с нашими офицерами и солдатами. Присутствие королевской семьи на фронте придает войскам уверенность в победе. Нет, я отсюда никуда не уеду, – отрезала она решительно.
– Но, здесь опасно, – попытался Леопольд настоять на своем, однако Елизавета прервала его.
– Сейчас вся Бельгия в опасности. И очень важно, чтобы в это время каждый бельгиец нашел свое место. Для меня оно здесь, на фронте, с моими солдатами и офицерами.
– Но, мама. Штаб полагает…
– Пусть штаб занимается войсками, а не королевой Бельгии. Ею я займусь сама, – крайне недовольно ответила Елизавета и решительно вышла.
* * *
С началом войны атмосфера в Брюсселе была наполнена тревогой и тоскливым ожиданием жителями города своей участи. Семь дней драматических событий на фронте и трудноодолимого страха в столице казались брюссельцам вечностью. Сообщения с фронта поступали самые тревожные и противоречивые. Если верить обращению короля Леопольда к войскам, то дела бельгийской армии будто бы складывались неплохо, но если верить слухам, которые наводнили столицу, сообщениям радиостанций Парижа, Лондона, и особенно Берлина, то оснований для оптимизма у брюссельцев с каждым днем становилось меньше. В первый же день войны они были разбужены воем сирен и разрывами бомб на аэродроме в Эвере и с тех пор не выходили из цепенящего страха перед бомбежкой. Страх этот приобрел панический характер после того, как берлинское радио объявило о намерении Гитлера подвергнуть Брюссель массированному авиационному налету и уничтожающей бомбардировке. Перепуганные брюссельцы поспешно оставляли город. Вереницы автомашин, автобусов, фургонов, нагруженных наспех захваченным немудреным домашним скарбом, запруживали улицы столицы. Создавалось впечатление, что все население Брюсселя от мала до велика вдруг поднялось на ноги и неукротимым потоком устремилось из обреченного города в поисках спасения от неминуемой смерти, обещанной Гитлером. С тяжелым сердцем наблюдала Марина едва ли не паническое бегство из города, тех, кто, по ее твердому убеждению, должен был, презрев смерть, защищать его до последней капли крови. Война, нескончаемый поток мятущихся по улицам Брюсселя людей, напомнили ей давно минувшие картины отступления белых армий из России. Она тогда была двенадцатилетней девчонкой, но ее впечатлительность надолго сохранила в памяти пыльные, бескрайние дороги, по которым в панике метались белые армии, запомнились штатские и военные люди с выражением смертельного ужаса на лицах одних и бессильной, звериной ярости на лицах других. Казалось, мир перевернулся и явился противоположной стороной, где не было места добродетели, состраданию, а господствовали насилие, жестокость и смерть. Ей довелось видеть расстрелянных, изрубленных шашками, исколотых штыками, повешенных на фонарных столбах красноармейцев, штатских мужчин и женщин, которых белые называли большевиками. Она слышала душераздирающий, истошный крик отчаяния женщин и детей по казненным, от которого стынет кровь в жилах, видела сожженные дома крестьян и целые деревни, превращенные в пепел. По молодости лет она не могла тогда разобраться в том, что происходило в России и поняла все значительно позже. Но одно вынесла своим детским разумом – отвращение и ненависть к насилию, смерти. И вот то, что она ранее отвергла, вновь вторгалось в ее жизнь, на этот раз на чужой земле.
Поражение бельгийской армии на фронте в семье Марутаевых восприняли с такой же болью, как и в семьях бельгийцев, но когда дело дошло до оставления города, решили иначе. «Двух родин у человека не бывает, – сказал Шафров, – Но если нам Бельгия оказала гостеприимство, то защищать ее от врага надо, также, как и свое отечество. Мы остаемся здесь».
Через опущенные жалюзи в квартиру Марутаевых, скупо освещенную единственной свечой, стоявшей на столе, яркими подвижными полосами врезался свет фар немецких автомашин, бронетранспортеров и танков. По улицам столицы полыхало море света, громыхая колесами и лязгая гусеницами, нескончаемым потоком двигались механизированные и бронированные колонны. И от того, что в городе стоял несмолкаемый и невообразимый грохот, от которого дрожали стены зданий, дребезжали стекла в окнах, казалось, что Брюссель раздавлен диковинным чудовищем. По всему было видно, что немцы не только перебрасывали войска в нужном для них направлении, но демонстрацией силы старались морально подавить бельгийцев, сломить их волю к сопротивлению.
– Пятый час идут и конца не видно, – сказал Марутаев, наблюдая в окно. – Его лицо, выхваченное из сумрака комнаты полосами света, было суровым, голос звучал гневно. – Оккупанты… Сверхчеловеки… Гранатой бы по ним. Гранатой!
Он гневно ударил кулаком по подоконнику и задохнулся от ненависти, сознания собственного бессилия.
– Гранатой, говоришь? – язвительно спросила Марина. Она сидела у стола с газетой в руках, – Ты лучше послушай, что говорит бургомистр Брюсселя Ван де Мельброк. К чему он призывает бельгийцев, – Поднесла к тусклому пламени свечи газету. – «Военные события могут развернуться так, что возникнет опасность оккупации города, – читала она возмущенно. – Я ожидаю, что при такой вероятности население сохранит спокойствие и достоинство. Жители должны оставаться в своих квартирах, закрыть окна и двери, воздерживаться от всяких оскорблений, провокаций или угрозы в отношении вступивших в город войск. Все сограждане должны соблюдать эту линию поведения самым строжайшим образом. Городские власти будут контролировать выполнение настоящего обращения. Население может доверить мне полностью, как оно полностью доверяет своей армии и главе государства, королю. Какова бы ни была длительность испытания, которая нас ожидает, бельгийцы должны придерживаться лозунга – с сильным королем с нами ничего не случиться. Бургомистр Брюсселя Ван де Мельброк», – Брезгливо бросила на стол газету, спросила: – Что ты на это скажешь? А?
Марутаев ничего не ответил. Об этом обращении он слыхал днем раньше. И, несмотря на то, что оно было тревожным, все же надеялся, что опасность оккупации города, о которой говорил бургомистр, не возникнет, что бельгийская армия и союзные войска Франции и Англии не допустят вторжения фашистов в Брюссель, а если и настанет такой момент, то за город будут сражаться, превратив его в крепость. Именно так поступали бельгийцы в 1388 году в войне с войсками герцога Фландрского. Об этом свидетельствует история и тот знаменитый монумент умирающего старика Еверарда Серклаеса, который сооружен у стены гостиницы «Этуаль». Воины и жители брюссельского гарнизона тогда дрались с противником до последнего. Мужественно сражался и Серклаес пока не был предательски убит у стены гостиницы. Бельгийцы отдают должное великому патриоту. Проходя около монумента, они с чувством признательности поглаживают бессильно лежащую вдоль туловища умирающего Серклаеса бронзовую руку. От прикосновения к бронзе в течение многих лет миллионов человеческих ладоней то место, где они прикасаются, ярко выделяется своей полированностью на фоне общего зеленого налета окисления, который покрывает всю бронзовую статую. Да только ли Еверард Серклаес мог служить примером для брюссельцев?
Марутаев вырос за границей, но характером, образом мышления остался русским и с позиций этой своей русскости судил о положении и людях чужой для него страны, к своему огорчению, обнаруживая однако, что его суждения не всегда совпадают с суждением и мнением бельгийцев. Так и сейчас. Он полагал, что Брюссель без боя не сдадут, а бургомистр столицы призывал к капитуляции.
– В военное время это называется изменой королю и государству, – ответил он Марине жестко и в тон ему прозвучал гневом наполненный ее голос:
– Подумать только. Война еще не окончена, король с армией временно отступил на запад и сражается с фашистами, а бургомистр Брюсселя уже предает его, призывает бельгийцев к воздержанию даже от оскорблений оккупантов! – Зашлась мелким презрительным смехом, – Остается стать на колени и верноподданнически склонить головы к ногам победителей. Ведь приказано даже не оскорблять их! А ты «гранатами! – Помолчав немного, устало поднялась со стула, подошла к Марутаеву, зашептала горячо и убежденно. – Я верю королю, Юра. Он не оставит народ Брюсселя в беде. Он еще вернется. Я верю.
– Дай-то Бог, – неопределенно ответил Марутаев, мало веря в возвращение короля в Брюссель.
Он взял руку Марины, поднес ее холодную ладонь к губам и принялся своим дыханием согревать ее озябшие, нервно подрагивавшие пальцы. С душевной болью смотрел он в опечаленное лицо жены, не находя слов утешения.
Резкий звонок в прихожей вывел их из тягостного состояния.
– Кто это? Зачем в такое время? – спросила Марина и направилась в прихожую, но ее остановил Марутаев.
– Я сам посмотрю.
– Будь осторожен, Юра. Может, это фашисты, – предупредила Марина, и не выдержав, последовала за ним, – Боже ты мой, – всплеснула она руками, когда в дверях появился Шафров, – Отец! Зачем ты пришел? Немцы могли убить тебя! Сидел бы у себя дома.
Шафров, устало опустился на диван, вытер вспотевшее лицо.
– Позволь мне, дорогая, перевести дух. Я дал полный вперед, а в моем возрасте такой ход держать трудно. Устал. А затем, осмелюсь заметить, хорошая дочь своему родителю прежде всего говорит здравствуй, а не Боже мой.
– Прости, но сейчас такое время…
– Зачем рисковать, Александр Александрович? – упрекнул Марутаев, – В городе немцы.
– Знаю, знаю, – недовольно ответил Шафров, – Вчера честь имел сам убедиться в этом. Своими глазами видел как к городской ратуше на Гранд Плас подъехал на мотоцикле с коляской немецкий майор, спустил с флагштока бельгийский флаг, бросил его себе под ноги и поднял над ратушей фашистский флаг с омерзительной свастикой.
– Ты был у ратуши? – обеспокоилась Марина, – Как ты мог?
Шафров выдержал небольшую паузу и голосом, в котором преобладали интонации покорности судьбе, сказал:
– Мне, дочка, уже ничего не страшно. Я свое прожил. Смерти я не боялся раньше, а теперь тем более.
– И кто же присутствовал при этом «историческом» акте? – едко спросил Марутаев.
– Представьте себе, были мэр города, мэры коммун, – ответил мрачно Шафров. – Стояли у парадного входа в ратушу и наблюдали за унижением нации, будто ничего и не случилось.
– Бедная Бельгия, – зашептала Марина. – Что теперь с нею будет?
Но ей никто не ответил. Разговор внезапно оборвался и ни у кого не было желания его продолжать. Перед ними открывалась новая, неизвестная страница в их судьбе и каждый вдруг почувствовал душевную опустошенность, потребность на какое-то время остаться наедине со своими мыслями.
– Оккупация… – размышлял вслух Марутаев, – Какая судьба теперь ожидает нас, русских эмигрантов, в Бельгии? Эмигрант в любом государстве – чужой человек. Человек второго сорта. Что же будет с ним в государстве, оккупированном врагом? Когда все жители этого государства сами стали людьми второго сорта?
За окном прогремели последние танки и по мере их удаления в комнате наступала тишина, которая с каждой минутой становилась томительнее, невыносимей. Первым ее нарушил Шафров.
– Сейчас наша судьба тесно переплелась с судьбой бельгийцев, – рассудительно заговорил он, – У нас теперь один общий враг. Бельгийцам и русским надо вместе драться с ним. Надо становиться в один боевой строй, друзья.
– С кем становиться в один боевой строй? – возмущенно спросил Марутаев, – С бургомистром? Так он уже сложил оружие. Видимо, и король его сложит скоро.
– Нет, ты не прав, Юра – горячо возразила Марина, – Драться будут все, кому дорога Бельгия. В России в тысяча восемьсот двенадцатом году люди брали в руки топоры, вилы, колья и били французов.
Так то в России, Марина. В России, – напомнил ей Марутаев.
Она протестующе резко поднялась с дивана, где сидела рядом с Шафровым, подошла к столу и свет от свечи пал на ее строго сосредоточенное лицо.
– Так и в Бельгии будет, – сказала она уверенно. – Бельгийцы не станут перед фашистами на колени. У нас на фабрике все женщины возьмутся за оружие. Вот увидите, – Обвела решительным взглядом Марутаева, Шафрова, продолжила с меньшей запальчивостью, но с той же уверенностью. – Фашистов надо бить беспощадно. Не давать им расползаться по Европе, по всему миру.
– Все дело в том, душа моя, Марина, – заговорил Шафров после некоторой паузы, – что вашим женщинам, как и всем бельгийцам, которые соблаговолят сразиться с неприятелем, нужно оружие. Король его народу не оставил. Склады и арсеналы при оккупации Бельгии забрал противник. Стало быть, для того, чтобы бельгийцам взяться за оружие, его сначала надо где-то и как-то раздобыть. Надо вооружаться, друзья мои. Вот в чем вопрос.
– Как? – спросила Марина.
– Каким образом? – поддержал ее Марутаев.
Шафров задумался, ответил несколько мгновений спустя:
– Прежде всего следовало бы бельгийцам отправиться на оборонительный рубеж на реке Диль. Всего три дня назад там проходили ожесточенные бои. Об этом писали газеты, сообщало радио. Враждующие стороны переместились далеко на запад. Пал Брюссель. Надо думать, поле брани еще не убрано. Так надо поторопиться. Разумеется, складов оружия и боеприпасов там не обнаружить. Но, если внимательно поискать в окопах, блиндажах, на боевых позициях, то кое-что найти можно.
Марина и Марутаев благодарно посмотрели на Шафрова. Они все поняли.
* * *
Река Диль. Неширокая, тихая, медленно плутающая по равнинной местности юго-востока Бельгии. Марутаев и Марина, конечно, не могли знать, что в генеральных штабах бельгийской, французской, английской армий этой реке предназначалось стать оборонительным рубежом, на котором, в случае нападения Германии на Бельгию, должны были развернуться основные силы союзников, чтобы задержать, а затем разгромить и обратить в бегство войска Гитлера. В штабных разработках оборонительного плана «Диль» так и было сказано: «Обратить в бегство». История однако засвидетельствовала противоположное – бегство войск союзников.
Осмотревшись и походив по бывшей обороне союзных армий, даже неискушенные в военных вопросах Марутаев и Марина поняли, что оборонительный рубеж здесь создавался наспех. Однако следы боя свидетельствовали о том, что сражение тут было, хотя и скоротечным, но весьма ожесточенным и обе стороны понесли немалые потери в живой силе и боевой технике. На поле боя по обоим берегам реки Диль еще оставались неубранными разбитые и сожженные немецкие и бельгийский танки, бронетранспортеры, автомашины, на огневых позициях артиллерийских батарей взорванные орудия, в окопах, блиндажах и дотах еще попадались трупы погибших бельгийских, французских и английских солдат. Убрать их немцы не успели или не захотели, а бельгийцам появляться здесь запретила военная полиция. Но, несмотря на строгий запрет, Марутаев и Марина встретили в окопах несколько бельгийских женщин и стариков, искавших среди погибших солдат и офицеров своих сыновей и мужей.
День клонился к вечеру. В карманах Марутаева уже было два пистолета, в дамской сумочке Марины бельгийский браунинг и около трех десятков патронов, когда в одном из полуразрушенных блиндажей они обнаружили крепко сколоченный ящик. Был он засыпан осунувшейся землей, обломками досок, укреплявших стены блиндажа, бревнами, частично обрушившегося с потолка накатника. Прямое попадание снарядов тяжелой артиллерии основательно разрушило блиндаж, видимо, причинив неприятности находившимся в нем бельгийцам. На захламленном, затоптанном полу валялись окровавленные части военного обмундирования – рукав френча, разрезанный по голенищу сапог, смятая офицерская фуражка со следами крови, обрывки бинтов, ватные тампоны.
Марина и Марутаев попытались извлечь ящик из-под обломков и вытащить на середину блиндажа, чтобы посмотреть, что в нем находится, но он не поддавался их усилиям и стоял неподвижно, будто намертво прикрепленный к полу. Увлекшись, они не заметили, как в полумраке блиндажа появился мужчина. Марутаев ощутил на себе его взгляд и почувствовал себя неприятно. Было такое ощущение словно неизвестный держал его под прицелом пистолета и выбирал удобную минуту, чтобы произвести выстрел… «Кто это может быть? – отчаянно металась тревожная мысль в голове Марутаева, – Немец? Полицейский? Или такой же, как и я искатель оружия?» Осторожно, чтобы не заметила Марина, он скосил взгляд и увидел на фоне открытой двери силуэт человека, среднего роста, атлетического телосложения в гражданском костюме. И от того, что это был не немец и не полицейский у Марутаева настолько отлегло на душе, что дышать стало легче. Однако опасность, хотя и уменьшилась, полностью не исчезла. «Как-то поведет себя этот незнакомец? Кем окажется? Как объяснить ему, почему в полуразрушенном блиндаже возился с ящиком?» – думал Марутаев и, чтобы избежать подобных вопросов, решил сам овладеть положением. Он резко выпрямился, направил на незнакомца пистолет, властно потребовал.
– Руки вверх! Бросай оружие!
В первый момент от неожиданности Марина оцепенела у ящика, поняв, что за ее спиной в блиндаже появился кто-то опасный, но, мгновение спустя, суетливо завозилась с дамской сумочкой, доставая браунинг.
– Руки! Руки! – повторил Марутаев непреклонно. Достав браунинг, Марина повернулась к вошедшему. Он медленно поднимал руки вверх.
– Подойди и обыщи его, – сказал ей Марутаев и, обращаясь к неизвестному, строго предупредил, – Малейшее движение и я уничтожу вас.