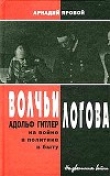Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Свидетель, господин Старцев, знаете ли вы сидящую на скамье подсудимых женщину? – с подчеркнутой вежливостью спросил судья Старцева и легким наклоном головы разрешил отвечать.
Старцев медленно повернул голову в сторону Марины. Взгляды их встретились, и он не выдержал унизительного презрения, с каким смотрела на него Марина. Несколько сконфузившись, отвернулся, мстительно подумав: «Как-то ты посмотришь, когда услышишь то, что я сейчас должен сказать по заданию Нагеля? Как поведешь себя?»
– Уважаемый господин судья! Господа судьи – произнес он несколько торжественно, чтобы скрыть замешательство, вызванное презрительным взглядом Марины. – На скамье подсудимых находится известная мне русская женщина Марутаева Марина Александровна, до замужества Шафрова, дочь белого эмигранта из России, бывшего капитана второго ранга русского военно-морского флота Шафрова Александра Александровича, – Он демонстративно умолк, принял скорбную позу, чтобы привлечь к себе внимание зала, судей, а больше всего Марины, на которую и был рассчитан в гестапо этот психологический прием. Выждав какой-то момент, печальным голосом, будто преодолевая себя на каждом слове, закончил, – которого я искренне уважал и которого, к великому сожалению, уже нет в живых.
– Что? – остро разрезал тишину зала крик отчаяния, вырвавшийся из груди Марины.
– Царство ему небесное. Он отошел в мир иной неделю тому назад, – скорбно склонил голову Старцев. Он выполнил задание Нагеля, не сказав только, что умер Шафров в тюрьме.
– Папа, папа! – шептала ошеломленная Марина.
Она прижалась затылком к высокой спинке стула, устремила невидящий, отрешенный взгляд в потолок. По ее страдальчески искривленному лицу скатывались слезы, которые не было силы ни унять, ни вытереть – онемевшие вдруг руки не слушались. «Папа, папа», – шептала она одеревеневшими губами. Все, что в жизни было связано с отцом непостижимо быстро проносилось в ее голове. Не стало самого близкого человека и ей казалось, что жизнь ее угасла преждевременно, до окончания суда, вынесения приговора.
Необычно притих зал, молчали судьи, будто разделяя постигшее ее горе. И, может быть, даже в их жестоких сердцах вдруг нашлось место состраданию? Гофберг снял пенсне и стал тщательно протирать и без, того чистые стекла. Он был полностью осведомлен о сценарии суда, разработанном в гестапо, том психологическом давлении, которое должно быть оказано на Марину, чтобы вынудить ее рассказать правду о связях с участниками Сопротивления, но даже эта осведомленность не стала для него защитной от восприятия человеческого горя. Он пристально посмотрел на застывшую в оцепенении Марину, оценивая ее способность давать показания, громко откашлялся, сказал:
– Суд понимает вас, подсудимая. Но… Дело есть дело. Суд есть суд, – он развел руками, дескать, тут ничего не попишешь, водрузил на нос пенсне и стал холодно строгим, словно за блеснувшими стеклами очков скрыл вырвавшееся было наружу человеческое чувство сострадания.
Марина оцепенело молчала. Будто откуда-то издалека, пробиваясь сквозь притуплённое восприятие происходящего, доходил до ее сознания голос судьи, который она с трудом понимала. Образ Шафрова властно звал ее к себе, и перед ее мысленным взором отец возникал то радостно взволнованным после возвращения из Советского посольства с вестью о предстоящем отъезде на Родину, то удрученным и растерянным, когда в этом отказали. Память стремительно возвращала ее в далекое прошлое, когда она, повзрослев, впервые осознала дочерние чувства любви к нему, поняла, что именно он, а не мать, занял в ее жизни первое место и был так душевно близок к ней, что она открывала ему самые сокровенные девичьи тайны, чувствуя себя счастливой в такие минуты откровения. Она вспоминала, как в первые годы жизни в эмиграции он помогал ей освоиться в чужой стране, найти свое место в нелегкой жизни беженки, и был надежной опорой во всех невзгодах и трудностях. Значительно позже она поняла и расценила это как стремление искупить вину за то, что лишил ее Родины, оторвал от той естественной среды, которая формирует личность, создает национальный характер, делает человека духовно богатым. Поняла и простила, ибо в его заботе было столько искренности, благородства и родительской теплоты, что сердиться, а тем более осуждать его было просто нельзя.
Память возвращала Марину к тому, как отец учил ее любить Родину. И делал это не громкими словами, а своими действиями. В связи с этим с необыкновенной остротой вспомнилось его мужественное объяснение со Старцевым и Новосельцевым по поводу посещения Советского посольства. Пережив многое, переоценив взгляды и поступки, он учил ее той любви к Отчизне, за которую сейчас судил ее фашистский суд. Но она не была в обиде на него. В этих и других эпизодах, подобно молнии полно или отрывочно проносившихся в ее сознании, Шафров представлялся поразительно цельным и сильным, таким, какого она любила его как благодарная и признательная дочь – пламенно, преданно и нежно.
Марина задыхалась от переполнявших ее чувств дочериной привязанности, отчаянной тоски и жалости к нему. Находясь в состоянии тягостного ощущения непоправимой утраты, она чувствовала, как это состояние рождало у нее безразличие и отвращение ко всему происходящему в зале: судье, прокурору, офицерам, процессу, показавшимся ей нелепым и совершенно ненужным. И она испугалась этого состояния, по опыту допросов в гестапо зная, что оно может привести к потере контроля над собой, и невероятным усилием воли заставила себя вырваться из плена воспоминаний и жалости к Шафрову, перевести на судью замутненный болью взгляд.
– Вы способны давать показания? Или пригласить врача? – спросил ее судья.
Вопрос судьи помог ей очнуться, окончательно выбраться из тягостного оцепенения.
– Да. Я буду говорить, – ответила Марина, удивившись своему подсекшемуся, глухому голосу, подумала: «Боже, дай силы мне». И вдруг на память ей пришли слова Шафрова: «Судьба сулит нам новые испытания. Но что бы ни случилось, надо выдержать. Мы – русские».
Да, она была русской и считала, что обязана выстоять. Превозмогая душевную боль, женщина вернулась к тому, что происходило на суде.
– Суд располагает данными о том, что вы, – обращался к Старцеву судья, – вместе с майором Крюге и офицерами 2 декабря 1941 года ужинали в ресторане «Националь». Вы подтверждаете это?
Старцев сделал вид будто напряг память и вспоминает вечер в ресторане. Преданно посмотрев на судью, ответил:
– Да, господин судья. Я подтверждаю это.
В допрос вмешался прокурор. Нераскрытые преступления с убийством офицеров в Брюсселе явно не давали ему покоя и ему казалось, что судья что-то делает не так, топчется на месте. Разгладив на длинном лице морщины, он оторвался от своих записей, с разрешения судьи спросил:
– Не помнит ли уважаемый свидетель генерал Старцев, была ли в это время в ресторане подсудимая?
– Да, была. Я это хорошо помню, – подтвердил поспешно Старцев, преисполненный признательности прокурору за проявленное к нему уважение и упоминание звания. Выдержав незначительную паузу, угоднически дополнил. – Смею заметить, господин прокурор, что подсудимая даже танцевала с майором Крюге.
– Тогда у меня к вам еще один вопрос, – продолжил прокурор. – Не можете ли вы припомнить, с кем за столиком и где именно сидела подсудимая в ресторане?
Чем больше вслушивалась Марина в допрос Старцева, тем больше убеждалась, что как в гестапо, так и в суде главным вопросом оставалась и остается ее связь с Сопротивлением, к выяснению которой и клонил сейчас прокурор. Однако, что мог знать Старцев о полковнике Киевице и Деклере? – волновалась она, – Запомнил встречу с ними в ресторане, доложил в гестапо и теперь будет свидетельствовать в суде? Или каким-то образом узнал, кто они? Обессиленная еще не пережитым и до конца не выстраданным, а сознательно приглушенным горем, она ощущала, как мысли ее путались, болезненно метались то к смерти отца, то к судебному процессу, вопросам прокурора, судьи и ответам Старцева. Эта распыленность внимания, душевная опустошенность давили на психику и ей казалось, что не хватит сил выдержать суд.
– Подсудимая сидела за одним столиком с двумя бельгийцами, – ответил Старцев.
От этого ответа внутри у Марины все застыло и лишь в мозгу исступленно бились мысли: «Откуда ему известно, что это были бельгийцы? Он знает Киевица и Деклера? Назовет их имена? Они тоже арестованы?»
– Вы уверены, что это были бельгийцы?
– Видите ли, господин прокурор, – самодовольно ответил Старцев, – я не погрешу против истины, если скажу, что знаю каждого русского, живущего в Брюсселе. В этом вопросе мне трудно ошибиться.
Взгляд Марины отчаянно и зло замер на холеном самодовольном лице Старцева. Она вспомнила все, что было в ресторане, с особой ясностью представив поведение офицеров, Крюге, а больше самого Старцева. И от того, что представление это было поразительно четким, будто все только что происходило на ее глазах, она поняла – Старцев говорит с чужих слов. Обратить внимание на нее, Киевица и Деклера он мог только в тот момент, когда Крюге пригласил ее на танец. А к тому времени он уже был пьян и спал за столом. Это она отлично воспроизвела в памяти. Из юридической литературы, прочитанной в камере тюрьмы, она знала, что показания свидетеля, скомпрометированного перед судом, во многом теряют свою значимость и, хотя это был фашистский суд, в котором не очень-то соблюдались нормы права и морали, все же решила бросить тень на главного свидетеля обвинения. Когда судья обратился к ней с вопросом, подтверждает ли она показания Старцева, Марина сочла, что для этого настал самый удобный момент.
– Послушай, Старцев, – прозвучал в притихшем зале ее, вызывающе дерзкий, со злой иронией, голос, – Как же ты мог видеть меня в ресторане, если был там до свиноподобного состояния пьян? – В обращении к Старцеву она перешла на «ты», чего ранее никогда не могла позволить себе, но сейчас в это «ты» вкладывала всю свою ненависть и презрение к генералу. Когда легкое оживление в зале стихло, она продолжила. – Может быть, ты забыл? Так я напомню, что из ресторана тебя вывели под руки. Потому, что самостоятельно идти ты уже не мог, – Выдержала секундную паузу, словно привлекая к себе внимание, и с убийственным сарказмом закончила, – Надеюсь, ты согласишься со мной, генерал, что если бы это было в кабаке старой царской России, то вышибала пинком под заднее место выбросил бы тебя на мостовую. А ты, видишь ли, еще и свидетельствуешь здесь под присягой. Надо же совесть иметь!
Легкий смех прокатился по залу. По бледному лицу Старцева пошли красные пятна, он съежился и умоляюще смотрел на судью, ища защиты.
– Подсудимая, – позвонил судья колокольчиком, призывая к тишине в зале, – прошу не оскорблять свидетеля.
– Я повторяю, – утверждала Марина, – что свидетель Старцев был пьян до потери сознания и видеть меня в ресторане не мог.
Отметив замешательство Старцева и ту поспешность, с которой пришел к нему на помощь судья, Марина торжествовала свою маленькую победу. От этого у нее заметно отлегло от сердца и хоть на какое-то время отступила неуемная боль по отцу.
Старцев нервно передернул плечами, обратился к судье:
– Господин судья, обвиняемая клевещет. Она хочет скомпрометировать меня перед высоким судом великого рейха. Я отвечаю за свои показания. Отвечаю! – с каждым словом все больше распалялся он и закончил сорвавшимся фальцетом. Лицо его покраснело, пылало гневом.
Многозначительно посмотрел на судью, прокурора, и тот усмиряющим жестом руки успокоил Старцева.
– Суд верит вам, свидетель. Верит.
– Господин судья, – заговорил требовательно прокурор. – Надеюсь, при вынесении приговора будет учтено вызывающе дерзкое поведение и неуважительное отношение к суду обвиняемой?
– О, да, конечно, – поспешил заверить судья и отпустил Старцева на скамью свидетелей.
Марина непонимающе уставилась на судью. Он отпустил Старцева, не выяснив главного вопроса? Почему? Старцев не знает Киевица и Деклера? Или за этим кроется что-то иное?
– Введите родственников подсудимой, услыхала она громкий голос судьи, прозвучавший в зале с каким-то угрожающим оттенком.
«О каких родственниках он говорит? О Юрии? Маме? – обожгла Марину мысль и она с болью смотрела на двухстворчатую дверь, за которой неслышно скрылся гестаповец, в обязанности которого входило приглашать в зал суда свидетелей.
В гнетущей тишине замерли в зале люди. Разыграв последующий этап судебного спектакля, продиктованного в гестапо, выжидательно смотрел на дверь и судья, косясь на Марину, словно окаменевшую в напряженной позе. Она не знала, что допрос Старцева он прервал умышленно, чтобы продолжить, когда она окажется в необычно тяжелом состоянии. И это предусмотрел барон фон Нагель, когда дотошно инструктировал, как вести процесс, в какой последовательности задавать вопросы, каких свидетелей, когда и о чем допрашивать.
Все существо Марины, ее мысли и чувства были нацелены на дверь. Не часы, а сердце ее отсчитывало секунды и тянулись эти секунды мучительно долго. Но вот гестаповец услужливо открыл дверь, и на пороге несмело появилась мать Марины в черной траурной одежде, с черной шалью на седой голове. За руки она держала Вадима и Никиту. На какой-то миг Марине показалось, что в груди у нее остановилось сердце, а через горло, схваченное горячими тисками, невозможно было протолкнуть застрявший в легких воздух, произнести какой-либо звук. Дети! Она видела своих детей! Подталкиваемая гестаповцем, Людмила Павловна заплетавшимися ногами шла к приготовленному ей и внукам месту, а сама не сводила с дочери болезненно-кричащего взгляда. Оробевшие Вадим и Никита послушно и настороженно плелись за нею, опасливо поглядывая на незнакомые суровые лица людей. И только когда уселись, Никита увидел Марину и на весь драматически затихший зал звонким колокольчиком раздался его детский радостный голос.
– Мамочка! Мамочка! Смотри, Вадик, вот наша мамочка!
Он простер руку в сторону Марины, показывая на нее пальцем. Людмила Павловна, пыталась унять его, но детской радости не было предела и остановить ее было невозможно.
– Вот наша мамочка! Мамочка! – захлебывался он от счастья.
Наконец, увидел Марину и Вадим.
– Ма-ма-а, – протянул он сквозь слезы. – Ты придешь к нам? Я соскучился.
Лицо его страдальчески искривилось, из глаз покатились слезы. Он растирал их по лицу кулачками и по-детски горько плакал.
Марина сидела в мучительном оцепенении, пересиливая боль, внутренне содрогаясь от душивших слез. Самая необузданная фантазия садиста не могла придумать более жестокой пытки, чем придумал Нагель, решив показать ей на суде детей. Она видела их расстроенные лица, горько заливавшегося слезами Вадима, слышала их голоса, и от понимания того, что лишена, быть может, последний раз приласкать их, излить накопившуюся в сердце материнскую нежность, ощущала, что подходит к той грани, за которой может наступить потеря рассудка. Марина боролась с собой, со своей слабостью, с жестоким судом из последних сил. Уставив на детей и мать словно обезумевший от боли взгляд, она смотрела на них с непостижимой жадностью, будто на всю оставшуюся короткую жизнь хотела запомнить их образы. Время отсчитывало секунды, минуты, но тягостную тишину в зале никто не нарушал – ни судьи, ни прокурор, ни присутствовавшие фашисты, будто наслаждаясь ее беспомощно-шоковым состоянием. И только дети боязненно о чем-то перешептывались с Людмилой Павловной. Чудовищной силы оцепенение еще держало Марину в беспощадных тисках, еще не отошло холодом схваченное сердце, когда она невероятным усилием воли заставила себя улыбнуться – дети и мать не должны были видеть ее в отчаянии. Ее улыбка, хлопоты Людмилы Павловны окончательно помогли успокоиться Вадиму и Никите и они затихли, не отрывая от нее тоскливых детских взглядов.
Судья был доволен тем ошеломляющим воздействием, которое оказало на Марину появление в зале суда детей. Если сообщением о смерти Шафрова предполагалось вывести ее из состояния равновесия, подавить морально, то появление в суде детей должно было окончательно сломить ее, привести к дилемме: либо выдать связи с Сопротивлением и жить с детьми, либо принять смерть. Третьего ей не давалось. Заученным элегантным жестом судья укрепил пенсне на носу, обратился к Старцеву:
– Свидетель Старцев, подойдите к столу суда.
Старцев, сохраняя достоинство, важно сидел в ряду свидетелей и со злобной радостью наблюдал за Мариной, за той волной драматических чувств, которая в считанные минуты после появления детей в зале пронеслась по ее лицу. Он не мог простить ей оскорбительного обличения в пьянке в ресторане, унизительного «ты», брошенного в зале суда и поэтому говорил с такой самоуверенностью и апломбом, словно каждое слово вырубал из непогрешимой истины.
– Господин судья, я готов отвечать на все ваши вопросы. Хотя подсудимая пыталась бросить тень на мое честное имя русского дворянина и генерала, совершенно безосновательно уверяя высокий суд в том, что я не мог видеть ее в ресторане, я с полной ответственностью заявляю, что был совершенно трезв, в ясном сознании, и в настоящее время даю себе отчет в том, что стою перед судом великого рейха и говорю правду и только правду.
Глаза судьи блеснули снисходительной полуулыбкой, и Старцев понял это как одобрение, набрал в легкие воздуху, чтобы продолжить речь, но его прервал до сих пор молчавший прокурор.
– Господин Старцев, что вам известно о посещении в 1940 году Александром Шафровым советского посольства в Брюсселе? Какое отношение имеет к этому подсудимая?
Старцев понял, что под убийство майора Крюге прокурор подводит политическую основу и заметно оживился. В душе у него будто что-то прорвалось. Накопившиеся в ней озлобление и ненависть к Шафрову и Марине вдруг получили возможность вылиться наружу. Он воспользовался этим случаем, чтобы не только осудить Шафрова, но и с присущей ему жестокостью ответить Марине за ее дерзостное отношение к нему на суде.
– Господин судья, господин прокурор, – проговорил он с прежней самоуверенностью, но несколько растягивая речь, будто вспоминая печальное событие, отдаленное временем, – Я лично хорошо знаю семью Шафрова Александра Александровича, кавалера боевых орденов, которыми он отмечен императорским величеством, участника гражданской войны в России на стороне белых армий. И мне весьма прискорбно докладывать высокому суду, что под влиянием пропаганды Кремля в 1940 году он подал прошение в Советское посольство в Брюсселе о возвращении в Россию. Я склонен взять на себя ответственность за то, что вовремя не заметил эволюции политических взглядов Шафрова, не предостерег его от перерождения, не предотвратил опасного шага.
«Под влиянием пропаганды Кремля… Эволюции политических взглядов… Склонен взять на себя ответственность…» – вторгались в сознание Марины слова Старцева и она, превозмогая себя, старалась переключить внимание на него, судью, но сердце, переполненное любовью к детям, не подчинялось ей, отчаянно сопротивлялось вторжению суровой действительности в мир его чувств. Ее материнское «я» еще не утолило жажду видеть детей, и поэтому категорически отвергало, как чужеродное, противоестественное, все, что не было связанным с сыновьями. Однако тревога и ответственность за связь с Сопротивлением за Киевица и Деклера медленно пробивались в ее сознание, возвращая к суду, обязанностям давать показания, защищаться и ожидать решения своей участи. Оставив где-то на самой глубине души неизлитую нежность к детям, она повернула голову к судье, к стоявшему перед ним Старцеву.
– Я позволю себе заметить, господа судьи, – продолжал Старцев, упиваясь своим красноречием, – что в семье Шафрова, где воспитывалась подсудимая, как выяснилось позже, господствовал дух большевистской Москвы. Этот дух и привел подсудимую к преступлению. Мне, как человеку, отдавшему немало сил политической борьбе с большевизмом, абсолютно ясно, что между посещением Шафровым Советского посольства и преступлением его дочери имеется прямая связь. Нити от этих двух действий родственных между собой людей ведут прямо к Кремлю. Доказано ли это материалами дела или нет, но я с полной уверенностью утверждаю, что на скамье подсудимых сидит не просто Шафрова-Марутаева Марина Александровна. Нет. Там сидит агент Москвы, который заслуживает самой суровой меры наказания.
В зале послышался гул одобрения, раздались аплодисменты, которые подстегнули Старцева и он, войдя в роль обличителя, старался заключить свою речь, придав ей большее политическое звучание и эффектную концовку. Поняв, что, как всегда это с ним бывало во время выступлений, он овладел вниманием публики, Старцев артистическим движением развернулся к залу, будто теперь давал показания не суду, а сидевшим перед ним фашистам и, повысив голос настолько, чтобы слегка перекрыть, но не заглушить шум и аплодисменты офицеров, продолжил страстно и убежденно:
– Я глубоко верю, господа, что подсудимая в силу своих политических, просоветских убеждений, воспитанных в ней покойным Александром Шафровым, связана с бельгийским Сопротивлением. Иначе быть не может! Таковы законы логики и политической борьбы, – Аристократическое лицо Старцева, прежде бледное, покрылось красными пятнами, в голубых глазах пылал огонь вдохновения. Теперь он так же картинно повернулся к суду и продолжил патетически. – Уважаемый высокий суд, я должен со всей ответственностью заявить, что русская эмиграция в Брюсселе глубоко пережила, категорически осудила преступление Шафровой и решительно отмежевалась от нее. Мы, русские люди в Бельгии, не можем нести ответственность за безрассудные действия подсудимой. Не можем! Подавляющая часть русских эмигрантов подписала обращение к военному коменданту Брюсселя, генералу Фолькенхаузену, в котором выразила полнейшую лояльность и свою преданность немецким властям. Важным здесь является то, что этот документ подписал и отец подсудимой, Шафров Александр Александрович, который на смертном одре осознал свои ошибки.
Марина с трудом постигала то, что говорил Старцев. Его слова доходили до нее в каком-то скомканном состоянии, отчего терялся их смысл и ей стоило немало усилий, чтобы понять, о чем он говорил. Но вот до ее сознания дошли слова Старцева о том, что отец подписал обращение русской эмиграции к генералу Фолькенхаузену и на смертном одре осознал свои ошибки. Это было так ошеломляюще неожиданно, что она пришла в отчаяние и в поиске подтверждения или опровержения услышанного поспешно бросила на Людмилу Павловну горячечный вопрошающий взгляд, но на смертельно бледном, растерянном лице матери ничего не прочла. Она не знала, что Людмилу Павловну под страхом жестокого наказания предупредили в гестапо, чтобы на суде она смотрела за детьми и ни словом, ни взглядом, ни жестом не помогала Марине. Убитая горем после кончины Шафрова, судом над дочерью, запуганная фашистами она строго выполняла все, что от нее требовалось и, подавляя неутешную боль, старалась меньше смотреть на Марину. И только когда становилось совсем невыносимо, поднимала на нее глаза, застланные слезами и плохо видела – размытый образ Марины расплывался, терял четкие очертания. Провокационное заявление Старцева об отступничестве Шафрова прорвало было в ней плотину сдержанности и ей захотелось на весь зал выразить несогласие, уличить Старцева во лжи, но жесткий взгляд прокурора охладил ее и она, побелев лицом, внутренне сжалась, присмирела.
Марина растерялась. Какое-то время она сидела окаменело и лишь в голове устало еще билась слабая, протестующая мысль: «Не может быть. Он не мог так поступить. Не мог…» Сознание ее начало меркнуть, и ей вдруг показалось совершенно ненужным все, что было сделано ею, за что предстала перед судом. Из жизни вообще, из ее жизни в частности, ушел человек, которого она любила и, если верить Старцеву, ушел он самым неожиданным, непонятным образом, перед смертью отказавшись от того, что заботливо внушал ей. Как быть? Голова шла кругом. А Старцев все говорил.
– Уважаемый высокий суд, – провозглашал он, потрясая над головой указательным пальцем правой руки, обхваченной накрахмаленным, белым манжетом со сверкающей дорогой запонкой, – Мой жизненный опыт дает мне полное основание утверждать, что и в ресторане подсудимая находилась не случайно. Она встречалась там с представителями Сопротивления в Бельгии. Я в этом не сомневаюсь. Я в этом глубоко убежден.
Он довольно вскинул голову, будто вытряхнул из нее последнюю мысль и горделиво обратил взор на судью и прокурора. Он честно отработал свой хлеб и пусть они теперь доложат об этом барону фон Нагелю.
С появлением в зале суда детей Марины прокурор словно отключился от процесса и все внимание сосредоточил на ней, выбирая тот момент наибольшей ее психической подавленности, умственной расслабленности, когда можно было пустить в дело главное требование. По его мнению, показание Старцева о признании Шафровым своих ошибок было последней каплей, переполнившей чашу ее выдержки и сигналом перейти к последнему вопросу, и он многозначительно глянул на судью. Тот все понял, сказал:
– Подсудимая, суд располагает достаточными доказательствами ваших преступных связей с бельгийским Сопротивлением. Нам так же известно, что вы встречались в ресторане с его представителями. В связи с этим суд вторично требует от вас назвать фамилии известных вам участников Сопротивления, ваши явки с ними, задания, которые вы получали.
Арсенал средств психологического давления на Марину подходил к концу, суд приближался к кульминационной точке, и прокурор поспешил дополнить судью.
– Уважаемый судья, – сказал он, – Я хочу обратить внимание подсудимой на весьма важное для нее обстоятельство – на ее материнский долг перед детьми, которые находятся здесь, в зале суда.
Глухой стон вырвался из груди Марины, а прокурор патетически повысил голос:
– Этим малолетним детям, – указал он рукой на испуганно притихших Вадима и Никиту, – нужна любящая и нежная мать! Они соскучились по материнской ласке, на которую имеют законное и полное право!
Произнеся необычную для себя речь, которую правильнее было бы сказать защитнику, прокурор сел. Застыл в выжидательной тишине притихший зал. Людмила Павловна, нашептывая какую-то молитву, робко осеняла крестным знаменем молчавшую Марину.
– Суд считает необходимым – нарушил тишину зала судья, – предупредить подсудимую, что правдивые показания облегчат ее участь и значительно повлияют на определение меры наказания.
Сухими глазами, будто их высушили от слез в камере пыток и тюрьме, смотрела на своих сыновей Марина. Мысль о них не покидала ее с того момента, когда она оставила дом, не давала покоя даже в зыбком тюремном сне. Да, ее сыновья имели право на материнскую любовь и ласку – в этом прокурор был прав. Но какую цену она должна заплатить за то, чтобы дарить им такую любовь? В камере тюрьмы такой вопрос для нее не существовал, не было его и на суде. Но вот появились в зале дети, с беспощадной жестокостью напомнил прокурор о ее материнском долге и появился, заворочался в ней червячок сомнения в правильно принятом решении и нестерпимо больно гложет душу, буравит сознание. Она отчаянно сопротивлялась внезапно и не ко времени возникшему колебанию, сознавая, что, допустив сомнение в своем решении, поступает предательски, прежде всего по отношению к самой себе.
Мертвым казался ей зал. И не потому, что не обращала на него внимания, а потому, что, сфокусировав на себе сотни выжидательных взглядов, словно загипнотизировала публику и своим ответом на вопрос судьи должна была разрушить эту мертвую тишину. Но что ответить? Выдать суду полковника Киевица, Деклера?
– В ваших руках не только ваша жизнь, – подталкивал ее судья к ответу – но и будущее детей. Подумайте. Мы подождем.
Ей разрешили думать. О чем? Быть или не быть предательницей? О том, чтобы рассказать суду о своей подпольной работе? Выдать всех? И, словно устыдившись своего невольного колебания, упрекнув себя в малодушии, она решила – нет! Теплым материнским взглядом посмотрела на сыновей, мать, мысленно прощаясь с ними, ибо это были последние минуты счастья перед тем, как дать отрицательный ответ суду. Да пусть простят они ее за то, что подчиняясь законам мужества и чести, оставит их сиротами. Она сглотнула подступивший к горлу ком, медленно поднялась на ноги. Неторопливым движением рук совсем по-домашнему, привычно просто и вместе с тем по-женски элегантно поправила прическу, белый воротничок на платье, спокойно посмотрела на жадно притихший зал, судью, снявшего пенсне и близоруко уставившегося на нее, сидевшего за столом прокурора, ответила:
– Господин судья, простите, но мне думать не о чем. Я все сказала. К Сопротивлению, к партизанам Бельгии я никакого отношения не имела и не имею.
– Неправда! – потеряв последнюю надежду получить нужные показания, обозленно выкрикнул судья. – Суду известно, что в ресторане вы встречались с участниками Сопротивления. Доподлинно известно! Назовите их фамилии!
– Доказательствами это не подтверждено, – отрезала решительно Марина. – Если, конечно, не считать сомнительные показания Старцева, – Какой-то миг помолчала, спокойно закончила. – И вообще я ничего не скажу вам о тех бельгийцах, с которыми сидела за столом в ресторане. Ваши усилия напрасны.
Она села, словно утонула в волне возмущения фашистов. «Смерть! Расстрелять! Повесить!» – многоглоточно гремело в зале. Судья раздраженным жестом подал знак гестаповцу убрать из зала детей и Людмилу Павловну.
Людмила Павловна, роняя слезу, перекрестила Марину, взяла за руки Никиту, Вадима и неуверенными шагами пошла из зала. Влекомые ею за руки, дети испуганно оглядывались на мать. Вадим горько плакал. Марина поднялась со стула, низко поклонилась им вслед, вновь села и закрыла лицо руками. Ее плечи судорожно подрагивали. Она не помнила, сколько прошло времени до того, как, наконец, в притихшем зале раздался звонкий баритон судьи.
– К фюреру великой Германии Адольфу Гитлеру, – говорил он, – обратилась с посланием королева бельгийцев Елизавета. Королева просит помиловать вас, подсудимая.
Марина медленно отняла руки от бледного лица, непонимающе подняла утомленные болью глаза на судью и смотрела на него недоверчиво, отчужденно, как на безумца. «Что он говорит? Королева просит Гитлера помиловать меня? Но при чем здесь королева? Какое отношение имеет она к суду, наконец, к моей судьбе?» – думала она.
В подтверждение сказанному судья достал из пухлой палки документ, обвел взглядом все еще гудевший недовольством зал, призывая всех успокоиться, посмотрел на Марину и, убедившись в том, что она его слушает, принялся читать послание королевы.