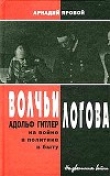Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
«Шш-хры, шш-хры» раздавались шаркающие шаги обреченных в притихшей, замершей в оцепенении улице. Колонна заложников медленно приближалась к тому месту, где стояла Марина, она теперь ни на секунду не отрывала взгляда от офицера, выбирая удобный момент для смертельного удара. Все ее существо напряглось, словно сжалось в тугую пружину, сердце в грудной клетке молотом отбивало каждую секунду, ведя свой счет замедленно тянувшемуся времени, а она отсчитывала последние шаги немца: «Восемь, семь, шесть».
За ее спиной послышалась чья-то страстная молитва: «Господи, помоги же ты этим несчастным», чья-то рука мягко легла ей на плечо и кто-то попросил передвинуться в сторону, но она ничего не слыхала, ни на какие просьбы не отзывалась, – ощущение опасности и готовность к ее преодолению как бы отключило от восприятия всего того, что не относилось к офицеру.
«Пять, четыре», – отсчитывала она, будто выманивая жертву к тому месту, где должна была нанести смертельный удар. Она не обладала тайнами гипноза, но в тот момент ей казалось, что каждое движение офицера зависело от ее желания, что ни по своей, а по ее воле делал он шаг за шагом в ее сторону.
Словно почувствовав что-то неладное, офицер забеспокоился, настороженно посмотрел на притихшую толпу. На всякий случай Марина отвела от него взгляд и он, не обнаружив ничего опасного, вновь повернулся к заложникам.
«Три, два, один», – закончила свой счет Марина, когда офицер оказался против нее, в том самом месте, которое она определила для нападения.
Мысль ее работала предельно четко, требуя хладнокровия и выдержки. Поспешность, как и промедление, могли привести к срыву задуманного, и поэтому она выждала, когда, удаляясь, офицер оказался к ней спиной. Это было то самое мгновение, ради которого она пришла сюда. Какая-то внутренняя сила, словно разжавшаяся в организме пружина, вытолкнула ее из первого ряда людей, стоявших на тротуаре. В считанные доли секунды она одолела расстояние, отделявшее ее от офицера, и решительно вонзила нож ему в спину.
Крик предсмертного отчаяния разорвал могильную тишину улицы. Офицер, теряя сознание, рухнул на землю. Но в тот же миг сильный удар приклада автомата сбил Марину с ног.
В схватке она не почувствовала боли, быстро поднялась с ножом набросилась на солдата, подоспевшего на помощь сраженному офицеру.
Ошеломленная толпа на тротуаре замерла. Сбилась в кучу колонна заложников, не понимая, что произошло, почему на дороге лежал окровавленный офицер, а в руках эсэсовцев самоотверженно билась схваченная ими женщина. И тогда над толпой бельгийцев, над обреченными заложниками звонко взвился сильный голос Марины:
– Освободите заложников! Это я убила майора Крюге!
На далекой чужбине она прожила двадцать лет сознательной жизни, французский язык стал ее основным языком, но в минуту тяжелого испытания, духовного и нервного потрясения она обратилась к тому единственному, что связывало ее с Родиной – родному, русскому языку.
– Освободите заложников! Это я убила майора Крюге! – громко раздавалась над притихшем, поставленным на колени Брюсселем, русская речь, – Сообразив, что ее не понимают, что говорит на непонятном для бельгийцев и немцев языке, Марина потребовала по-немецки, затем повторила по-французски, – Освободите заложников! Это я убила офицера на площади Порт де Намюр! Ведите меня в гестапо! Ведите в комендатуру!
На руках Марины щелкнули наручники, кто-то больно толкнул в спину прикладом автомата и под конвоем ее повели по улицам Брюсселя в гестапо.
– Господа, – раздался в толпе стоящих на тротуаре брюссельцев басовитый голос высокого, длиннолицего бельгийца в поношенной шляпе, – за наше счастье с фашистами воюет русская женщина. На колени перед ней, бельгийцы, на колени.
И он первым опустился на колени, сняв со склоненной головы поношенную шляпу.
* * *
Занятия русским языком у королевы Елизаветы в этот день явно не ладились. Она отвлекалась, тоскливо посматривала на часы, отсчитывавшие минуты брюссельской драмы, и, в конец измотав себя ожиданием развязки, попросила Деклера отложить занятия, но от себя его не отпустила – одиночество было невыносимым. Они сидели друг против друга, раздавленные томительным ожиданием известий и молчали.
Дверь в кабинет открылась так стремительно и неожиданно, что Елизавета и Деклер вздрогнули и в одно мгновение обратили взоры на секретаря, без разрешения вошедшую к ним. По тому, как она появилась, они поняли, что пришла она с известием, потрясшим ее до глубины души.
– Ваше величество… – задыхалась она. – Ваше величество…
– Успокойтесь, – попросила ее Елизавета, – Успокойтесь.
– Сейчас, сейчас, ваше величество, – пообещала та, прижимая ладонь к груди, будто удерживая рвавшееся наружу сердце и, наконец, единым порывом выдохнула:
– Заложники освобождены!
– Освобождены? – в один голос спросили Елизавета и Деклер.
– Да, освобождены.
У Елизаветы отлегло от сердца. Контрастность между тем, что она готовилась услышать – казнь заложников – и тем, что услыхала – освобождение несчастных была так велика, что ей потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить происшедшее.
«Что же случилось? – размышлял Деклер, – Ультиматум Фолькенхаузену и Нагелю или явка Марины освободили заложников?» Ему так хотелось верить в первое, в силу ультиматума.
– Я говорил вам, ваше величество, что заложники будут освобождены, – напомнил он Елизавете.
– Господи, – молвила королева. – Благодарю тебя, что услышал мои молитвы. Я верила, что ты остановишь казнь моих подданных.
– К немцам явилась женщина, которая убила офицера комендатуры, – выбрав момент, доложила секретарь.
– Не может быть! – вырвалось у Деклера, – Не может быть! – повторил он протестующе.
– Эта женщина вышла на улицу, по которой немцы вели заложников, – докладывала секретарь, – Выждала, когда офицер конвоя оказался с нею рядом, ножом заколола его и потребовала освободить заложников. Немцы схватили ее, а она на всю улицу кричала, что убила и майора Крюге на площади Порт де Намюр.
– Боже мой, Боже мой, – прошептала Елизавета, трудно представляя картину, разыгравшуюся на улице Брюсселя.
Она допускала, что ее Жанна д'Арк вынуждена будет явиться к немцам, пожертвовать своей жизнью ради спасения обреченных, но ей и в голову не приходило, чтобы бесстрашная бельгийка убила еще одного офицера. Известие об этом оказалось для Елизаветы таким неожиданным и поразительным, что она умолкла в растерянности.
– Убила еще одного офицера? – не то спрашивала она Деклера и секретаря, не то размышляла вслух. – Невероятно… Зачем?
Деклер почтительно склонил голову, ответил:
– Надо полагать, Ваше Величество, чтобы убедить немцев в том, что именно она убила майора Крюге.
– Вы так думаете?
– Да, – подтвердил уверенно Деклер.
– Бельгийская Жанна д'Арк иначе поступить не могла, – взвесив случившееся, после некоторой паузы горделиво произнесла Елизавета.
«Ультиматум генералу Фолькенхаузену и барону Нагелю ожидаемого результата не дал и у Марины иного выхода не осталось», – думал горестно Деклер и на память ему пришли слова, сказанные ею на последней встрече: «Их казнят. Останутся осиротевшие семьи, которые всю жизнь будут проклинать женщину, нашедшую в себе мужество убить фашиста, но не посмевшую признаться в этом… Нет, русские не могут поступиться своей совестью». «Да, она не поступилась совестью», – подумал Деклер. Чувствовал он себя опустошенным, подавленным, и поэтому восторг королевы разделить не смог, а Елизавета продолжала:
– Так кто же эта бельгийская героиня? – спросила она секретаря, – Вы уже выяснили?
– Да, ваше величество. Она русская беженка. Елизавета обратила на нее недоуменный взгляд.
– Русская? – прозвучал с сомнением ее голос. – Вы в этом уверены?
– Так сообщили из военной комендатуры. Когда эта женщина убила офицера конвоя, то сначала на русском, а затем на французском и немецком языках потребовала освобождать заложников, она русская, Ваше Величество…
Елизавета приложила пальцы к вискам, будто сдерживая стремительный бег мыслей, опустилась в кресло. Созданный ею в своем воображении образ национальной героини Бельгии неожиданно рухнул. Сам подвиг, женщина, его свершившая, оставались для истории Бельгии, но национальная героиня не получалась. Героиня была русской. Это ошеломило Елизавету, невольно повергло в глубокие размышления. «Прежде всего, ради чего эта русская женщина шла на смерть? – задавалась она вопросом, – За независимость Бельгии?» Она покачала отрицательно головой, отвергая такую вероятность. Сколько она знала, ее покойный муж, король Альберт и сын Леопольд никогда не благоволили к русским эмигрантам, которых обычно называли беженцами. Бельгия дала им приют, обеспечила работой, как правило, низко оплачиваемой, терпела их антисоветские «союзы», «организации», в чем-то поддерживала, когда это было выгодно, но той заботы, того внимания, которые в сердцах подданных зажигают стремление идти на подвиг во имя короля и короны русским эмигрантам не дала.
Туго сплетенный узел проблем русской эмиграции в Бельгии она глубоко не знала, но даже то, что до нее доходило, в чем считала себя осведомленной, было не в их пользу. Долгие года многим русским Бельгия не давала своего подданства, и они жили без гражданства, в правовом отношении не защищенные, политически бесправные. Ей были известны парадоксы, когда Германия не давала им своего подданства и изгоняла через границу в Бельгию. А через какое-то время, также поступала с ними Бельгия, выпроваживая в Германию. Так и ходили эти несчастные из государства в государство, доведенные до отчаяния. Многие из них кончали с собой.
Елизавета подняла взгляд на секретаря, спросила:
– Фамилия этой русской?
– Марутаева, до замужества Шафрова, Марина Александровна, тридцати трех лет. Дочь капитана второго ранга бывшего русского военно-морского флота. Мать двух малолетних детей, – четко звучали слова секретаря в тишине кабинета.
– Мать двух малолетних детей, – раздумчиво проговорила Елизавета, – и смогла пойти на такое?
Чувства восторженности подвигом Марины переполняли ее и она искала, но не находила в своем богатом лексиконе нужные слова, чтобы выразить их. – Я не нахожу слов, – виновато призналась она, – чтобы выразить восхищение и преклонение перед этой изумительной русской женщиной.
– Она мстила фашистам и за свою Родину, за Россию, – послышался печальный голос Деклера.
– Как вы сказали? За свою Родину? За Россию?
– Да, ваше величество. За Россию.
Елизавета благодарно посмотрела на него. Молитвенно прижала руки к груди, обратилась к нему:
– Боже мой, какую же силу любви к Родине ты вложил в сердце этой женщины? Я благодарю тебя, Господи.
* * *
Болезни все чаще и настойчивее подступали к Шафрову, и как он ни сопротивлялся, как ни старался убедить себя и близких, что еще обладает достаточным запасом сил, все же чувствовал, что неотвратимо наступала пора подводить итоги жизни. Во время приступов боли, которые с каждым разом становились продолжительней, тяжелей и от этого казались безысходными, он устремлял печальные глаза в потолок и часами лежал отрешенно, с грустной задумчивостью прокручивая в памяти всю свою жизнь, кадр за кадром, год за годом. Разными были те кадры. Запечатлели они то радость жизни в России, то отчаяние в Европе, а последние годы – неизбывную тоску, щемящую боль по Родине. Как она там? Выстоит ли? Поражение фашистских войск под Москвой обрадовало, обнадежило, придало силы, но он хорошо понимал, что это еще не победа, что еще много миллионов человеческих жизней придется сложить России к подножию ее величественного монумента. С какой радостью и свою жизнь сложил бы он к этому подножию, не будь старости, болезней, не разделяй его от Москвы сотни неодолимых километров.
Шафрова в доме берегли. И хотя в семье не было того патриархального порядка и согласия, которые еще сохранялись во многих русских семьях: и за границей, хотя не сложились ранее, а под старость в конец расстроились отношения с фанатически верующей женой, для которой Россия была немыслимой без Бога и царя, хотя две старшие дочери и сын не всегда понимали его патриотических чувств, все же во время обострения болезней или каких-либо других душевных потрясений, они не оставляли его. Вот и сейчас дети оказывали ему всяческое внимание, но в их настроении уже второй день он замечал что-то неладное, вызывавшее предчувствие чего-то непоправимо опасного. Наконец, не выдержав, попросил у жены объяснений.
– Что случилось в доме? – спросил он. – На вас лица нет.
Людмила Павловна тяжело опустилась на край постели и вместо ответа подняла кверху печальное, еще не высохшее от пролитых слез лицо, искривившимися от боли губами зашептала молитву.
Набравшись терпения, Шафров выжидал, когда кончится ее нескончаемое откровение перед Богом, но она неожиданно замолкла и безутешно залилась слезами. «Маринка, Маришенька, доченька, кровинка моя», – только и успел разобрать Шафров в мучительном стоне и плаче жены, но и эти слова будто острым лезвием коснулись его сердца.
– Что? Что с Мариной? – поднялся он с подушек и сел на постели, – Что с Мариной? – повторил вопрос онемевшей от горя жене. – Да ответь же наконец, – потребовал он.
– Немцы… Немцы арестовали ее, – простонала сквозь слезы Людмила Павловна и вновь горестно и нудно заныла. – Доченька, кровинка моя…
– За что? – едва вымолвил Шафров. Лицо его потемнело, вмиг посиневшие губы остались раскрытыми и весь он как-то сник. – За что? – вновь спросил он убивавшуюся в безутешном горе жену.
– Она убила немецкого майора из комендатуры, – ответила Людмила Павловна и смотрела на него сквозь слезы, будто молила не судить строго за то, что недоговаривает, утаивает, что ценою своей жизни Марина освободила заложников. Она щадила Шафрова.
– Убила майора? – спросил недоверчиво Шафров. – Марина – убийца?
Устало откинулся на высоко взбитые подушки и лежал неподвижно, испытывая чувство гордости за смелый поступок дочери и чувство уязвленного самолюбия за то, что не доверилась ему. Однако в таком состоянии пребывал он недолго. Мысль об аресте Марины больно сверлила мозг, не располагала к длительным размышлениям.
На краю постели сидела присмиревшая Людмила Павловна. Ее жалкий, раздавленный горем вид вызвал у Шафрова щемящую тоску. Он потянулся к ее руке и она вздрогнула, посмотрела на него болезненным взглядом, прошептала:
– Не верю, Сашенька, не верю. Видит бог, это кто-то и зачем-то подстроил. Господь покарает их. Он защитит Марину. Я буду денно и нощно молиться за нее.
Будто жаром плеснула Людмила Павловна на Шафрова своим заклинанием о спасении Марины, и он решительно поднялся с постели.
– Костюм мне. Парадный, военный костюм.
– Ты что? – испугалась Людмила Павловна. – Зачем тебе костюм?
– Костюм, – раздраженно повторил Шафров, – К военному коменданту Брюсселя пойду. Не Господь, а я должен защитить свою дочь, – запальчиво произнес он, – Марина не виновна!
– О, господи! Они и тебя, старого, арестуют, в тюрьму посадят, – запричитала, засуетилась Людмила Павловна. Но Шафрова остановить уже было невозможно.
* * *
Ароматный запах хорошо приготовленного кофе, смешанный с запахом дыма дорогих сигарет, заполнял обширный кабинет генерала Фолькенхаузена. На камине по-прежнему отсчитывали время часы, но на них не обращали теперь внимания. Операция по розыску убийцы майора Крюге была завершена, и Фолькенхаузен с Нагелем, удовлетворенные ее исходом, позволили себе расслабиться за чашкой кофе с коньяком, обсудить последние события в Брюсселе. Удобно расположившись в мягких кожаных креслах за журнальным столиком, они вели неторопливую беседу.
– Надеюсь, господин барон, гестапо уже выяснило, что собой представляет эта Шафрова-Марутаева? – спрашивал Фолькенхаузен, отпивая из чашечки кофе.
– О, да, конечно, – ответил Нагель, самодовольно улыбаясь, – Мы получили исчерпывающие данные о ней, ее отце Александре Шафрове, русском белом офицере-эмигранте. В его биографии обращает на себя внимание один весьма интересный факт. В начале тысяча девятьсот сорокового года он подавал документы в советское посольство в Бельгии с просьбой разрешить ему с семьей выехать в Россию. Но помешала война и наша победа над Бельгией.
– Это интересно, – оживился Фолькенхаузен, – Он стал красным?
– Не думаю. Такими данными, к сожалению, мы не располагаем. Хотя сам этот факт заслуживает внимания, и мы его изучаем. Нагель поставил на стол чашечку с кофе, раскурил сигарету, – Видите ли, господин генерал, жизнь русской эмиграции за рубежом, смею вас уверить, далеко не сахар. Ни мы, немцы, ни другие нации и государства Европы и Америки, не доверяют им, и от этого они чувствуют себя людьми второго сорта. Собственно, так оно и должно быть. Мы не приглашали их в Европу! Ощущение постоянной неполноценности рождает у них недовольство, они мечутся по всему миру в поисках счастья, но нигде его не находят и все это в конечном итоге приводит их к ностальгии, тоске по Родине. Многих тянет домой. Не исключаю, что в таком положении оказался и Шафров.
– И все же, как вы намерены распорядиться судьбой Шафрова?
– Он слишком стар и тяжело болен…
– Вам, конечно, виднее, но я бы действовал в отношении его более решительно, – посоветовал Фолькенхаузен.
– Видите ли, – улыбнулся с чувством превосходства Нагель, – в гестапо прямолинейность действий не всегда приводит к цели. Часто нужен маневр, гибкость.
– Не спорю, не спорю.
– Мы арестовали мужа террористки Юрия Марутаева. Недельку, две поработаем с ним, выпустим на волю и установим постоянное наблюдение. Это может принести больше пользы, чем прямой удар. Под таким же наблюдением сейчас находится и Шафров.
– Я не тороплю вас принимать решение в отношении Шафрова, ответил Фолькенхаузен.
– Я убежден, что Марина Шафрова связана с бельгийскими партизанами, – продолжал Нагель, польщенный вниманием и советами генерала, – и действовала по их указаниям. В таком случае негласное наблюдение за Шафровым и Марутаевым представляется высшей целесообразностью и может вывести на ее подпольные связи. Вот в чем смысл того, что пока не трогаю Шафрова и вскоре выпущу на волю Марутаева.
– Тогда предлагаю тост за ваш успех, – согласился Фолькенхаузен, наполняя коньяком рюмки.
Однако тост их нарушил появившийся в кабинете адъютант.
– Господин генерал, – доложил он, – у дежурного по комендатуре находится русский эмигрант Александр Шафров. Он просит вас принять по важному делу.
Фолькенхаузен поставил на столик рюмку с коньяком, вопросительно посмотрел на Нагеля.
– Примите, – посоветовал Нагель, опрокидывая в рот коньяк, – Если будут просьбы о дочери – отклонить.
– Проводите Шафрова к нам, – приказал Фолькенхаузен. Адъютант замялся, кабинет не оставил.
– Что у вас еще, обер-лейтенант?
– Шафров в форме офицера русского военно-морского флота и при кортике, – подчеркнул он последние два слова.
Намек на кортик был настолько откровенным, что Фолькенхаузен и Нагель все поняли и оба подумали, что если дочь этого русского с ножом бросилась на офицеров, то не бросится ли сам Шафров на них с кортиком? Правда, оба они были вооружены, и Шафров опасности для них не представлял, но Фолькенхаузен с молчаливого одобрения Нагеля все же приказал:
– Кортик отобрать.
Через несколько минут в предупредительно раскрытую дверь в кабинет вошел Шафров. По дороге в комендатуру он взвесил все, что знал о Марине и пришел к выводу, что она могла позволить себе многое, но только не убийство. Для этого у нее не хватило бы сил, мужества, наконец, просто умения убить человека.
– Капитан второго ранга русского военно-морского флота Шафров – представился он Фолькенхаузену и недовольно покосился на офицера гестапо, сидевшего за журнальным столиком за чашкой кофе.
– Военный комендант Брюсселя генерал Фолькенхаузен, – холодно ответил Фолькенхаузен. – Слушаю вас.
Изъятие кортика, присутствие офицера гестапо, наконец, необычность просьбы с которой он пришел в комендатуру, накаляло дерзкое чувство Шафрова.
– Простите, господин генерал, за нарушение формы одежды, но ваш адъютант приказал мне сдать кортик, – с едкой иронией в голосе сказал Шафров, – Позволю себе напомнить, что по условиям капитуляции офицерам бельгийской армии оставлено даже личное оружие, а у меня, не принадлежащего к вооруженным силам Бельгии, отобран кортик. Я выражаю по этому поводу самый энергичный протест.
Фолькенхаузен покраснел, но с ответом не торопился и с нескрываемым любопытством рассматривал Шафрова, удивляясь не столько его смелости выразить протест по случаю изъятия кортика, сколько самому визиту в военную комендатуру, где при сложившихся обстоятельствах ничего хорошего его не ожидало. В глазах Шафрова он обнаружил не только ироническую насмешку, но и что-то вызывающе-дерзкое, подумав при этом, что такие русские как Шафров, могут оказаться в Европе опаснее того противника, который прорывается на флангах и в тыл войск фюрера на Восточном фронте. От этой мысли что-то непримиримое колыхнулось в груди Фолькенхаузена, но он удержался от резкого ответа, так как история с кортиком действительно оказалась нелепой и Шафров с унизительным сарказмом использовал ее.
– Здесь произошло какое-то недоразумение, – ответил Фолькенхаузен сдержанно.
– Я так и понял, – согласился Шафров, гася ироническую улыбку.
– Я слушаю, – поспешил Фолькенхаузен перевести разговор, чтобы замять неловкость.
Шафров глотнул застрявший в горле сухой ком, сказал уверенно, искренне:
– Господин генерал! Немецкое командование арестовало мою дочь Марину Александровну, по мужу Марутаеву, подозревая ее в убийстве вашего офицера. Я протестую против незаконного ареста дочери и категорически требую немедленно освободить ее.
Фолькенхаузен вскинул голову и свысока недоуменно смотрел на него. Звякнула о чашечку металлическая ложечка и Нагель, повернувшись в кресле, устремил на Шафрова непонимающий взгляд – или он действительно ничего не знал о случившемся или его смелости не было предела.
– Вы даете себе отчет, против чего протестуете и что от меня требуете? – спросил Фолькенхаузен. В его голосе прозвучало угрожающее раздражение, но Шафров не обратил на это внимание, продолжил твердо.
– Господин генерал, я пришел к вам с полным убеждением, что моя дочь арестована ошибочно.
– Вы так думаете? – раздалось от журнального столика. – Это Нагель решил вмешаться в разговор Шафрова с Фолькенхаузеном.
– С кем имею честь? – сухо спросил Шафров, интуитивно чувствуя, что главным человеком, от которого зависела судьба Марины, по всему видно, был не военный комендант, а этот гестаповец, до сих пор безучастно сидевший за чашкой кофе.
– Начальник гестапо Брюсселя, штурмбанфюрер СС барон фон Нагель.
Шафров посуровел, смело посмотрел в лицо Нагелю, с немалой долей пренебрежения ответил:
– Принимаю к сведению, – Повернув голову к Фолькенхаузену, будто Нагеля для него больше не существовало, с прежней поразительной убежденностью продолжил. – Господин генерал, я заявляю о своей полной уверенности в том, что моя дочь невиновна. Она, мать двух малолетних детей, не может делать и действительно ничего не делала против оккупационных войск Германии. В этом вы можете верить мне.
– Вы плохо знаете свою дочь, – коснулся слуха Шафрова гневный голос Нагеля.
Подавляя чувство неприязни к гестаповцу, стараясь держаться, спокойнее, чтобы не испортить дело, ради которого явился в комендатуру, Шафров все же парировал:
– Уж не вам ли знать ее лучше? – И, не дожидаясь ответа Нагеля, вновь обратился к Фолькенхаузену: – Клянусь честью офицера, она не виновна.
Неосведомленность Шафрова в том, что сделала Марина, в чем она была повинна перед немцами, ставила его в неловкое положение, а он, не зная этого, настойчиво продолжал:
– Слово русского дворянина…
– Господин Шафров, – перебил его Фолькенхаузен, – Если вы в самом деле не знаете, за что арестована ваша дочь и убеждены в ее невиновности, то ваш энергичный протест делает вам честь. Если же вы…
– Господин генерал, – стоял на своем Шафров, – у меня нет никаких оснований подозревать ее в совершении какого-либо преступления против немцев и поэтому я…
– Господин бывший капитан второго ранга, бывшего русского военно-морского флота, – послышалось за журнальным столиком раздраженно и язвительно.
Шафров скорее почувствовал, чем увидел, как Нагель поднялся с кресла и направился к нему, но не повернулся к гестаповцу. Он понимал, что пренебрежительное отношение к начальнику гестапо вряд ли сейчас уместно, но ничего не мог поделать со своей взбунтовавшейся натурой. А Нагель и в самом деле неслышно появился у него из-за спины.
– Вы, надеюсь, слыхали об убийстве на площади Порт де Намюр заместителя военного коменданта Брюсселя майора Крюге?
– Об этом говорит весь Брюссель. Но объясните мне, господин офицер, какое отношение к этому убийству имеет моя дочь?
– Самое прямое, – вместо Нагеля ответил Фолькенхаузен. – Его совершила ваша дочь Марина.
– Это провокация! – не соглашался Шафров, – И я протестую! Категорически протестую! Кате…
Уверовав в невиновность Марины, он протестовал искренне, ни чуть не сомневаясь, что поступает правильно.
– Хватит! – резко прервал его Нагель, – Довольно протестов. Довольно комедии. Ваша дочь сегодня сама явилась в комендатуру и созналась в убийстве майора Крюге. Но по пути совершила нападение на офицера конвоя заложников, тяжело его ранила, и он скончался. Какие еще нужны доказательства!
Суровый взгляд Нагеля уперся в лицо Шафрова, которое вдруг померкло и на нем отразилось состояние внутренней растерянности. К такому повороту он был не готов и какое-то время стоял подавленный, смятый, отыскивая то решение, которое должен был сейчас принять и как офицер, дворянин, честью которого только что клялся, и как отец, дочь которого совершила убийство. От сознания того, что убийство немецкого офицера свершила Марина, он ощутил, как сквозь сумятицу мыслей медленно, но уверенно начало пробиваться в нем чувство гордости за нее. Обстоятельства и время не позволяли ему глубоко разобраться в себе, но одно было совершенно ясно: Марина поступила, как велело ей сердце русского человека. И оттого, что в сердце дочери была частица и его крови, он почувствовал и себя сопричастным к подвигу и возгордился собой.
Бледность постепенно сходила с его лица, взгляд становился сосредоточенным, уверенным. Он поднял голову, расправил плечи и, глядя мимо рядом стоявшего Нагеля на Фолькенхаузена, окрепшим голосом сказал:
– Господин генерал, я снимаю свой протест. Прикажите адъютанту вернуть мне кортик. Честь имею.
Пристукнул каблуками, слегка склонил на прощание голову и повернулся через левое плечо. Пошатываясь оттого, что кружилась голова от резкого движения – строевые повороты уже были не для него – и от только что пережитого, он неуверенным шагом направился из кабинета, словно из последних сил выбираясь из смертельно опасной пропасти.
* * *
С задумчивой неторопливостью просматривала Елизавета газеты, заголовки которых пестрели броскими сообщениями об аресте Марины, и мучительно думала, каким образом в своих предельно ограниченных правах пленной королевы отыскать возможность отвести от нее смертельную казнь. Испытанные ранее формы давления на правительства иностранных государств: дипломатические ноты протеста, демарши, памятные записки, политические и экономические санкции, наконец, разрыв дипломатических отношений – все эти общепринятые нормы международного права фашизм уничтожил вместе с независимостью Бельгии. Отложив газеты, она поглубже опустилась в кресло, будто хотела спрятаться в нем от забот и тревог и безучастным взглядом уставилась на скрипку и смычок, лежавшие в раскрытом футляре рядом, на столике.
В другое время в такие минуты ее руки сами тянулись к скрипке и смычку и она принималась играть, находя утешение в музыке, но сейчас душа ее была в таком смятении, что даже годами испытанный прием нервного успокоения – игра на скрипке – не могла принести ей забвение.
Часы пробили полдень и, как всегда в дни занятий, в сопровождении секретаря в кабинет вошел Деклер. Елизавета просветлела лицом, надеясь, быть может, с его помощью избавиться от состояния внутренней подавленности и душевной опустошенности. В ее взгляде Деклер обнаружил печаль, поинтересовался, здорова ли она?
– Душа болит, мой учитель, – откровенно и грустно призналась Елизавета, пригласила его сесть в рядом стоявшее кресло.
– Понимаю вас, Ваше Величество, – указал Деклер взглядом на лежавшие на журнальном столике газеты с сообщениями об аресте Марины.
Елизавета благодарно посмотрела на него и задала вопрос, ставший уже традиционным при их встрече.
– Что нового слышно в Брюсселе?
– Весь Брюссель живет подвигом Марины, – воспользовался этим Деклер, чтобы повести разговор в нужном ему направлении. – Брюссельцы к стенам тюрьмы Сент-Жиль, где находится узница, ночью тайком кладут живые цветы.
Елизавета словно задохнулась от изумления. Всем корпусом повернулась в кресле к нему, жадно спросила:
– Живые цветы? Зимой?
– Да, ваше величество. Утром немцы их убирают. А ночью брюссельцы кладут новые. И так каждую ночь.
– И я до сих пор не знала об этом?
Деклер сокрушенно развел руками, как бы отрицал свою вину, а она вдруг поднялась и пошла ходить по кабинету. Ее охватило такое возбуждение и восхищение брюссельцами, избравшими столь простую и в тоже время впечатляющую форму выражения своей признательности Марине, что от изумления зашлось сердце. Она остановилась, оперлась рукой о спинку кресла, сказала восторженно:
– Это же прекрасно!
– Говорят, что в тюрьму на имя мадам Марины Шафровой со всех концов Бельгии поступают сотни писем. Бельгийцы выражают ей поддержку и опасаются за ее жизнь.
– Да, жизнь ее в опасности, – моментально сникла Елизавета и с оттенком виновности посмотрела на Деклера, – Я много думала, как спасти нашу Жанну д'Арк, но ничего пока не могу предложить. К сожалению, я лично не обладаю такими возможностями, – прискорбно закончила она.
В кабинете наступила тишина и Деклер понял, что настало время высказать Елизавете свое предложение.
– А, может быть, еще не все возможности исследованы, – после длительной паузы осторожно начал он.
Елизавета обратила на него вопросительный, печальный взгляд.
– Простите за смелость, ваше величество, – извинился Деклер и неторопливо продолжил, пристально наблюдая за ее реакцией на каждое произнесенное слово, – Я благодарю судьбу за то, что она предоставила мне счастливую возможность быть свидетелем вашей любви к Жанне д'Арк и искренней заботы о ней. С вашего, конечно, разрешения, я позволю себе просить вас выслушать мой совет.