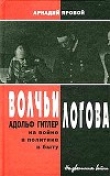Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– Еще не время, мадам. Майор Крюге получит свое. Можете не сомневаться.
– Не время? – Марина пожала плечами, неуверенно согласилась. – Может быть. Дай-то Бог убить Крюге. Только, чем раньше, тем лучше. Зачем же медлить?
Оркестр, до сих пор игравший мелодично и тихо, вдруг взревел фанфарами, мелкой дробью барабана, оглушительными раскатами литавр и на смену медленному танго пришел стремительный, захватывающий танец артисток кабаре. Зал ресторана погрузился в полумрак. На эстраде, в ослепительном свете прожекторов появились полуобнаженные танцовщицы.
– Бельгия веселится, – горестно заметила Марина.
– Вы ошибаетесь, мадам, – возразил Деклер. – Это веселится не Бельгия. Она готовится к схватке. Ей не до веселья.
В каком ресторане артистки кабаре не возбуждали подвыпивших мужчин, не доводили до экстаза тех, кто готов был потерять голову при виде их полуобнаженных, стройных фигур, похотливо извивавшихся в ритме танца? Крюге и его офицеры появление на эстраде танцовщиц восприняли с опьяненным восторгом. Подхваченные увлекательным зрелищем, будоражащим воображение и кровь, они поднялись и направились к эстраде, чтобы поближе и бесцеремонно рассмотреть артисток, вызывающе дерзко отплясывающих какой-то немыслимый по своей непристойности танец. Старцев тоже было поддался этому соблазну, но вдруг сообразил, что таким образом упускает удобный момент позволить себе вольность за чужим столом – хорошо выпить и закусить. Правда, он мог это сделать и раньше, но самолюбие не позволило нарушать застольный этикет. Теперь же, когда офицеры повалили к эстраде, он почувствовал себя полным хозяином стола – наполнял бокалы вином, жадно пил, заметно хмелел и поспешно ел, утоляя голод, который в оккупированном Брюсселе коснулся и его. Стремительный танец на эстраде окончился так же внезапно, как и начался. Офицеры неистово аплодировали, кричали и требовали повторения танца и Старцев понял, что его одинокому пиршеству наступал конец. Он залпом осушил еще один бокал, и, как ни в чем не бывало, поспешил к эстраде к одобрительным и требовательным возгласам офицеров присоединил и свой запоздалый восторг:
– Браво! Браво! Брависсимо! – кричал он, пробиваясь поближе к майору Крюге.
Когда же офицеры вернулись к столу, объявил:
– Господин майор, я обещал русские песни. Артист здесь. Разрешите начать?
– О, генерал слов на ветер не бросает. Так, кажется, говорят русские? – довольно ответил пылавший здоровьем и весельем Крюге.
– Совершенно верно, господин майор, – подхватил Старцев, поспешил объявить на весь зал.
На эстраде появился артист, и притихший зал бельгийского ресторана полилась задушевная, истинно русская, песня «Очи черные». Она разливалась сначала медленно, как бы в грустной раздумчивости о прекрасной любимой женщине, а затем, набрав силу, вдруг выплеснулась на притихших слушателей с таким душевным потрясением, такой страстью и болью, что слушать ее безразлично было нельзя.
– Вслушайтесь в эту песню, – попросила взволнованно Марина, Деклера и Киевица. – Поймите, как берет она за душу русского человека, какую боль вызывает в сердце.
– Почему? – спросил Деклер.
– Я не раз видела, как плачут русские на чужбине, слушая эту песню. Плачут, видимо, по тем черным очам, которые остались в России и к которым теперь никогда не вернуться.
Песня окончилась, но ее звуки и слова какое-то время еще как бы жили, звенели в очарованном зале. Наконец, раздался гром аплодисментов.
– Зер гут. Очень хорошо, – одобрил Крюге. Вечер явно удался, и он был в хорошем настроении. – Генерал знает толк в песнях. Прекрасно!
– Благодарю Вас, господин майор.
Старцев был переполнен радостью только что пережитого чувства. Глаза его горели той захмелевшей удалью, которой наполняются они у русских людей за веселым застольем. Сколько раз брала его за сердце эта песня в России. Там ее пели цыгане под звуки гитар. О, как пели! Лицо его порозовело. И срывающимся от волнения голосом он объявил.
– А теперь «Ямщика»!
Новая песня, как и первая, зарождалась в безмолвном, притихшем зале с мучительной грустью, безысходной обреченностью. Артист пел, вкладывая в каждое слово песни всю боль своей души.
Как грустно, туманно кругом,
Как крив, безотраден мой путь.
О, прошлое кажется сном,
Томит наболевшую грудь.
Когда же дошла очередь до припева, Старцев не выдержал. Не обращая внимание на немцев, он поднялся за столом и сильным, хорошо поставленным голосом, в котором преобладали интонации тоски и безутешной боли, подхватил припев.
Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей.
Закончив припев, опустился на свое место и, уже не считаясь с тем, какое произведет впечатление на немцев, пьяным жестом руки потянулся к бутылке с коньяком, наполнил рюмку. Какой-то миг смотрел на нее отрешенно, затем обвел офицеров, слезой затуманенным взором, будто ища их сострадания и, не найдя такового, широко распахнул рот, лихо вылил туда содержимое рюмки, будто гасил острую боль, раздиравшую грудь. Облегченно крякнув, он откинулся на спинку стула и устремил в потолок налитые тоской глаза.
С эстрады раздавался припев, а по лицу Старцева стекали слезы, задрожавшими губами он шептал: «Мне некуда больше спешить. Ямщик, не гони лошадей!»
Когда ему доводилось изрядно выпить, на какой-то стадии он терял над собой контроль и в его опьяненном сознании, как в кинематографе проносились картины прошлой и настоящей жизни. И оттого, что контраст между блистательным прошлым и унизительным настоящим был слишком велик, что никакой надежды на возвращение былого не просматривалось, ему до сердечной боли становилось жалко самого себя. Это была не ностальгия по минувшему, а осознание тупика настоящей жизни. Ему уже некуда было спешить. И хотя он еще цеплялся за немцев, надеясь с их помощью вернуть утерянное, все же где-то в глубине души сомневался в успехе.
– О, господин генерал в слезах? – заметил Крюге.
– Простите великодушно, – оправдывался Старцев, – Я не могу спокойно слушать эти песни.
– Наполните бокал генералу, – приказал Крюге.
– Приступим к делу, – предложил Киевиц. Понизил голос так, чтобы было слышно только за их столом, – Движение сопротивления, которое я имею честь представлять, просит вас, мадам, оказать нам некоторые услуги.
Марина ощутила, как в висках у нее размеренными толчками запульсировала кровь, как охватило волнение. «Значит, мне оказана честь. Значит, я им нужна», – думала она, затаив дыхание.
– Можете, Марина Александровна, – добавил Деклер, – считать это и заданием коммунистов Бельгии.
Глаза Марины медленно расширились и уставились на него с удивлением и любопытством. Ей и в голову не приходило, что Деклер – коммунист, и поэтому удивление ее было искренним.
– Что вы так на меня смотрите? – спросил Деклер, почувствовав в ее взгляде недоверие.
– Вы коммунист?
– Да, конечно, – гордо ответил от, – А что?
– Простите, – смутилась Марина, – но у нас, у русских эмигрантов, так много говорят о коммунистах… – Она замялась, явно подбирая слова, чтобы не обидеть Деклера.
– Плохого? – подсказал он и доброжелательно улыбнулся.
– Да, – благодарно кивнула она ему, – И я, право, не ожидала, что вы коммунист. Анри, – Марина обратилась к Киевицу. – Вы тоже коммунист?
Вопрос Марины для Киевица оказался настолько неожиданным и откровенно прямым, что он почувствовал, как мгновенно вспыхнуло его лицо и стало как-то неловко смотреть ей в глаза. Опустив голову, он медлил с ответом, собирался с мыслями, но, минуту, спустя, поднял на нее твердый взгляд и заговорил голосом, в котором явственно звучали нотки клятвенного обещания.
– Нет, мадам. Я не коммунист. Но когда решается судьба моей Родины, и за ее честь и независимость прежде всего отчаянно и мужественно сражаются коммунисты, то я с ними. – Помолчал, проверяя, дошли ли до ее сознания сказанные слова, продолжил все так же воодушевленно: – Смеем надеяться, мадам, что вы не откажете нам в помощи бороться с фашистами. Бельгия будет признательна вам за это.
Более наблюдательный и чуткий к душевному настроению Марины, Шарль Деклер спросил:
– Марина Александровна, простите за откровенность, но мне показалось, вы смущены тем, что я попросил вас помочь нам от имени бельгийских коммунистов. Если вам это неприятно, то я не смею настаивать.
Марина вздрогнула, как от неожиданного и сильного удара, всем корпусом повернулась к нему и смотрела на него с какой-то оторопью и удивлением. «Как он мог так подумать»? – молнией пронеслось в ее мозгу и боль обиды кольнула было сердце.
– Да, да, я не смею настаивать, – повторил он, – Это дело ваше и целиком добровольное.
Подавляя обиду, Марина обвела взглядом сначала Деклера, потом Киевица и, убедившись, что оба они ждут ее ответ, сказала:
– Вы неправильно меня поняли, мсье Деклер. Я не смутилась просьбой бельгийских коммунистов. Я удивлена, что судьба поздно свела меня с ними.
На лицах Деклера и Киевица появились довольные улыбки, и Марина в одно мгновение выдохнула свое выстраданное и давно выношенное в сердце:
– Я согласна и постараюсь оправдать оказанное мне доверие.
– Иного ответа мы от вас не ожидали, – проникновенно поблагодарил Деклер, наклонился и поцеловал ей руку, – Тогда к делу.
– Мадам, – начал Киевиц, – Задание будет заключаться в следующем. Вам надлежит слушать сообщения Московского радио о положении на советско-германском фронте, делать записи этих сообщений, переводить на французский язык, печатать на машинке и распространять в Брюсселе.
– Бельгийцы должны знать правду о положении на Восточном фронте, а не верить тому, что говорит Брюссельское радио и Геббельс, – уточнил Деклер, – Ваша работа в этом плане будет иметь огромное политическое значение. Понимаете?
– Понимаю, господа, понимаю, – срывающимся от волнения голосом ответила Марина. – Я согласна. Но немцы забрали у нас радиоприемник.
– Наши люди доставят вам портативный радиоприемник и научат им пользоваться, – пообещал Киевиц и предупредил, – Только будьте осторожны. Если немцы его обнаружат, то…
– Я все понимаю, – Марина глазами показала на сумочку с оружием, – Меня не надо предупреждать.
– Тогда ждем ваших сообщений на Восточном фронте, – сказал Деклер.
Образовавшуюся за этим неловкую взволнованную паузу вскоре нарушила Марина.
– И это все? – спросила она, плохо скрывая неудовлетворенность разговором, который довольно быстро подошел к концу. Она была убеждена, что ей дадут какое-то очень важное задание, а получалось все очень просто, можно сказать, буднично.
– Пока все, – ответил Киевиц.
– Я думала, вы прикажете убивать фашистов, – откровенно призналась Марина, и по ее лицу пробежала тень разочарования, отчего оно стало печально-грустным, как у чем-то обиженного ребенка.
– Простите, мадам, но такого задания мы дать вам не можем.
– Почему?
– Еще не настало время… Мы накапливаем силы, – испытывая неловкость и нелепость своего ответа, проговорил Киевиц. Он понимал Марину, ее желание действовать решительно и смело – убивать фашистов, врагов бельгийского и советского народов, но не мог идти против линии руководителей движения сопротивления, которые стояли за саботаж мероприятий немецкого командования и отвергали террор, убийство фашистов, – Еще не настало время, – повторил он с вымученной извинительностью.
– Не настало время? – удивилась Марина. – Бельгия оккупирована, моя Родина в опасности. Чего же еще ждать?
Киевиц пожал плечами и, уклоняясь от дальнейшего разговора, кратко, с оттенком досады в голосе ответил.
– Не знаю, мадам. Не знаю.
Тем временем за столом Крюге веселье набирало силу.
– Господа офицеры! – просил внимание не в меру захмелевший Старцев, – Господин майор! Позвольте великодушно боевому русскому генералу сказать несколько слов.
Офицеры притихли и Старцев воодушевился, принял горделивую осанку.
– Господа, – начал он торжественно, – Русская эмиграция с большой надеждой следила за развитием событий в Европе и терпеливо ждала тот день, когда войска великого фюрера обрушатся на Советский Союз и уничтожат большевиков, – Заметив нетерпеливый жест Крюге, поспешил заверить, – Да, да, господин майор, мы с замиранием сердца ждали этот исторический момент, – Возвел руки кверху, артистически повысил голос, – Да, видит Бог, я дожил до этого момента! Дожил, господа, и бесконечно счастлив! Прошу вас заверить немецкое командование, нашего обожаемого фюрера, что русские эмигранты готовы стать под боевые знамена вермахта, чтобы идти в смертельный бой за освобождение России от большевиков.
– Что говорит этот безумный старец? – спросила Марина со злой горечью.
– Мадам, не обращайте внимания на пьяные речи, – посоветовал Деклер.
– Но он порочит честь русских эмигрантов, – недовольно передернула плечами Марина, – Кто дал ему право так говорить об эмиграции?
А Старцев, войдя в роль борца с большевизмом, все больше распалялся. В хмельном угаре он не замечал, как на лице Крюге появилось недовольное выражение, не понимал, что пора унять ораторский пыл и занять свое скромное место за чужим столом.
– Господа офицеры, – продолжал он. – Мы, русские эмигранты, верим, что с помощью вашего фюрера господина Гитлера в России будет восстановлена монархия. Колокольный звон московского Кремля еще будет благовещать о восхождении на престол его величества царя всея Руси.
– Убрать его, – брезгливо поморщился Крюге, – Надоел.
– Господа, не унимался Старцев, – я предлагаю тост за его величество, царя…
Он не успел сообразить, что случилось, как два дюжих офицера, цепко взяв под руки, легко, будто играючи, вытащили его из-за стола и грубо повели к выходу.
Старцев задыхался от сознания потрясающей картины крайне унизительного для него удаления из ресторана. Его вели к выходу, как на Руси вышибалы выбрасывали из кабаков на улицу подгулявших, опьяневших мужиков. Так то ж ведь мужиков. На Руси. А тут, дико позоря перед публикой цивилизованной Европы, из ресторана, вышибали его, Старцева, потомственного русского дворянина, наконец, генерала! И за что? За то, что пожелал провозгласить тост за царя? Он захлебывался от жгучей жалости к себе, от ощущения беспомощности что-либо изменить в ужасающей картине своего падения, «Мерзавцы! Свиньи! Боши!», – клокотало трусливо застрявшее в голове возмущение, которому не суждено было сорваться с уст – он знал, где и что говорить.
В ресторане образовалась ошеломляющая выжидательная тишина, заполнить которую не смог растерявшийся оркестр. Многие подумали, что начались аресты, что Старцев стал их первой жертвой и поэтому в ужасе притихли, ожидая дальнейшего развития событий. Напрасно Бенуа делал знаки онемевшему маэстро, приказывая играть – тот стоял, как изваяние, с окаменелым бледным лицом, бессмысленным взглядом сопровождая офицеров и Старцева к двери.
И только после того, как офицеры вернулись в зал, сели на свое место, и выяснилось, что никому и ничего больше не угрожает, маэстро пришел в себя, энергично взмахнул руками и оркестр вновь заиграл танцевальную музыку. Веселье в ресторане продолжалось.
И, пожалуй, единственным человеком, который радовался тому, что произошло со Старцевым, была Марина. Довольно посматривая на Киевица и Деклера, она тихо смеялась.
Модное танго вскоре объединило танцующие пары. Глядя на них, Крюге ощутил, как по его молодому и сильному телу разлилась теплая волна и ему захотелось взять в объятья гибкий стан партнерши, заглянуть ей в глаза, многообещающе подернутые хмельной поволокой. Он обвел взглядом зал в поисках пары и остановил свой выбор на Марине. Чем-то она привлекла его внимание – то ли тихим, но радостным смехом, то ли тем, что сидела в обществе двух сумрачных и, по всему видно, недовольных ею мужчин. Во всяком случае контрастность их настроения, появившееся дерзкое желание лишить мужчин веселой женщины приятно пощекотало самолюбие Крюге и он направился к Марине.
Первым его заметил Киевиц и осторожно опустил руку в карман, сжав в ладони рукоятку пистолета.
– Надеюсь, мадам, он идет просить вас на танец.
– Вполне возможно, – согласилась Марина и на всякий случай приоткрыла лежавшую на коленях сумочку с оружием.
– Советую пококетничать с ним, – подсказал Деклер. – Надеюсь, вы это умеете? В случае чего… Мы поможем. Мы рядом.
Едва Марина признательно кивнула им, как к столику подошел Крюге. Он щелкнул каблуками, обратился к Киевицу и Деклеру с подчеркнутым превосходством, давая понять, что делает это в силу сложившегося этикета, а не уважения.
– С вашего разрешения, господа, – небрежно бросил он и протянул руку Марине, – Прошу, мадам.
Танцевал он легко. Ощущение близости красивой женщины, на которую бросали восхищенные взгляды офицеры, будоражило кровь. Он попытался стиснуть стройную фигуру Марины больше дозволенного, но она легким движением гибкого тела выскользнула из его рук.
– Нет, нет, господин майор, – пропела она милым голосом, сделав испуганные глаза и кокетливо погрозив пальчиком. – Так нельзя. Запрещено.
– А вы прекрасно танцуете, – заглядывал он в ее сверкающие искорками глаза.
Алые, чуть приоткрытые губы Марины дрогнули в улыбке и слуха Крюге вновь коснулся ее кокетливый голос.
– С таким партнером, как вы, плохо танцевать нельзя.
– Почему?
– Вы сами хорошо танцуете. Это раз.
– А два?
– Два? Что случится со мною, если я буду плохо танцевать? Как тогда поступит со мною герой взятия Льежа?
– Вы меня знаете? Откуда? – спросил Крюге, ощущая, как в груди приятно перехватило дыхание.
– Ваши друзья и этот русский, которого вывели из ресторана, на весь зал кричали, что вы покоритель Льежа.
Захлестнутый вихрем самолюбивых чувств, Крюге пропустил мимо ушей упоминание о Старцеве и продолжил игру, предложенную Мариной.
– О, да, – восхищенно сказал он, – Но вы, кажется, не боитесь победителя, раз пошли танцевать с ним?
– Страха не испытываю, – ответила Марина.
Музыка умолкла. Крюге провел ее к столику, сказал все еще шутливо.
– Рад был познакомиться с бесстрашной женщиной.
– Вы еще убедитесь в этом, – на прощание Марина подарила ему ослепительную улыбку и он ушел к пьяно шумевшим офицерам.
– Вот и познакомилась с героем взятия Льежа, – сказала Марина, опускаясь за свой столик. Подняла на Киевица и Деклера осуждающий взгляд. – И все же, господа, их убивать надо, а не копить силы для будущих сражений. Убивать сию минуту. Мстить за Бельгию, Россию, но мстить сейчас, пока не поздно.
* * *
В семье Шафрова седьмого ноября – праздник Октябрьской революции в России – раньше никогда не отмечали. В первые годы эмиграции из принципиальных соображений и решительного несогласия с властью большевиков, в последующие – больше по укоренившейся традиции, нежели по рассудку, который начал остывать от ненависти и постепенно склоняться к тому, что Россия и за рубежом для русского человека все же остается Родиной. Когда же она оказалась в смертельной опасности и Шафров, Марина и Марутаев с особой остротой почувствовали свою сопричастность к ее судьбе – праздник седьмого ноября решили отметить. И по тому, как рано поднялись и празднично оделись Марина и Марутаев, как радостно светились их глаза, а с лиц не сходила улыбка, как скромно, но со вкусом был накрыт стол, по тому, как с кухни распространялся приятный запах чего-то печеного, от которого в семье за долгие месяцы оккупации и полуголодной жизни уже отвыкли, видно было, что праздничному торжеству отдано все – и душевный порыв, и последний запас продуктов, бережно хранившийся на особый случай.
Однако их радость омрачало чувство тревоги за судьбу Родины, и особенно за участь Москвы. В ту пору не только их мысли, но и мысли людей оккупированной Европы, людей всего мира были прикованы к столице Советского Союза. И оттого, что в победном фашистском угаре с каждым днем все чаще и навязчивее упоминалась она в сообщениях немецкого радио и газет, что несколько раз переносились сроки ее взятия, что с ее захватом Гитлер и немецкие генералы связывали окончание войны, русский человек за рубежом скорее сердцем, чем разумом приходил к убеждению, что фашистам Москвы не взять. Это убеждение покоилось на чувстве национальной гордости, патриотического верования в силы своего народа, страны.
– На фабрике только и разговору, что о Москве, – рассказывала Марина Марутаеву. – Все меня, русскую, спрашивают, сдадут Москву фашистам или нет? А мне от этого и тревожно потому, что сама ничего об этом не знаю, сама пуще их переживаю, и в тоже время приятно, что люди хотят мое мнение знать. Мнение русской женщины.
– Тяжело сейчас у нас на Родине, – поддержал ее Марутаев, – Очень тяжело.
– Переживают бельгийские рабочие за нее. Верят. Надеются, что сломает Россия шею Гитлеру.
– Должна сломать, – пообещал Марутаев и чтобы увести Марину от тяжелых мыслей, демонстративно осмотрел накрытый стол, – Ты, как всегда, молодец, любимая. Не так богато, но довольно празднично, – Подошел к ней, пристально и благодарно посмотрел в глаза, сказал проникновенно, – Поздравляю тебя с праздником нашей Родины.
– И тебя поздравляю. Дай Бог силы победить Гитлера.
– Дай Бог. Однако, что-то отец задерживается, – заметил Марутаев, посмотрев на часы.
– Придет, – уверенно ответила Марина. – Сегодня тем более придет.
Шафров торопился. Людмила Павловна наотрез отказалась идти к дочери на большевистский праздник. Но для Шафрова быть у Марины, слушать ее рассказ о положении на Восточном фронте, находиться в курсе того, что делалось на Родине стало необходимостью. Правда, вести с фронта, даже в изложении информбюро, не говоря уже о сообщениях Берлинского радио, были неутешительными для русского человека, заставляли тревожно ожидать перемен к лучшему. Ожидал их и Шафров. Будучи военным, он анализировал ход военных событий не по сводкам германского командования, а по фактическому положению дел, и приходил к выводу, что поражение немецких войск близко. Фашистская военная машина, несмотря на победы первых дней войны, забуксовала. Для оккупации Польши ей потребовалось немногим более месяца, примерно столько же для оккупации Франции, 19 дней для разгрома Бельгии. Но, несмотря на обещание Гитлера уничтожить Красную Армию в несколько недель, сражение на Восточном фронте длилось пять с половиной месяцев, конца ему не было видно. Шафрову это говорило о многом и прежде всего о том, что близок час сокрушительного поражения немцев.
Он посмотрел на часы. До начала передачи из Москвы оставалось двадцать минут, и это заставило ускорить шаг.
– Что-то нынче рано наступили холода, – сказал он, появившись в квартире Марутаевых, – Пока добрался к вам, изрядно замерз. Надеюсь у вас согреться.
От взгляда Марины и Марутаева не ускользнуло, что Шафров был весь какой-то праздничный – чисто выбрит, одет в старый черный костюм офицера русского военно-морского флота, правда, что без погон. Марина знала, как тщательно он берег этот костюм и одевал только по особо торжественным случаям.
Однако, несмотря на внешнюю праздничность, выглядел он расстроенно, и в его взгляде легко угадывалась скрываемая тревога за судьбу Москвы.
– Согреться у нас ныне можно, – ответил Марутаев, многозначительно переводя взгляд с Шафрова на празднично накрытый стол, – Мы ждали вас, Александр Александрович.
Шафров взглянул на стол и замер, шутливо изображая крайнее удивление. Стол и впрямь был накрыт по-праздничному. По этому случаю Марина достала из тайников спрятанный от фашистов фамильный столовый сервиз, с изображением герба дворян Шафровых, с большим трудом вывезенный в 1920 году из России и подаренный ей в день свадьбы. То, что она именно сегодня достала этот сервиз из тайника, подчеркивая важность праздника, пришлось по душе Шафрову и он с благодарностью посмотрел на нее.
Среди поблескивавшего фамильного серебра, хрустальных рюмок и бокалов, скромных холодных закусок выделялся запотевший графинчик с водкой. Венчал стол русский, до ослепительного блеска начищенный самовар, пыхтевший над полудюжиной чашек, расставленных рядом на серебряном подносе. Стол был накрыт от души, по-русски, его убранство придавало квартире Марутаевых такой уют, такое мирное расположение и благополучие, что Шафрову показалась эта праздничность невяжущейся с тем, ради чего она была создана – ведь 7 ноября враг стоял у стен Москвы. По достоинству оценив труды и заботы дочери, он погасил на лице восторженность, тревожно спросил:
– Что нового под Москвой?
– Через десять минут будут передавать последние известия, ответила Марина.
Она ушла в детскую комнату и вернулась оттуда с радиостанцией. Привычно развернув ее, передала один наушник Шафрову и Марутаеву и те, сев рядом на диване, жадно припали к нему. В эфире были разряды, немецкая и английская речь, но вот, наконец, сначала удаленно, а затем все громче послышался бой кремлевских курантов, первые звуки интернационала и московская радиостанция «Коминтерн» торжественным голосом диктора объявила: «Говорит Москва. Говорит Москва».
Как часто за долгие годы жизни на чужбине слыхал Шафров такие объявления московского диктора по радио и каждый раз эти, до мельчайшего оттенка знакомые слова, щемящей тоской сдавливали сердце, подкатывали к горлу нервный ком. И сейчас, едва он услыхал «Говорит Москва», как ощутил сдавливающий горло спазм, который перехватил дыхание, и ему потребовалось немало усилий, чтобы избавиться от этого неприятного состояния. Он раз-второй жадно хватил воздух широко раскрытым ртом и, извинившись за свою слабость перед Марутаевым, вновь прижал к уху край наушника. А там с праздничной приподнятостью и торжественностью звучал мужественный голос диктора:
«Микрофоны всесоюзного радио сейчас установлены на Красной площади. Сегодня в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в столице нашей Родины Москве, на Красной площади состоится парад войск московского гарнизона».
От столь неожиданного известия Марина, Шафров и Марутаев замерли, не в силах поверить услышанному.
– Парад на Красной площади? – прошептала Марина. Ее глаза изумленно смотрели то на Шафрова, то на Марутаева, а на лице застыла какая-то неосознанная улыбка, которая, мгновение спустя, превратилась в улыбку детской радости, – Вы слышите? – счастливо зазвенел ее голос на всю комнату, – Там будет парад! Боже мой, парад! Вы понимаете? Парад!
Глаза ее увлажнились, и крупные слезы покатились по разгоряченному лицу. Она отрывала руку от настройки приемника, растирала их ладонью по щекам и приговаривала: «Парад. Парад»
Шафров почувствовал как от слов диктора, восторга Марины, от собственного осознания сообщения московского радио по спине у него поползли мурашки. Он нервно передернул плечами, как от внезапного озноба, недоуменно произнес.
– Парад в осажденном городе? Когда у стен Москвы немцы?
Он ожидал и с болезненной готовностью, кажется, способен был воспринять самое страшное сообщение. Даже падение Москвы, наверное, не так бы ошеломило его, как поразило известие о параде. И от того, что он, наконец, поверил и представил себе небывалый в истории России событие в осажденном городе, у него поднялось чувство национальной гордости за свой народ. Морщинки на его лице расправились, щеки порозовели, во всем облике появилась степенная горделивость, и он восторженно произнес:
– Друзья мои, на это способны только русские!
А там, в заснеженной, холодной и по-военному строгой, Москве, на всю Красную площадь, на которой стояли в парадном строю войска, на весь мир, замерший у радиоприемников, раздавался спокойный и ровный голос Сталина:
«Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры… От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-ой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции».
Помехи прерывали речь Сталина, но Марина, Марутаев и Шафров терпеливо ждали его уверенные, приглушенные волнением, слова.
С щемящей горечью говорил Сталин о временной потере ряда областей, о том, что враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы и Шафров подумал о его мужестве. Сколько глав государств в подобных случаях прибегали к обману народа, ложно оберегая свой авторитет, а он с обнажающей ясностью говорил ему горькую правду.
«Бывали дни, – слышалось в наушниках, – когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните тысяча девятьсот восемнадцатый год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции».
Речь Сталина растворилась в эфире, а Шафров, переживая и волнуясь, что слышит ее отрывочно и неполно, поначалу не мог взять в толк элементарно простое – почему Сталин обратился именно к тысяча девятьсот восемнадцатому году.
«Четырнадцать государств наседали тогда на нашу страну, – словно напомнил ему голос Сталина. – Но мы не унывали, не падали духом».
Слова Сталина будто чем-то тяжелым ударили в грудь Шафрова, заставили вспомнить, что в то тяжелое для Родины время был на стороне четырнадцати государств, душивших молодую Республику. Он помрачнел лицом, поняв что совесть его до конца дней будет мучить непоправимое прошлое, отвел потемневший взгляд в сторону и на какой-то миг сник. Однако оптимизм Сталина заражал верой, а экскурс в недалекое прошлое убеждал в непобедимости России и Шафров, оставляя чувство вины перед Отчизной, вновь возвратился в то трепетное состояние, когда каждое сказанное слово воспринимается не только разумом, но и жаждущим правды сердцем.
Помехи прервали передачу… и, пока Марина возилась с настройкой, Шафров напряженно ждал продолжения речи Сталина, понимая, что она носила исторический характер. Он не сомневался, что пройдут годы после победы над фашизмом – а такая победа будет, он мог дать голову на отсечение – и внуки и правнуки ныне живущих, изучая историю мировой войны, будут изумляться беспримерным парадом войск Красной Армии в осажденной Москве, открывая в этом новые грани характера русских людей. Нет, это был не парад обреченных, как может показаться фашистам, а парад грозной силы, уверенной в себе, в победе.
Прорываясь сквозь помехи в эфире, на весь мир раздавался уверенный, поразительно спокойный голос Сталина, обращенный к воинам Красной Армии, партизанам и партизанкам.
– На вас смотрят порабощенные народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей, Великая освободительная миссия выпала на вашу долю!
– Боже мой, какие мысли! – не удержался и прошептал изумленно Шафров, – Какие задачи!
А Сталин уже напутствовал своих солдат, офицеров и генералов на выполнение предначертанной им историей освободительной миссии.