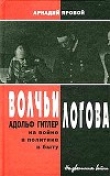Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
– На мой взгляд, – продолжал Ледебур, картинно поставив бокал на столик, – также не исследован вопрос социальный или, если хотите, классовый, как принято говорить в России. И если позволите, именно с него я хочу начать наш разговор.
Марина не ответила. Ей было безразлично, с чего он начнет – важно было знать, для чего понадобилась эта, будто бы мирная, а на самом деле, опасная беседа в загородном особняке. И несмотря на то, что Ледебур всем своим видом, вниманием, настроенной на задушевность и откровение речью стремился расположить Марину к спокойному и ровному разговору, растопить в ней чувство недоверия и настороженности не смог. Нелегкая задача была поставлена перед ним руководителями министерства пропаганды – заставить Марину публично осудить убийство Крюге, придать ему уголовное звучание. Неразговорчивость, напряженная настороженность Марины волновали его, сбивали с намеченной тактики ведения беседы, но он не терял надежды.
– Не будем торопиться, – заявил – доктор социологии, – Сначала продолжим наш завтрак. Берите бутерброды, кушайте, – Он посмотрел на часы, и тотчас в дверях появилась белокурая девушка, – Прошу кофе, фроляйн, – сказал Ледебур.
Когда же они принялись за кофе, Ледебур продолжил.
– Повторяю, что я внимательнейшим образом изучил все ваше уголовное дело. И с точки зрения социальной у меня возник вопрос, – Заметив, что Марина хотела поставить на стол чашку кофе и приготовиться отвечать, предупредил, – Пейте, пейте кофе. Вы не в гестапо и у нас не допрос. У нас с вами должна состояться полезная беседа. Именно такую беседу я пытаюсь вести. Так вот, скажите, из какой семьи вы происходите? Кем были ваши предки в России? Кем были ваши отец и мать?
– Какое это имеет отношение к убийству Крюге? – ответила Марина вопросом на вопрос.
– О, самое прямое, – поспешил учтиво отозваться Ледебур, испытывая удовлетворение от того, что она нарушила настороженное молчание.
Однако Марина не понимала прямой связи ее происхождения с убийством Крюге и чтобы разобраться в этом, выяснить намерение Ледебура, сдержанно ответила:
– Род Шафровых древний. Он корнями уходит в глубь истории России. Мой же дед и отец были дворянами Владимирской губернии. У них там было поместье.
– Дворянами! – оживленно и заинтересованно подчеркнул Ледебур.
– Да.
– Это обстоятельство и вызывает у меня интерес.
– Чем?
– Видите ли в чем дело, фрау Марина, – ответил Ледебур, будто вслух размышляя над важной и малопонятной для него проблемой. Лоб его разрезали неглубокие морщины озабоченной задумчивости, – Я много думал о вас, пытался понять ваши чувства, глубоко разобраться в мотивах убийства. Как ученый, я не мог обойти в своих поисках социальную основу вашего поступка и, признаюсь, тут у меня, как это говорится, концы с концами не сходились.
Вы представляете тех русских, – рассуждал Ледебур, – которые, согласно нашей национал социалистической теории, философии фюрера, составляют меньшинство нации, чистых русских, самой природой наделенных качествами господ, призванных руководить нацией, то есть абсолютным большинством нечистых русских элементов, которые только и жаждут подчиниться воле господствующего меньшинства. Вы представляете тех русских, которые господствовали в старой России, которым принадлежало государство, национальное богатство, деньги, власть. Октябрьский переворот, совершенный коммунистами, лишил этих людей всего. Вашего отца, например, он лишил привилегированного положения в обществе, на флоте, воинского звания, наград, заслуг перед царем. Большевики изгнали этих людей, в том числе и вашего отца, из страны, лишили Родины. Годами выработанные схемы взаимоотношений людей на социальной основе, их антипатии, противоречия, борьба не подходят к определению вашего поступка.
Речь Ледебура, сначала медленно раздумчивая, постепенно набирала силу, обретала убедительность и вскоре он уже приблизился к той неоспоримой истине, которой придерживались многие эмигранты старшего поколения, которой возразить было трудно и поэтому Марина молчала. Приняв ее молчание за согласие, Ледебур воодушевился.
– Целое поколение русских эмигрантов, – говорил он, – оказавшееся за пределами России в двадцатом году, мечтало и готовилось вернуться на Родину, освободив ее от коммунистов. Но вот час пробил. Фюрер вынужден был начать войну с Россией, чтобы уничтожить коммунистов, преградить коммунизму путь в Европу. Если хотите, войска фюрера сражаются за идеалы русской белой эмиграции, за возвращение ей потерянного в России в гражданскую войну. Они сражаются за ваше возвращение в собственное родовое поместье во Владимирской губернии. Многие эмигранты пошли с нашими победоносными войсками на фронт добывать общую победу. Их поступки мне понятны. Они логически вписываются в схему социальных отношений людей. Но ваш поступок… – Он недоуменно пожал плечами и в голосе его зазвучали нотки осуждения, – Вы, дочь бывшего русского дворянина, офицера флота, убили офицера армии, которая сражается в России за ваше счастье. Парадоксально. Алогично! – Он прошел по кабинету, будто унимая возмущение, и уже мягче, с тенью сочувствия и понимания, продолжил. – Вы допустили ужасную ошибку, фрау Марина. О ней вам не говорили в гестапо, в суде. Это решили сделать в министерстве пропаганды, и я доволен, что столь ответственную миссию доктор Геббельс возложил на меня. Я смею надеяться, что помогу вам все правильно понять, открыть глаза на вашу ошибку и попытаюсь ее исправить.
Ледебур подошел к столику, налил в бокал лимонаду, торопливо выпил, охлаждая возбуждение, и опустился в кресло, уверенный в успехе предстоящего дела.
Марина внимательно вслушивалась в его длинную речь. Она глубоко не разбиралась в теории национал социализма, философии Гитлера, на которые с особой силой нажимал Ледебур, но, подталкиваемая подсознательным чувством, начала понимать, что причину убийства Крюге он ищет не там, где надо, применяет не ту схему взаимоотношений людей. В эту схему вписывались такие, как Старцев, Новосельцев, Войцеховский и те, кто долгие годы мечтал вернуться в Россию на белом коне победителя и ради этого связал свою судьбу с фашистами. Ледебур не понимал, что у нее, как и у многих эмигрантов нового поколения, выросшего на чужбине, атрофировалось чувство собственности. Воспоминания отцов о былом богатстве, возня с «белой идеей», мечты вернуть старое не находили активной поддержки у молодежи, которой надо было думать о хлебе насущном на чужбине, а не предаваться несбыточным грезам. Марина и люди ее поколения воспринимали Россию такой, какой она была потому, что иной ее не знали и она оставалась для них единственной страной, которую они в тайне или открыто называли своей Родиной, испытывая к ней чувства сыновней и дочерней привязанности. Так при чем здесь сословия дедов и отцов, ее социальная принадлежность к бывшему дворянству, о чем толкует Ледебур? В чем она ошиблась, убив Крюге?
– Я ошиблась? – спросила она.
– Да.
– В чем моя ошибка?
– Видите ли, фрау Марина… Вам, дочери потомственных дворян, прежде, чем взяться за оружие, следовало хорошо подумать, чью сторону занять в историческом сражении великой Германии с большевистской Россией, – пояснил Ледебур поучительным тоном, – Весь исторический опыт свидетельствует о том, что люди вашего происхождения защищали и защищают интересы своей социальной группы. Если сказать откровенно, то ваше место на стороне войск фюрера, а не в лагере их противников, – заключил он и пристально смотрел на строгое, сосредоточенное лицо Марины, словно хотел узнать, сумел ли убедить ее.
А она не торопилась с ответом. Прищурив веки, неподвижным взглядом уставилась на сервированный столик с водой, бутербродами и о чем-то своем думала. Так продолжалось недолго.
– Дворянство… Положение… Господствующее меньшинство… – заговорила она тихо. – Все вы меряете на свой аршин, господин Ледебур. Не знаю, к какому сословию принадлежите вы' и какие права стали бы защищать. Но тут не в правах дело, а в значительно большем. – Она сделала глубокий выдох и уже громче, убежденно, явно подражая Ледебуру в выборе слов, продолжила, – Исторический опыт моей страны говорит о том, что войны уравнивали у нас богатых и бедных, счастливых и несчастливых, верующих и неверующих. Вместе они дрались не за свои сословные права, а за Родину, выполняя свой долг перед ней. И я его выполнила, господин Ледебур.
Лицо Ледебура постепенно покрывалось бледностью, которая приглушала и постепенно совсем стирала красные прожилки на щеках. Он не предполагал, что все его рассуждения о теории национал социализма, расе господ, о схеме социальных отношений людей, все его старания показать Марине ее место в этой схеме, убедить в ошибке с убийством Крюге натолкнутся на такое категорическое сопротивление и что она так элементарно просто отвергнет его научно обоснованные доказательства и все сведет к гражданскому долгу перед Отчизной. Неожиданно выбитый из намеченного плана беседы, Ледебур на какое-то время растерялся, но тут же взял себя в руки, возразил:
– Нет, вы не правы, фрау Марина. Я могу согласиться с вами лишь частично. Общая опасность бесспорно объединяла людей, но, смею утверждать, каждый из них дрался за свои интересы, за свои права. А достигнув победы, богатый не становился бедным. В изложенной мною схеме социальных отношений людей он занимал свое место и не спускался на одну-две ступени ниже.
Ледебур хотел продолжить свое возражение и стал набирать прежнюю уверенность в суждении, но Марина, постигнув ход его мыслей и поняв, что этот разговор ни к чему не приведет, холодно попросила:
– Господин Ледебур, не стоит утруждать себя дальше. Есть ли у вас ко мне еще вопросы?
Наступила продолжительная пауза, в ходе которой Ледебур пытался решить, в какой плоскости вести разговор дальше – задание Геббельса оставалось для него в силе и его следовало выполнять.
– Да, у меня есть к вам вопрос, – ответил он, пристально всматриваясь в лицо Марины, обретшее выражение решимости положить конец их разговору и встрече, – Надеюсь, вы меня поймете правильно.
– Постараюсь, – ответила Марина. Ледебур несколькими жадными глотками выпил из своего бокала лимонад, произнес холодным, деловым тоном:
– Так вот. Я попытался в политическом аспекте рассмотреть ваше преступление, убедительно доказать вам, что, убив майора Крюге, вы совершили ошибку. Вижу, вы меня не поняли или не захотели понять. Так вот, вам надлежит глубоко подумать, а лучше согласиться сейчас с предложением, которое по поручению доктора Геббельса я обязан высказать вам в самой категорической и решительной форме.
Отметив сосредоточенную серьезность Марины, с подчеркнутой значимостью сказал:
– Министерство пропаганды Германии и лично доктор Геббельс предлагают вам открыто, публично, осудить свое преступление – убийство майора Крюге. Если вы поступите благоразумно, то вам будет дарована жизнь. Это – официальное предложение, – уточнил он.
Марина подняла на Ледебура подернутые густой печалью, усталые глаза и смотрела на него с упреком, с застывшим в них вопросом: «Возможно ли это?» «Так вот цена, которую я должна уплатить, чтобы отменили смертный приговор?» – думала она, но на этот раз обещание сохранить жизнь не вызвало у нее тех чувств неожиданной радости, которые она испытала в начале беседы, когда Ледебур впервые сказал об этом же и посулил отдать особняк. Ее разум и сердце, свыкшиеся с мыслью о неотвратимости смерти, уже не способны были воспринимать обнадеживающие обещания, тем более такие, за которые надо платить немыслимую цену – самоосуждение, отречение от того, что составило осознанный финал жизни.
Ледебур смотрел на нее с заостренным выжиданием и, расценив молчание, как признак колебания, поспешил объяснить:
– Для этого ничего особенного делать не надо. Вам следует только подписать вот этот документ, – Он подошел к столу, где лежала папка для бумаг, извлек из нее отпечатанный на машинке лист, подал Марине, – Вот. Прочтите. Я вам советую подписать.
Преодолевая чувство внутреннего протеста, Марина все же протянула руку к листу бумаги – решила ознакомиться с текстом заявления, чтобы знать, чего от нее хотят, в какую западню подталкивают.
«Я, нижеподписавшаяся, Шафрова (в замужестве Марутаева) Марина, – читала она, – глубоко осознав совершенное мною убийство немецкого офицера майора Крюге, искренне раскаиваюсь, решительно осуждаю содеянное и прошу меня помиловать. Я сознаюсь, что длительное время находилась в любовной связи с Крюге и убила его из чувства ревности и мести, как только он оставил меня…»
На лице Марины появилось брезгливое выражение, словно в руках она держала не лист бумаги, а что-то мерзкое, которое во всем ее существе вызывало отвращение. Она не стала дальше читать заявление, а бросила его на столик.
– И вы хотите, – прозвучал, голос ее перехваченный волнением – чтобы я подписала это?
– Да, фрау, – ответил Ледебур преувеличенно спокойно, тем самым подчеркивая, что в этом нет ничего плохого.
– Но ведь это же… – задыхалась от негодования Марина. – Это же неправда! Я никогда не была любовницей Крюге! Это же неправда, – горячо возражала она.
– Лучше немного неправды, чем смерть. Не забывайте, что вас ждет, – напомнил Ледебур с суровостью в голосе. – Вы обречены, и я настоятельно советую вам быть благоразумной. Берите перо и подписывайте.
Жажда остаться кристально чистой перед мужем, семьей, родными и друзьями, наконец, перед русскими в Брюсселе и бельгийцами всколыхнула у Марины такой силы чувство возмущения к тем, кто придумал эту чудовищную ложь, к Ледебуру, смотревшему на нее со спокойствием и хладнокровием, что она единым порывом выдохнула гневно и непреклонно:
– Нет!
– Не торопитесь с ответом, – посоветовал Ледебур, смягчая голос и стараясь убедить ее поступить так, как решено в министерстве пропаганды, – Откровенно говоря, – сказал он, – в вашем положении не до соблюдения чести. Вам о жизни думать надо. И чем быстрее вы это поймете, тем лучше.
Он налил лимонаду в бокал, выпил и заговорил совершенно спокойно, с доброжелательным оттенком в голосе, будто и не слыхал решительного «Нет!» Марины.
– Кстати, о вашей чести. Вашему супругу мы расскажем о вызванной необходимостью небольшой лжи. Он у вас довольно умный человек и все поймет правильно. Что касается бельгийцев, то пусть это вас не волнует. С ними вы больше не встретитесь. Мы вывезем вашу семью в Кёльн, вот в этот особняк, и вы будете жить здесь в полной безопасности. Итак? – задержал он вопрос.
Марина не шелохнулась. В ее сознании поразительно быстро с предельной обнаженностью раскрывалась суть предложения Ледебура. – Ее усердно толкали к осуждению убийства Крюге не ради спасения жизни. Нет. Им надо было погасить тот факел борьбы, который она зажгла в Брюсселе, который звал бельгийцев к сопротивлению фашизму. Иначе не было смысла заниматься ею Ледебуру, министерству пропаганды, лично Геббельсу. О, она научилась понимать не только то, что говорили ей фашисты, но и то, что думали. Она взвела на Ледебура победный взгляд, ответила:
– Я поняла вас, господин Ледебур. Поймите и вы меня. Майора Крюге я убила во имя моей Родины и для того, чтобы поднять бельгийцев на борьбу с оккупантами. Другой цели у меня не было и быть не могло.
Она смотрела в лицо Ледебура с открытой дерзостью, говорила с непоколебимой твердостью, словно с мужественным бесстрашием бросала слова палачам перед тем, как взойти на эшафот.
– Таким образом, я убила вашего офицера по политическим соображениям и от этого не отступлюсь.
Ледебур почувствовал, как от вдохновленного взгляда обреченной на смерть Марины, от ее твердого сплава слов и готовности умереть, но не отступиться от своих убеждений, по спине у него холодной полосой поползли мурашки и он подумал, что сейчас нет, пожалуй, той силы, которая заставила бы ее изменить свое решение.
* * *
Еще в течение недели переодевали Марину в тюрьме в хорошую одежду и на машине привозили в особняк к Ледебуру. Семь дней длился неравный и напряженный поединок морально и физически измотанной узницы с самоуверенным и сильным противником из Министерства пропаганды. Ледебур не применял пыток, не причинял физической боли, но до изнеможения, ужасающего бессилия растравлял душевную боль, вынести которую было мучительно страшно. Когда же все методы убеждения и морального подавления были испытаны, когда Ледебур убедился в непоколебимой твердости Марины и пришел к выводу в бесполезности дальнейшей работы с нею, он доложил об этом Геббельсу, но тот не поверил. В его глазах, устремленных на Ледебура; появилась мрачная тень, губы, сжались в недовольную, узкую складку и после некоторого молчания разъялись для того, чтобы исторгнуть скрипуче, многозначительно:
– Я обещал фюреру!
Он поднялся из-за стола и, волоча ногу, направился к Ледебуру. Колючие зрачки его глаз недобро остановились на побледневшем подчиненном.
– Я обещал фюреру! – повторил он, вплотную подойдя к Ледебуру. Взялся за пуговку его пиджака и настойчиво подергивал ее, будто приводил в чувства окаменевшего доктора наук. Некоторое время Геббельс снизу вверх озлобленно смотрел на Ледебура, словно решая, какую меру наказания к нему предпринять и от холодно-уничтожающего взгляда рейхсминистра Ледебуру казалось, что в груди у него медленно замирало сердце, а в жилах останавливается кровь. Еще одна-две минуты, и Ледебур лишился бы сознания, но Геббельс оставил в покое пуговку его пиджака, молвил, едва разняв губы:
– Вон! Из министерства моего, вон!
Разъяренный взгляд рейхсминистра больно хлестнул по лицу Ледебура и тот, качнувшись, неуклюже повернулся и наугад, как слепой, побрел к выходу из длинного кабинета.
– Ленту! – потребовал Геббельс, как только за Ледебуром закрылась дверь. – Магнитофонную ленту с записью работы этого кретина!
Опершись локтями о стол и положив лицо на ладони рук, будто стиснув его в бессильной ярости, Геббельс придирчиво слушал записанные на пленку наиболее важные места работы Ледебура с Мариной.
«С психологической точки зрения меня, как ученого, интересует подлинная причина вашего преступления, – упивался Ледебур красноречием, – И в связи с этим я просил бы рассказать, что заставило вас взяться за оружие, пусть это будет простой кухонный нож. Что заставило вас убить майора Крюге?»
На магнитофонной ленте четко воспроизводилось каждое слово Ледебура, слышен был каждый звук и шорох в особняке, и Геббельсу показалось, что он даже слышит прерывистое дыхание Марины. За окном мягко прошуршали по асфальту колеса автомашины, где-то в доме негромко хлопнула дверь, а Марина все молчала. Томился в ожидании ее ответа Ледебур, напряженно замер Геббельс, чувствуя себя не свидетелем разговора, а его участником. Но вот послышался тяжелый вздох, и в кабинете раздался мягкий женский голос так явственно, что Геббельсу почудилось, будто Марина сидит с ним рядом и отвечает не Ледебуру, а ему, рейхсминистру Германии.
– Боюсь, что вам трудно будет понять меня.
– Нет, почему же? Я постараюсь, – пообещал Ледебур.
– Всю свою сознательную жизнь я провела за границей, в Бельгии, – говорила Марина неторопливо, из многих слов выбирая самые нужные, которые бы с абсолютной точностью отвечали ее мыслям, выражали то, что хотела сказать Ледебуру, – У русских эмигрантов в таких случаях принято говорить: «Бельгия стала для нас второй Родиной». Не верьте этому. Это неправда. У каждого человека есть только одна Родина – место где он родился. У русских людей привязанность к родному краю носит особый, болезненный характер. Без Родины мы не можем жить полноценно, спокойно, уверенно. Для меня Родиной была и остается Россия. Заменить ее в моем сердце Бельгия не смогла, как не смогла бы это сделать любая страна в мире. Бельгия для меня была доброй мачехой. И только. Когда же моя Родина оказалась в опасности, я бросилась ей на помощь – убила вашего офицера.
Геббельс убрал от лица ладони, опустил их на полированный стул и сидел остолбенело. Такого откровенного, безбоязненного ответа он не ожидал. А Марина продолжала свое откровение:
– Я слушала радиопередачи Москвы. Слушала обращение премьера Сталина к советскому народу. Он призывал советских людей подняться на борьбу с фашистами и я поняла, что моя Родина нуждается в помощи своих детей, где бы они не находились.
Я вам уже говорила и вновь повторю – я помогала Отчизне.
Шуршала на магнитофоне лента. После затянувшегося молчания Ледебур прокашлялся и чуть охрипшим голосом напомнил:
– Но у майора Крюге двое детей. Как же вы, женщина и мать, не подумали об этом?
– Дети? – спросила Марина сдавленным голосом, – Дети? Почему же ваши солдаты и офицеры, которые на моей Родине убивают и казнят русских людей, не думают о том, что у них, у русских, тоже есть дети? – Перевела дух и уже спокойнее, с оттенком осуждения в голосе, сказала: – Ваш суд приговорил меня к смертной казни – расстрелу. Он ведь тоже не подумал о моих детях, хотя видел их в зале суда. Почему, я вас спрашиваю?
Ледебур в ответ промычал что-то невнятное и, заканчивая разговор, предложил решительно:
– Министерство пропаганды в последний раз предлагает вам возможность сохранить жизнь и категорически требует публично осудить совершенное вами преступление. Это ваш последний шанс. Поймите – последний! Решайте сейчас. Через минуту будет поздно. Свою миссию я выполнил и заканчиваю работу с вами. Так решайте же, решайте!
Мысленно Геббельс одобрил напористость и категоричность Ледебура и застыл в ожидании ответа. Минуту, вторую Марина молчала, затем с поразительной четкостью, уверенно ответила:
– По радио я слыхала, что в России наши люди, когда их казнят фашисты, провозглашают: «Да здравствует Родина!» Я тоже скажу это перед смертью. Я – русская.
Лента в магнитофоне зашуршала и окончилась, а в тощей груди Геббельса полыхнула ярость. Разливаясь, она захватывала разум, овладевала всем его тщедушным, но мстительным существом. Побелевшие губы сомкнулись в бледно-синюю полоску, похожую на зарубцевавшуюся рану, и ни разъять их никакой силой. Распято лежавшие на полированном столе ладони сжались в кулаки и угрожающе застыли. Но сквозь эту полыхнувшую ярость со временем стал пробиваться трезвый рассудок, поворачивая его к спокойному осмысливанию ответов Марины на вопросы Ледебура. И чем больше он остывал, чем больше охватывал разумом эти ответы, воспроизводил интонации ее голоса, в которых ему чудилась неодолимая сила убежденности и решимости, тем четче и ярче в его воображении вырисовывался образ убежденной антифашистки с фанатической верой и любовью к России.
Геббельс тяжело вздохнул и, подумав о предстоящем докладе Гитлеру, почувствовал растерянность перед фюрером. Его острый и осторожный ум услужливо рисовал картину радости Гиммлера, подсказывая, сколько нелестного и осуждающего скажет о нем Гитлеру начальник гестапо. Что-то подобие страха сковало его тощее тело и он, выбиваясь из этого состояния, энергично стал искать убедительные оправдания своей неудачи, которые бы не уронили его в глазах Гитлера. В суровой задумчивости он вновь окунул лицо в ладони рук и застыл в оцепенении. Рейхсминистр пропаганды искал оправдания. Но вот он поднял голову, лицо его прояснилось, «Террористка фанатично любит Россию? – мелькнуло в его голове, – Фанатично?»
Озаренный внезапной мыслью, он резко поднялся из-за стола и, прихрамывая, засеменил по кабинету. «О, майн гот! Как же я об этом раньше не подумал? Она – есть фанатик, жаждущий крови! А фанатика убедить в чем-либо невозможно. Террористка – фанатик! Вот оправдание!» – ликовал Геббельс.
Оправдание было найдено и доложено Гитлеру. По его приказу дело Марины в срочном порядке пересмотрел политический трибунал. Он отменил ранее вынесенный приговор за мягкостью наказания и приговорил Марину к смертной казни на гильотине.
* * *
Последняя ночь перед казнью. Непостижимо медленно тянулось время, словно по крутой и бесконечной дороге поднималась в гору тяжело груженная крестьянская арба. Марина видела как-то картину – под палящим южным солнцем, навьюченные, до предела уставшие мулы едва переставляли ноги по узкой тропе, поднимаясь к вершине заснеженной горы, скрывавшейся в дали за облаками. Изнемогая от жары, низко опустив головы, плелись за ними обессиленные погонщики. Их черные от загара, обнаженные до пояса, тела блестели на солнце от пота, как вороненая сталь. Картина эта воспринималась в замедленном темпе, и Марине сейчас казалось, что и последние часы ее жизни, также уставшие, как измученный караван, вместе с нею через силу тянулись к роковой черте. Она вся была в прошлом потому, что будущего у нее уже не было. Но и это прошлое, много раз пережитое после заточения в тюрьму, теперь уже не волновало до душевной боли, не доводило до оцепенения своей невозвратимостью. Она перегорела и к роковой черте шла с мужественным спокойствием, сознанием неотвратимости судьбы и осмысленной необходимости. В своей недолгой жизни она собственноручно поставила точку, хорошо зная, что за этой точкой уже не сможет написать следующее слово. Разве только… Она встрепенулась. На ее усталом лице появилось озарение. Она решила написать последнее письмо детям.
Марина села за маленький тюремный столик, взяла в руки перо и задумалась, подбирая слова, но нужные не шли на ум. Казалось, чего проще написать письмо детям – не мудрствуй, не выдумывай, пиши проще, но именно эта-то простота и оказалась для нее трудно достижимой. Ей хотелось в кратком письме выразить сыновьям все свои материнские чувства, дать напутствие, сказать последнее «простите», но во взбудораженной голове трепетно метавшиеся мысли не находили слов для своего выражения на бумаге. Она начинала писать и тут же зачеркивала написанное потому, что это было не то, чего хотелось. Слезы застилали глаза и она откладывала в сторону перо, чтобы успокоиться, унять рвавшийся наружу крик души. Она и не заметила, сколько прошло времени до того, как после утомительного труда, наконец, удалось написать желаемое. Сложив лист бумаги вчетверо, она оставила его лежать на столе, а сама в изнеможении свалилась на койку.
Она выполнила свой последний материнский долг и лежала отрешенно, будто уже находилась в небытии. В таком состоянии и застал ее на рассвете пастор Герджес.
Громкий звон ключей в коридоре, скрежет открываемого замка вернули ее к тюремной действительности, напомнили о вплотную приблизившейся трагической кончине. Марина поднялась и села на край койки, ожидая, когда в камере появится священник.
– Здравствуй, дочь моя, – приветствовал ее Герджес.
– Здравствуйте, отец, – ответила спокойно Марина, подняв на него ясный, спокойный взгляд.
– Как себя чувствуешь, дочь моя? – поинтересовался Герджес. По лицу Марины скользнула едва заметная ироническая улыбка.
– В моем положении следует сказать: «Как перед смертью», – ответила она без тени смятения и волнения.
– Да, да, – торопливо согласился Герджес.
Он был хорошо осведомлен о самоотверженности и исключительной стойкости Марины и поэтому с определенным интересом шел к ней в камеру осуществить предсмертный акт – принять исповедь. Он хотел лично видеть ее, русскую женщину, о которой в Бельгии ходили легенды, которая не раз могла воспользоваться возможностью остаться в живых, но мужественно отвергала такие возможности, предпочитая смерть.
Герджес подошел к Марине ближе. Она хотела подняться с койки, но он положил ей на плечо руку, разрешая сидеть и смотрел на нее сверху пристально, изучающе, будто сравнивал с кем-то. Да, он действительно сравнивал ее с тем образом, который создал своим воображением по рассказам тюремного начальства и Ледебура. Но сравнение было не в пользу созданного им образа. На койке перед ним сидела простая женщина средних лет, среднего роста, с красивым открытым лицом, внимательными глазами, доверчиво устремленными на него. Он поразился ее спокойствию, едва заметной иронической улыбке да какой-то домашней уютности. Весь ее облик мало походил на облик преступницы, а иронический ответ свидетельствовал о величии духа даже перед смертью. Было в ней столько женственности, обаяния, что на какой-то миг Герджес усомнился в том, что она способна была совершить убийство. Хотя, впрочем, сомнение это тут же отбросил, сказал давно заученную, сотни раз в таких случаях повторяемую фразу:
– Бог милостив, дочь моя, и всемогущ.
Сказал и внезапно ощутил, как сердце при этом тоскливо сжалось. «Что бы это значило? – молниеносно подумал он, подавляя неожиданно возникшее чувство.
Исповедовать обреченных на смерть преступников для Герджеса, много лет прослужившего в тюрьме, было делом обычным, но в тоже время и далеко нелегким. Стоять у последнего шага обреченного, выслушивать его последние слова, просьбы и молитвы, быть свидетели раскрытия души человека перед кончиной и самому оставаться безучастным к человеческой трагедии, хранить ледяное спокойствие – таков удел священника на исповеди, но удел этот труден, а порой просто страшен. Всяких преступников повидал он на своем веку – и таких, которых без сожаления способен был сам отправить на казнь и таких, которые в его холодном сердце нет-нет да и вызывали чувство сочувствия. Исповедовать женщину, приговоренную к смертной казни на гильотине, ему пришлось впервые и он смотрел на Марину с интересом и состраданием. Священник понимал, что должен испытывать к ней чувство ненависти, так как все же перед ним сидела не просто преступница, а враг, к которому не должно быть сострадания, но в тоже время ее откровенная простота, какая-то детская беззащитность, как бы непонимание того, что должно с нею случиться через каких-то полчаса, действовали на Герджеса обезоруживающе, приводили в смятение.
– Судя по вашему визиту, святой отец, мой час наступил? – спросила Марина, не сводя с него доброго, спокойного взгляда, от которого на душе у Герджеса стало зыбко и неуютно.
– Да пошлет Господь силы тебе, дочь моя, – ответил он, некстати дрогнувшим голосом и, устыдясь этой дрожи, поспешил спрятать ее за громким кашлем.
– Я готова, – сказала Марина, поднимаясь с койки и выражая намерение пойти на казнь, но Герджес простер руку над ее головой.
– Сядь, дочь моя, – попросил он.
Марина села, на край койки опустился Герджес.
– У тебя еще есть немного времени для открытия души перед Богом. И я, слуга Господа на земле, обязан облегчить последний час твоей жизни.
– Облегчить последний час моей жизни? – спросила Марина и вновь на ее губах появилась ирония, – Благодарю вас за то, что вы пришли исполнить свой долг. Но я не боюсь смерти. Я ее ждала сорок пять дней. Исполнение приговора затягивали. Ведомство Геббельса склоняло меня покаяться перед Гитлером и публично осудить убийство офицеров, – Жесткая улыбка появилась на ее лице, – Напрасно старались. Напрасно тратили время.