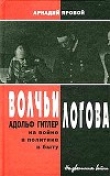Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Да, да, – произнес с особым, настоятельным утверждением Фолькенхаузен, – Их надо немедленно удалить из Брюсселя, из Бельгии.
– Что это даст?
– Прежде всего разрядит напряженную обстановку в городе, что весьма важно в данный момент.
– Но их все равно казнят, – напомнил Нагель, – Казнят.
– И пусть. Но сделают это потом. Позже. Когда на улицах Брюсселя не будет столько озлобленных бельгийцев.
«И вооруженных бельгийских офицеров», – подумал Нагель, постепенно склоняясь к тому, что Фолькенхаузен прав.
– А там, в Германии, можете делать с ними все, что захотите – казнить или миловать. Но сейчас надо спасать положение, – настойчиво развивал свою мысль генерал. – Я думаю, что это является главным и для меня, коменданта, и для вас, шефа гестапо бельгийской столицы. Надеюсь, вам небезразлично, что может произойти в Брюсселе, если вы здесь казните заложников.
Убежденная и аргументированная речь генерала сломила Нагеля.
– Да, конечно, небезразлично, – согласился он.
Воодушевленный этим согласием, Фолькенхаузен продолжал:
– Следует немедленно распространить по городу слух, «что заложники будут отправлены в Германию. Но для какой цели, можно не указывать. Пусть бельгийцы сами ломают головы над эти вопросом. Это охладит их пыл, подаст надежду, что казнь могут отменить, и протестовать сейчас нет смысла.
– Но тогда террористка может не явиться к нам, – усомнился в стройности, непогрешимости мысли генерала Нагель.
– Не думаю, – ответил Фолькенхаузен. – Надо знать, вернее, предполагать ее психологию. К явке к вам ее должно привести сознание вины перед заложниками. Но разве отправка в Германию на работу или на казнь мажет изменить ее положение? Ее вина перед заложниками и их семьями остается прежней и неминуемо приведет к нам, – Фолькенхаузен, довольный собой, вновь по-наполеоновски сложил руки на груди. – Не так ли, господин барон? Или у вас имеются другие соображения?
Нагель сдержанно улыбнулся гибкости ума Фолькенхаузена, проявившего завидную предусмотрительность.
– Я воспользуюсь вашим советом, господин генерал, – выразил он благодарность Фолькенхаузену. – Только доложу об этом в Берлин.
– Да, да, пожалуйста, – ответил польщенный Фолькенхаузен.
* * *
15 декабря 1941 года конспиративная квартира на авеню Ватерлоо для Киевица и Деклера стала штабом, из которого они руководили протестом бельгийцев против казни заложников.
Разложив на столе топографическую карту Брюсселя, Киевиц (в какой уж раз!) рассматривал расстановку боевых групп, прослеживал маршруты их отступления по городу после совершения убийств немецких офицеров. Его взгляд скользил по карте, обозначенным на ней улицам, паркам, каналам, и он мысленно представлял, как восемь боевых групп по два-три человека в каждой, будут отходить в места надежного укрытия, к поджидавшим их автомашинам.
Все было продумано, детально обсуждено с каждым участником операции, но Киевиц волновался, как волновался в первые часы боя с немцами за крепость Льеж. С началом войны он привык вести операцию с применением войск и боевой техники, имея дело с реальным противником, решать сложнейшие задачи современного боя, а вынужден был заниматься организацией террористических актов, чему никогда не обучался. И эта необученность, неопытность вызывали волнение, которое с приближением к назначенному часу все больше возрастало.
Совместно с Деклером они изучили возможные варианты действий Фолькенхаузена и Нагеля после того, как в Брюсселе прогремят выстрелы возмездия, предусмотрели необходимые меры безопасности и, кажется, имели право на спокойное ожидание начала событий, но спокойствия не наступало потому, что невозможно было заранее определить все те неожиданности, которые могут возникнуть в процессе операции. А они, несомненно, будут – в этом Киевиц был убежден.
Его размышления прервал звонок в прихожей. Он поднялся из-за стола, опустил руку в карман с пистолетом. Хотя квартира была конспиративной и о его пребывании здесь знал строго ограниченный круг лиц, все же, руководствуясь чувством осторожности, он приготовился к худшему. Минуту спустя звонок повторился, но уже с условными перерывами, длиннотами.
Киевиц открыл дверь, и в прихожую вошел Деклер, чем-то возбужденный, взволнованный.
– Что-то случилось? – спросил Киевиц, наблюдая за тем, как Деклер нервно снимал пальто, разматывал шарф.
– Нет, нет, – ответил поспешно Деклер. – Все идет хорошо, как мы и планировали. – Избегая настороженного взгляда Киевица, проследовал в гостиную, подошел к камину протянул руки к огню и, удовлетворенно потирая ими, не без гордости, доложил. – Коммунисты вывели на улицы города бельгийцев для демонстрации молчаливого протеста против казни заложников. Нагель и Фолькенхаузен должны понять, что дело имеют с народом! А это сила!
– Честное слово офицера, я никогда не думал, что вы, коммунисты, так тесно связаны с народом Бельгии, – сказал Киевиц, и Деклер, обнаружив в его голосе чувство сдержанного восхищения, ответил уверенно:
– Мы поведем народ Бельгии на открытую борьбу с оккупантами Это наша цель.
– Дай-то Бог, – неопределенно произнес Киевиц и тут же поинтересовался. – Как боевые группы? Немцы их не обнаружили?
– Я еще раз проверил их. Все наши люди настроены решительно расправиться с бошами, показать бельгийцам, что у них есть надежные защитники. Но Фолькенхаузен и Нагель тоже не дремлют, и это дает нам право полагать, что наш ультиматум они восприняли серьезно и с нами вынуждены считаться.
– Есть какие-то сведения на этот счет?
– Есть интересные наблюдения. Наши боевые группы отмечают повышенное внимание немцев к ресторанам, вокзалам, паркам, к военной комендатуре, где обычно бывает много офицеров. У этих мест выставлены дополнительные полицейские посты, усилены офицерские патрули, явно рыскают детективы. Они задерживают и обыскивают всех, кто вызывает подозрение. В городе не видно такого большого количества немцев, как это было раньше. Если они появляются, то группами.
– Значит, вызов противник принял, – оживился Киевиц, – Отлично, дорогой Шарль. Отлично. Правда, сил у нас маловато, но это ведь только первый шаг организованного сопротивления, начало боев, которые ожидают бельгийцев впереди. Я счастлив тем, что поручено мне провести эту операцию, что я буду первым командиром, которому доверено открыть боевую страницу в истории сопротивления фашизму в Бельгии.
Он прошел по комнате, словно хотел успокоиться от переизбытка чувств восторженности, которые владели им, видимо, давно, но которые ему некому или некогда было высказать, счастливо посмотрел на Деклера и продолжил все с той же взволнованностью:
– Знаете, Шарль, я искренне преклоняюсь перед мадам Мариной и до сих пор не могу понять эту простую русскую женщину. Разве у нее больше патриотических чувств к Бельгии, чем у нас, бельгийцев? Ведь по условиям капитуляции бельгийским офицерам сохранено личное оружие – пистолеты. Но никто из нас до сих пор не произвел выстрел и не убил фашиста. А эта русская заколола фашиста ножом, и показала пример, которому мы, бельгийцы, теперь должны следовать. Поразительно, не правда ли? В Бельгии начало вооруженному сопротивлению положила русская женщина!
Деклер впервые услыхал такое откровение Киевица и смотрел на него с восхищением и каким-то затаенным сожалением. Уловив в его взгляде что-то неясное, Киевиц погасил воодушевленный тон, обеспокоенно спросил:
– Что случилось, Шарль?
Деклер отвел в сторону взгляд. Пришел он с двумя недобрыми известиями и не решался, о каком из них доложить первым.
– Говори, Шарль, – потребовал Киевиц, – Не щади меня, даже если причинить боль.
Деклер достал из внутреннего кармана пиджака газету, развернул ее и передал Киевицу.
– Вот, смотри, Анри.
На ее первой полосе была помещена фотокарточка Киевица в форме полковника бельгийской армии.
– Немцы дорого оценили твою голову. Двадцать пять тысяч оккупационных марок обещают.
Киевиц прочел под фотокарточкой текст и лицо его недовольно вытянулось, покрылось красными пятнами. Не отрывая взгляда от газеты, он возмущенно проговорил:
– Фотокарточка из моего офицерского досье, – Помолчал минуту, продолжил презрительным тоном. – Значит, король Леопольд все документы министерства обороны, в том числе и досье офицеров нашей армии, передал немцам. Какое предательство, какое предательство, – заключил он мрачно и, покачав сокрушенно головой, окаменело застыл, уставив на газету ничего невидящий взгляд.
Деклер не нарушал его раздумье, понимая, как нелегко ему переоценивать свое отношение к королю, которому долгие годы бесконечно верил. Годами воспитанная преданность Леопольду хотя и была значительно поколеблена в ночь капитуляции, все же оставила в сознании и сердце Киевица какую-то надежду на порядочность короля. Но пришло время и этой надежде рухнуть. Он поднял на Деклера горечью налитый взгляд, сказал, будто оправдываясь и прося прощение за затянувшееся молчание:
– С королем теперь все, Шарль. Все. Какое, однако, предательство. А? – спросил, ища поддержку.
– Видишь ли, Анри, – ответил Деклер, – мы с вами по-разному воспитаны по отношению к королю и поэтому мне легче сделать вывод о нем. Король меня давно не волнует, – И, переменив тему разговора, потому, что не считал нужным ее продолжать, сказал озабоченно, – Я не о том, Анри, не о том.
– О чем же еще? – спросил Киевиц, ощущая, как от озабоченного голоса Деклера у него недобро сжалось сердце. – Вы чем-то взволнованы? Я это заметил, как только вы оказались в прихожей. Что случилось, Шарль? – уже по-командирски строго спросил Киевиц.
Будто давая ему подготовиться к восприятию страшной вести, после небольшой паузы Деклер ответил поблекшим голосом:
– Я выполнил ваше поручение, Анри.
Предчувствие чего-то неотвратимого, ужасного заставило Киевица внутренне сжаться, выдохнуть кратко, напряженно:
– И что?
Деклер посмотрел на него с искренним сочувствием, и, чтобы смягчить впечатление от того, что должен был сейчас сказать, начал издалека:
– Как мы и договорились, я отправился к вам на квартиру, чтобы встретиться с вашей женой. Но уже на подходе к дому понял, что он находится под наблюдением немцев.
– С женой что-то случилось? – нетерпеливо прервал его Киевиц и, не спуская с него испытывающего взгляда, повторил вопрос. – Что произошло с моей женой? Вы узнали? Да?
Деклер ответил, как мог мягче, участливее:
– Мужайтесь, Анри. Найдите в себе силы. Ваша супруга, мадам Мадлен, сегодня ночью арестована гестапо.
Киевицу показалось, что под ним дрогнула земля. Остановив на Деклере болезненно-кричащий взгляд, он прошептал плохо послушными губами:
– Не может быть! Вы в этом уверены, Шарль?
– К сожалению, да, – прозвучал печальный ответ Деклера.
Киевиц ощутил такую тупую боль в груди, такую невероятную тяжесть, в одно мгновение заполнившую весь его организм, что неуверенным шагом тяжело больного человека подошел к стулу и обессиленно опустился на него. Все в нем онемело, обезмолвилось.
Долгая и счастливая жизнь с любимой Мадлен, давшей ему двух сыновей, которые по семейной традиции стали офицерами и героически погибли в боях с немцами, медленно разворачивалась в его сознании, причиняя мученические страдания и он сдержанно застонал, как стонут воины, мужественно переносящие боль смертельных ран.
Деклер не мог смотреть на страдания Киевица, отошел к окну, но ничего не видел – ни стремительно проносившиеся к центру города немецкие автомашины с эсэсовцами, ни торопившихся в том же направлении бельгийцев с озабоченными печальными лицами. Весь мир с его заботами, печалями и радостями, казалось, отгородился от него какой-то невидимой, непроницаемой стеной, через которую ничего не могло пробиться в его сознание, кроме трагедии семьи Киевица. Даже жизнь заложников и операция по уничтожению немецких офицеров как бы отошли на задний план.
Думая о непостижимости человеческой судьбы, неожиданно и беспощадно обрушившую на Киевица жесточайшее испытание, Деклер смотрел на моментально сникшего и заметно постаревшего своего друга, от которого будто отхлынула жизнь, и думал: «Какой же силой воли должен он обладать, чтобы подавить в себе адскую боль сердца по любимой жене, семье и приступить к руководству боевыми группами?» Он понимал всю глубину трагедии Киевица, и оттого, что не имел возможности чем-то помочь, чувствовал себя как бы виноватым перед ним.
Молчание было тягостным и долгим. Казалось, ничто не могло помешать им вместе до конца пережить постигшее Киевица горе. Но это только казалось.
Настойчивый звонок телефона первым вывел из оцепенения Деклера. Он поднял трубку, услыхал взволнованный голос Мишеля.
– Шарль, вы меня слышите?
– Да, конечно.
– Немцы отменили казнь заложников.
– Что?
– Слушайте радио. Об этом они передают каждые пятнадцать минут. Казнь отменили. Заложников отправляют в Германию, – торопился Мишель, – Как нам быть?
– Позвони несколько позже, – ответил Деклер и положил трубку.
– Кто звонил? – глухо, болезненно-измученным голосом спросил Киевиц, с трудом освобождаясь от мучительной боли. – Какие новости, Шарль?
Лицо его несколько просветлело, но еще не потеряло прежней суровости, в темных глазах не угасла боль, и они остановились на Деклере повелительно и строго.
– Мишель доложил, что немцы отменили казнь заложников.
– Отменили казнь? – недоуменно спросил Киевиц и смотрел на Деклера недоверчиво, будто подозревая в чем-то.
– Да, отменили.
– Что это значит? Противник отступает? Капитулирует?
Деклер неопределенно пожал плечами, не находя ответа. Глупо, конечно, было полагать, что Фолькенхаузен и Нагель капитулировали. Они были слишком опытными, сильными и коварными противниками, чтобы при первом же ультимативном требовании выбросить белый флаг. И все же отмена казни заложников, отправка их в Германию в конечном итоге выглядели уступкой, компромиссом.
– Что ты об этом думаешь? – спросил Киевиц с нервной нетерпеливостью.
– Думаю, здесь можно сделать два вывода, – пытался Деклер объективно оценить действия Фолькенхаузена и Нагеля, постигнуть суть их решения. – Первое – противник капитулирует и заменяет казнь заложников их отправкой на работы в Германию. Второе – вынужденный маневр.
– В чем его смысл?
– Фолькенхаузен и Нагель боятся открытого выступления брюссельцев против казни заложников и, чтобы сбить накал протеста, решили отправить пленных бельгийцев в Германию и там их уничтожить. Иных выводов сделать трудно.
В рассуждении Деклера Киевиц обнаружил убедительную логичность и поэтому спорить или высказывать иное мнение не стал. Спросил:
– Как быть с боевыми группами?
Деклер помедлил с ответом.
– Их надо снять, – сказал он, – Операцию отложить.
Киевиц почувствовал, как где-то внутри у него зарождалась малярийная дрожь, которая набирала силу, постепенно овладевала всем его существом.
– Нет! – простонал он, – Нет! Возмездие за заложников, за мою Мадлен должно наступить! Без этого я не уйду из Брюсселя.
Он тяжело поднялся со стула и медленными, отяжелевшими шагами подошел к столику, где стоял графин с водой. Дрожащими руками налил воды в стакан, и до слуха Деклера дошла мелкая дробь его зубов о стекло стакана. Жадно выпив, он продолжал оставаться у столика, пытаясь овладеть собой.
– И все же операцию придется отложить, – мягко настаивал Деклер голосом, в котором слышался тон увещевания и дружеского сочувствия.
Киевиц потемнел лицом, в его ссуженных щелках глаз зажегся пугающий своей яростью огонь. Весь он был во власти гнева, жажды мести, и поэтому не мог воспринять ни тона разговора, ни слов Деклера.
– Надо драться! – кратко, с болезненным упрямством отрезал он, как о бесповоротно решенном деле.
Деклер вновь помолчал, предпочитая длительную паузу немедленному ответу, который мог больше навредить, чем помочь решению вопроса.
– Прежде всего надо успокоиться, – осторожно посоветовал он. – Я хорошо понимаю ваши чувства, Анри, и полностью разделяю их, но в этой ситуации надо быть благоразумным.
– Благоразумным? – вспылил Киевиц, – Вы предлагаете быть благоразумным, когда немцы уничтожают мою Родину, когда гестапо подвергает нечеловеческим пыткам мою Мадлен, когда война унесла из жизни двух моих сыновей? Вы предлагаете быть благоразумным мне? – сделал он упор на последнем слове «мне» и остановил ошалелый взгляд на Деклере.
– Дорогой мой друг, – заговорил Деклер как мог спокойнее, неторопливо, с трудом подбирая слова, которые бы правильно восприняло болезненно-взвинченное сознание Киевица, – Дорогой мой, Анри, – повторил он, – Благоразумие – удел сильных. Вы – сильный человек и, я надеюсь, сами можете глубоко разобраться в сложившейся ситуации. Операция возмездия нужна была при казни заложников. Фолькенхаузен и Нагель отправляют их в Германию и тем самым лишают нас права уничтожить шестьдесят немецких офицеров. Если мы это сделаем, как того хотите вы, то немцы обязательно и немедленно казнят заложников.
Киевиц медленно прошелся по кабинету, и Деклер видел, как боролся он со своим, чувством, как унимал клокотавший гнев.
– Но ведь вы сами сделали вывод, что заложников казнят в Германии, – все еще не сдавался он, но в его голосе уже не чувствовалось той неукротимой ярости, которая была ранее.
– В таком случае мы тогда и проведем нашу операцию возмездия, – подвел черту под разговором Деклер. – А сейчас давайте команду снять боевые группы, – Посмотрел на часы, – До начала занятий с королевой осталось два часа. Я успею зайти к Марине и попросить не являться к немцам.
Но Деклер не застал Марину дома. Она была в городе.
* * *
Весть об отправке заложников в Германию подобно молнии разнеслась по Брюсселю. И, несмотря на то, что никто не мог с уверенностью сказать, будет ли сохранена жизнь обреченным, все же сам факт отмены заранее назначенной казни в какой-то мере успокаивающе подействовал на брюссельцев, показался уступкой оккупационных властей. Расчет Фолькенхаузена достиг цели – людей на улицах города заметно поубавилось. Но среди тех, кто оставался на тротуарах была и Марина.
Повязанная темной шалью, со скорбным лицом, траурными тенями под глазами, она была похожа на женщину, убитую горем, и не удивлялась, когда ее спрашивали: «Ваш муж тоже заложник?» Она задыхалась от душевной боли, сознания виновности в том, что до сих пор не явилась в комендатуру. Отчетливое понимание того, что развязка истории с убийством Крюге и заложниками находится у нее в руках, толкало ее немедленно положить всему этому конец. Но все же отдаленная надежда на освобождение заложников, а больше всего категорическое требование Деклера до последней минуты не являться к фашистам удерживали ее от этого шага. Она часто поглядывала на часы, но, пожалуй, еще никогда время для нее не тянулось так мучительно долго.
Известие об отправке заложников в Германию застало ее врасплох и показалось тем обнадеживающим шагом, который неожиданно менял ситуацию. Она видела, как просветлели лица бельгийцев, как оживленно стали они делиться своими соображениями. «Комендант сдался», «Это – компромисс», «Гестаповцы струсили» – раздавались довольные голоса, она поначалу поддалась этому настроению, но вот послышалось мнение других: «Боятся казнить здесь. В Германии расстреляют». «Фашистов бить надо, – негромко произнес стоящий рядом высокий, длиннолицый бельгиец, с рыжими кудрявыми волосами, выбивавшимися из-под поношенной шляпы. – Их наши женщины бьют, а мы…» Он досадливо махнул рукой. Марина благодарно посмотрела на его обветренное, словно морскими ветрами выдубленное лицо с глубокими впадинами на щеках и ощутила, как от его слов сердце переполнилось чувством благодарности и признательности. Впервые за семь дней после убийства Крюге она услыхала открыто и так эмоционально высказанное одобрение своего поступка простыми людьми, и это оказалось для нее настолько приятным, что она с трудом справилась с желанием тут же сказать: «Это я убила Крюге».
Это не было тщеславием, стремлением обратить на себя внимание людей и предстать перед ними героем. Нет. Такое желание никогда не заботило ее и было чуждо потому, что убийство Крюге она совершила не ради личной славы. Это было чувство какой-то удовлетворенности собой, благодарности нескладному, тощему бельгийцу за то, что он правильно оценил поступок неизвестной ему женщины наконец, это было чувство уверенности в том, что бельгийцы последуют ее примеру. Ею еще владело возбуждение, когда она отошла в сторону, чтобы успокоиться, вернуть мысли в прежнее русло – к судьбе заложников, к своей судьбе.
Было 16 часов. Народ потянулся к тюрьме Сент-Жиль, к улицам, по которым фашисты должны были вести заложников на Южный вокзал для отправки в Германию, и Марина поняла, что ее час пробил. Угон заложников в Германию ничего не изменил. Она должна была идти в комендатуру.
Она посмотрела на часы. Еще было время пойти домой проститься с детьми и мужем.
Проведя тяжелую ночь, Марина не могла оставаться дома, заниматься домашними делами, прислушиваться к своему внутреннему голосу, ощущая себя полностью во власти времени назначенной казни. Она ушла из дому на улицы Брюсселя, полагая, что там будет легче, но вскоре убедилась, что уйти от самой себя, от тех событий, которыми жила бельгийская столица не сможет потому, что сама была главной частицей этих событий.
Домой она пришла встревоженная. Марутаев обрадованно встретил ее в прихожей, помог снять пальто, шляпку и впервые увидел в ее волосах седые пряди. Поседеть за несколько часов после того, как она ушла в город? Он не поверил в такую возможность, хотел спросить, что произошло, но не успел.
К Марине подбежал шестилетний Никита. И оттого, как она взяла в руки его вихрастую головку, как осыпала поцелуями, Марутаев понял, что случилось что-то страшное. Она не просто смотрела и целовала сына, а словно прощалась с ним. Оставив Никиту, подошла к кроватке, где спал трехлетний Вадим, осторожно, как это умеют делать только матери, откинула край одеяльца, положила ладонь ему на грудку и никого не видела, ничего не слышала, лишь ощущала как под ее ладонью билось сердце сына, значит, ее сердце, продолжение ее жизни. Марутаев, подошел к ней, осторожно взял за руку и она вздрогнула, будто возвращаясь к действительности из другого мира, во власти которого находилась. Так и стояла она у кроватки сына, не находя сил говорить. Наконец, накрыла Вадима одеяльцем, повернулась к Марутаеву, и смотрела на него продолжительным, прощальным взглядом. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, бисерные капли пота выступили на лбу, но она не замечала их, сказала полушепотом потому, что сказать громко не смогла.
– Это я убила.
Марутаев поднял недоуменно брови и, поддаваясь ее состоянию, также полушепотом спросил:
– Ты убила? Кого?
– Майора Крюге, – ответила Марина в полный голос и смотрела на ошеломленного Марутаева, словно просила поверить.
И прежде, чем до Марутаева дошло значение сказанного ею, прежде, чем он смог представить ее в роли террористки, которую всю неделю разыскивало гестапо, вокруг которой в Брюсселе начали складываться легенды, она посмотрела на часы, предупредила:
– Через час истекает срок моей явки в военную комендатуру.
– Но… – хотел было что-то сказать Марутаев. Онемевшие губы не слушались его.
– Если я не пойду, – Марина отвела взгляд от его болезненно искривленного лица, – то фашисты отправят заложников в Германию и там их казнят. Я должна идти. Долг меня обязывает.
– Это… Это… – задыхался потрясенный Марутаев.
Он хотел запретить ей идти в комендатуру, хотел выразить возмущение тем, что до сих пор ничего не знал об убийстве Крюге. В его голове суматошно возникали одна другой весомее мысли о том, чтобы Марина оставалась дома потому, что она была нужна семье, наконец, ему.
– Это невозможно. Это же немыслимо, – протестующе начал он, но Марина мученически простонала.
– Нет, нет. Ни слова больше. Нет…
И посмотрела на него так, что он понял – все ею решено твердо, бесповоротно, и ощутил, как сердце его от этого словно оборвалось, а в груди образовалась холодная, промозглая пустота, которая привела его в лихорадочное состояние. Схватив Марину за плечи, он исторг из груди сдавленное отчаянием:
– Не пущу!
Ему почудилось, что кто-то сильный и страшный вырывает из его рук жену, вырывает навсегда и он, бьющийся в лихорадочной тряске, бессилен удержать и защитить ее.
Марина прижалась к нему, охватила шею теплыми руками, посмотрела в лицо и последним поцелуем припала к его губам. Когда оторвалась от них, прошептала голосом, который на всю жизнь остался в сердце Марутаева.
– Не забывайте меня. Помните обо мне, Юра.
Она высвободилась из его рук и ушла из квартиры, отчаянно сопротивляясь желанию повернуться и еще раз окинуть взором свое гнездо, любовно созданное и украшенное ее руками.
Она бежала по улицам Брюсселя, как в день нападения Германии на Советский Союз бежала в церковь с той лишь разницей, что тогда торопилась узнать правду о трагедии Родины, а сейчас в жертву ей несла свою жизнь. И это чувство жертвоприношения наполняло ее гордостью за самое себя, за сопричастность к судьбе России за свою русскость, с особой силой пробудившиеся в ней. Для тех, кто с напряженным вниманием следил за развитием истории с убийством Крюге, явка Марины к немцам была свидетельством ее гражданственности, но для нее это был наивысший взлет духа, осознанный шаг навстречу смерти во имя России. Но вот она достигла цели – вышла на улицу, тротуары которой были заполнены притихшим народом, и остановилась перевести дух, осмотреться. По проезжей части улицы под конвоем офицеров и солдат СС медленно приближалась колонна заложников. Марина впервые увидела людей с печатью обреченности на бледных, небритых лицах, неизбывной тоской в печальных глазах. Во всем облике заложников была какая-то рабская покорность судьбе. Картина безысходности дополнялась сдавленными рыданиями женщин, стоявших на тротуарах, шепотом произносивших молитвы о спасении невинных. При виде всего этого Марина решила: «Настало время. Пора».
Она опустила руку в сумочку и с удивлением отметила, что ладонь привычно, словно бы специально тренированно, легла на рукоятку кухонного ножа, и вся она, до этого момента взволнованная беспокойством за судьбу заложников и быстрой ходьбой, ощутила себя сосредоточенно нацеленной на выполнение того, что задумала ранее.
Из дому она вышла и торопливо бежала по улицам Брюсселя не для того, чтобы явиться с повинной в военную комендатуру и сдаться на милость врага, а для того, чтобы продолжить свой бой с фашистами, который начала 8 декабря 1941 года на площади Порт де Намюр. Принимая сводки советского информационного бюро, она с жадностью ловила и впитывала каждое сообщение о мужестве советских воинов и поражалась теми, которые в безвыходном положении дрались до последнего патрона, до последнего дыхания, стремясь подороже продать свою жизнь. В часы раздумий над такими подвигами она примеряла себя к ним, спрашивая свою совесть, смогла бы поступить также? И сомневалась в такой способности. Ей казалось, что для этого надо обладать какими-то исключительными качествами, быть настоящим патриотом Родины. А кто она? Простая женщина – эмигрантка. Разве ее любовь к отчизне можно сравнить с любовью тех, кто родился и вырос в России, кто сыновние и дочерние чувства к ней впитал с молоком матери? Воспитанная за рубежом, в совершенно иной, часто враждебной по отношению к Советскому Союзу, среде, она полагала, что самой судьбой лишена многого, в том числе и права стать рядом с защитниками своего Отечества. Она спорила сама с собой, с собственной совестью, сомнениями и в этом споре исподволь, медленно и в тоже время настойчиво пробивалась и росла у нее вера в себя, внутренняя убежденность в том, что она поступает правильно, крепло сознание, что простая дочь России, волею судьбы оказавшаяся в Бельгии, нужна своему народу. Оттого-то, когда потребовалось, Марина нашла в себе силы убить Крюге, как нашла их теперь, чтобы решиться на убийство второго офицера. Она хорошо знала, что преднамеренно шла на смерть и, подобно тому, как на фронте в таких случаях поступали советские воины, хотела, чтобы фашисты дороже заплатили за ее жизнь.
Осторожно растолкав собравшихся, она протиснулась вперед, к краю тротуара. Изучающим взглядом окинула приближавшуюся колонну заложников, ее охрану, выбрала офицера, ближе других шедшего к тротуару, и не спускала с него цепкого взгляда.
Вскоре она поняла, что офицер больше наблюдал за порядком в колонне заложников, чем за толпой людей, растянувшейся по обеим сторонам улицы, мысленно она молила Бога, чтобы сравнявшись с нею, офицер также смотрел на обреченных и дал ей возможность в считанные доли секунды одолеть те четыре шага, которые будут разделять их. Познав и пережив страх и волнение первого убийства, на этот раз она чувствовала себя внутренне собранной, хладнокровно и расчетливо-поджидающей свою жертву.
С приближением процессии смолк гул голосов людей на тротуаре, и Марине показалось, что над всей улицей повисла похоронная, тягучая тишина, в которой с траурной отчетливостью раздавались усталые шаги заложников, двигавшихся к последней черте своей жизни. Мужчины на тротуарах сняли шляпы и низко склонили головы, словно просили у обреченных прощения за то, что ничем не могли помочь им. В переднем ряду многие женщины опустились на колени.
Опережая процессию, вдоль тротуаров шли родственники заложников – мужчины, женщины, старики и дети. Они не плакали, не кричали в отчаянии, как это часто бывает в таких случаях, а, уставившись на несчастных глазами, полными страха и боли, либо скорбно молчали, либо шептали молитвы, обращая взоры в холодное зимнее небо, к Богу, который был бессилен помочь им.
Наблюдая эту драматическую картину, Марина с обнаженной остротой второй раз за неделю после убийства Крюге почувствовала свою вину перед этими людьми. И хотя ощущение виновности столкнулось в ее сознании с недовольством тем, что еще никто из бельгийцев не последовал ее примеру, что даже сейчас толпа на тротуарах покорно склонила головы перед фашистами и не бросается на конвой, чтобы освободить заложников, все же она понимала, что теперь не время для горьких обид и справедливых упреков, что еще придет час, когда под ногами фашистов будет гореть бельгийская земля. К тому же она находила утешение в том, что вышла на улицы Брюсселя не только для того, чтобы убить второго фашиста, но и для того, чтобы этим примером еще раз напомнить бельгийцам о их долге перед королем, государством, наконец, чтобы свершить возмездие над фашистами за свою Родину.