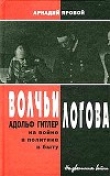Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
«Господин Гитлер, положение королевы Бельгии обязывает меня выступить в защиту моей подданной Шафровой-Марутаевой Марины, арестованной имперской службой безопасности пятнадцатого декабря тысяча девятьсот сорок первого года в Брюсселе. Я понимаю, что ее действия расцениваются, как преступление, подлежащее наказанию по законам военного времени».
Марина вслушивалась в бесстрастный тон голоса судьи, в содержание послания и ощущала, как ее охватывает чувство благодарности к королеве. Оторванная от мира, заточенная в камеру-одиночку тюрьмы Сент-Жиль, Марина могла лишь предполагать, какое значение обрело в Бельгии совершенное ею убийство двух офицеров. Послание королевы Елизаветы Гитлеру сказало ей так непостижимо много, что впервые за все время суда на лице появилась сдержанная довольная улыбка. Она беспредельно верила, что ее пример зажжет сердца многих бельгийцев и русских людей, и что самопожертвование, на которое она решилась, не останется бесследным в Бельгии.
«Но, господин Гитлер, – читал судья, – я позволю себе обратить ваше внимание на то, что действие совершала женщина, мать двух малолетних детей. Это дает мне право, как женщине, просить Вас о снисхождении к обвиняемой. Из истории войн я знаю примеры, когда победители были великодушными к побежденным. Я прошу вас быть великодушным к Марине Марутаевой, освободить ее из-под стражи и, смею уверить, народ Бельгии будет благодарен вам. Королева бельгийцев Елизавета».
Судья положил документ на стол, посмотрел на взволнованную Марину и, несколько растягивая слова, будто старательно вкладывая их в ее сознание, чтобы она поняла значение вопроса, спросил:
– Подсудимая, если суд найдет возможным учесть просьбу королевы бельгийцев Елизаветы и освободит вас, что вы будете делать?
В зале вначале раздался приглушенный шум недоумения, но тут же стих, и взоры всех присутствующих обратились к Марине. Судья снял пенсне, положил его рядом с посланием королевы и требовательно смотрел на нее. Он последний раз бросил ей спасательный круг, и все теперь зависело от нее – ухватится она за этот круг и спасет себе жизнь или отвернется и пойдет ко дну. Что выберет подсудимая?
Прокурор всем корпусом подался вперед. Казалось, что вытянулось и навалилось на стол не только его тощее длинное тело, но также вытянулось и стало поразительно длинном лицо, на котором из-под крутых надбровий смотрели на Марину лихорадочно блестевшие глаза. Ему думалось, что кульминация суда наступила именно сейчас, когда перед Мариной открылась возможность получить помилование Гитлера. Это был тот самый момент, когда в предвкушении свободы у многих самых упрямых и стойких людей ломались и крушились характеры, казавшиеся ранее железными. Какую же сторону своего характера покажет подсудимая? Что предпочтет – примет помилование или смерть?
Для Марины вопрос был таким неожиданным, что она недоуменно смотрела на судью – возможно ли это? Но лицо судьи ничего не выражало, кроме устремленного на нее требовательного взгляда. Тогда она опустила глаза, задумалась, пытаясь разгадать, какой смысл заложен в этом вопросе? Ей обещают помилование, свободу. Так что же ответить? Сказать, что займется домом, семьей, детьми? Но это значит молчаливо осудить убийство Крюге и офицера конвоя, значит вызвать осуждение у бельгийцев? Как объяснишь им свое освобождение? Она не замечала, что поднялась до высот глубокого осмысливания действий противников и своих поступков, что в ее образе мышления, осознанной ответственности перед народом угадывались черты политической зрелости человека, способного в водовороте событий выбирать надежный и правильный путь, чтобы не оказаться на стезе предательства. Своими размышлениями она как бы подбиралась к изначальной сути вопроса, открывала его истинный смысл, замаскированный оглашением послания королевы Елизаветы Гитлеру. И в ходе этого короткого размышления она приходила к убеждению, что суду крайне нужен ее отказ от борьбы с фашизмом. В этом было главное.
Марина подняла голову, посмотрела на обращенные к ней лица немцев, на замерших в выжидательной враждебности судью, прокурора. В зале царило наэлектризованное молчание. Все ожидали той искры, которая в одно мгновение взорвет эту накаленную тишину. И Марина метнула в нее воспламеняющую искру звонко и мужественно:
– Я буду убивать фашистов! – произнесла она твердо, убежденно и потрясающе бесстрашно.
Первое мгновение никто ей не поверил и какое-то время в зале стояла звенящая тишина. Будто ничего не поняв, недоуменно смотрел на нее судья. Она отказывается от спасательного круга, который ей брошен последний раз? Что-то вроде изумления застыло на его круглом, покрасневшем лице.
Отшатнувшись, демонстративно резко выпрямился в кресле прокурор. Оставшиеся на столе ладони его рук медленно сжались в кулаки. Нижняя челюсть намертво захлопнула рот, сцепив толстые губы в злой ярости. Звезда его надежды разоблачить Марину, выйти на движение Сопротивления и пролить свет на таинственные убийства офицеров в Брюсселе закатилась безвозвратно.
Ошеломленно застыли в зале суда немцы. Послание королевы Елизаветы о помиловании подсудимой, неожиданный вопрос судьи, суливший ей освобождение, так настроили на покаянный ответ Марины, что ее заявление «Буду убивать фашистов!» сначала как бы застряло в их односторонне сориентированном сознании, а затем с некоторым замедлением начало пробивало путь к полному пониманию происходящего. И по мере того, как этот ответ осмысливался, как обнаруживался в нем дерзостный вызов, шум в зале нарастал, набирая силу, превращаясь из отдаленного ропота до ураганного шквала. «Смерть! Казнь! Расстрел!» – скандировали фашисты. Многие вскочили со своих мест и, надрывая глотки, требовали Марининой смерти. Фашизм неистовствовал. Фашизм негодовал. Он жаждал крови. Однако Марину уже не смущал звериный рев, захлестнувший зал. С поразительной смелостью она выплеснула фашистам в лицо чистую правду, настоянную на ненависти к ним и на любви к Родине, и теперь ощущала себя успокоенной, расслабленной, будто с плеч свалилась неимоверную тяжесть, нести которую уже не было сил.
В реве голосов тонул звон колокольчика судьи, который пытался навести какой-то порядок, унять разъяренных представителей частей и гарнизонов. Спокойствие Марины бесило это скопище фашистов и, казалось, дай им волю, они тут же растерзают ее.
Когда же, наконец, ярость оравших поуменьшилась и судье удалось призвать бушевавший зал к порядку, слово получил прокурор. Он поднялся за своим столом, взвел тяжелый взгляд на Марину и какое-то время глядел на нее молча. В его мозгу застряла ее последняя фраза «Я буду убивать фашистов», которая перечеркнула все значение и цели особого полевого суда, показав собравшимся не силу и неотвратимость судебного возмездия за совершенное преступление, а непоколебимость русского духа, готовность подсудимой принести себя в жертву во имя России. Он боялся, что, если даже часть из тех, кто сейчас орал, требуя смерти Марины вернется домой и, поостыв, хоть на минуту позволит себе с иных позиций посмотреть на процесс, то поймет, что, несмотря на смертный приговор, который вынесут подсудимой, в конечном итоге победа, будет за нею, а не за устроителями суда. И что подумают они о русских людях? Какой вывод сделают? Какой моральный урок вынесут? О непобедимости русских? О непреклонности и несгибаемости их характера? Так разве для этого устраивался этот процесс?
– Уважаемый высокий суд, – заявил он высокопарно, – Мне выпала большая честь выступать здесь в качестве государственного обвинителя от имени великой Германии и нашего фюрера Адольфа Гитлера. Я позволю себе напомнить суду и присутствующим в зале господам, что расследованию преступления подсудимой руководители рейха уделяли самое пристальное внимание. Несмотря на свою занятость, им интересовался фюрер, я совершенно убежден, что он следит и за настоящим процессом. – В зале раздался шум одобрения. – Таким образом, суд на Шафровой-Марутаевой Мариной приобретает особое звучание и он войдет в историю борьбы рейха за установление нового порядка в Европе, борьбы с большевизмом на Востоке, в России.
Прокурор остановился, выпил глоток воды, поглядел в зал, проверяя, какое впечатление производит его речь на присутствующих. Убедившись, что является центром внимания, ощутив на себе сотни одобряющих взглядов, продолжил с большей уверенностью. Не суду, а в притихший зал бросал он теперь как спрессованные слитки, зажигательные слова, возбуждая ненависть к Марине.
– Я позволю себе обратить ваше внимание, господа, на то весьма важное обстоятельство, – развивал он свою мысль приподнято, – что подсудимая по национальности русская. Да, да, русская – потряс он кулаком в воздухе над головой, – Она принадлежит к той низшей расе, которая всегда была противником Германии, угрожала нашим жизненным интересам.
Гул одобрения прокатился по залу, подстегнув прокурора.
– Я не буду глубоко вникать в историю отношений великой Германии с прежней Россией и страной, ныне именуемой Советским Союзом, – говорил он, – Я обращу внимание лишь на то бесспорное обстоятельство, которое у меня не вызывает никакого сомнения – подсудимая совершила преступление, убийство двух офицеров вермахта, по прямому указанию Кремля!
Громкий шум всколыхнул тишину зала и, перекрывая этот шум, повысил голос прокурор:
– То обстоятельство, что убийство майора Крюге произошло когда доблестные войска фюрера под Москвой сдерживали фанатические атаки русских полчищ и вынуждены были отступать, теряя в кровопролитных боях сотни лучших представителей арийской расы, наводит меня на мысль, что между этими двумя явлениями существует прямая связь. Да, да, господа, прямая связь! – бросил он в зал, убежденно.
Выждав, пока судья призывал к тишине присутствующих, продолжил, все больше распаляясь:
– Я не делаю упрека уважаемой службе гестапо, затратившей немало усилий, чтобы раскрыть преступление, но я должен вполне определенно и категорически высказать свое мнение – мнение государственного обвинителя, что суд имеет дело с агентом Кремля.
Крупные капли пота выступили на длинном лице прокурора. Он достал из кармана платок, промокнул его и победно уставился на шумевший в неистовстве зал. Выбрав момент, заключил свою мысль:
– И как бы подсудимая ни отрицала это, суть дела не меняется, ибо всеми своими действиями она подтвердила мой вывод.
Марина слушала, как он решительно подводил итог, ставил черту под ее жизнью и внезапно обнаружила, что удивительно легко и даже с какой-то гордостью за себя, воспринимает его речь. Он назвал ее агентом Кремля и она почувствовала, как при этом теплая волна, родившаяся где-то у самого сердца, приятно разлилась в груди, ударила в уставшее, мраморной бледности, лицо. «Я – агент Кремля», – билась в голове мысль беспокойно и горделиво. И если раньше она воспринимала это слово с определенным предубеждением потому, что в эмигрантской жизни оно означало прежде всего тайную связь с разведками, полицейскими службами, предательством своих же людей, к чему относилась с презрением, то теперь открыла в нем совершенно иное значение, которое выразило ее отношение к Родине. Краешками губ она улыбнулась трансформации своего взгляда на это слово, подумала, что если за то, что отозвалась на призыв Отчизны о помощи фашисты называют ее агентом Кремля, то она согласна им быть и дай Бог, чтобы таких агентов среди русских эмигрантов оказалось больше.
Она глубоко верила в то что, ее смерть должна зажечь сердца многих русских примером верности Родине и, может быть, совсем некстати пришли на ум ей чьи-то стихи:
Нас не было в этот день – плечом к плечу —
Когда враги ломились в наши двери.
И я, как ты, теперь поволочу
До гроба нестерпимую потерю.
И только верностью родному краю,
Предельной верностью своей стране
Где б ни был ты – в Нью-Йорке иль Шанхае —
Смягчим мы память о такой вине.
– Я не стану раскрывать политическое значение преступления подсудимой, – раздавался в притихшем зале громкий голос прокурора, – Скажу лишь кратко, что совершенное ею убийство имеет глубокие и далеко идущие цели – толкнуть бельгийцев к террору против войск и офицеров фюрера, направить их в ряды так называемого Сопротивления. Таким образом, преступление Шафровой-Марутаевой носит политический характер и я требую для нее самого строгого наказания – смертной казни!
Прокурор окинул запальчивым взглядом зал, Марину, и под общий крик одобрения самодовольно опустился в кресло. Он исполнил свой долг, свою роль государственного обвинителя.
Судья объявил, что для защиты слово предоставляется подсудимой, и в зале мгновенно воцарилась тишина. Все понимали, что это ее последнее слово на суде, если не последнее в жизни. А она сидела, предельно собранная, во власти каких-то своих мыслей. Черные брови сведены к переносице, слегка сощуренные глаза задумчиво и неподвижно уставлены на дверь, куда увели ее детей. Заметно волнуясь, она по-детски шевелит губами, словно про себя повторяет что-то или мысленно продолжает с кем-то начатый спор.
Долгие бессонные ночи в камере тюрьмы наедине с собой, своими мыслями готовилась Марина к этому моменту, намереваясь произнести если не громкую, то во всяком случае впечатляющую речь. В заготовленной и почти наизусть выученной речи было все: обличение фашизма, осуждение войны, массовых убийств и казней, рабского режима нового порядка в Европе, и, конечно же, протест против нападения на ее Родину. Она поднялась до высот политического осмысливания фашизма, его человеконенавистнической сути и хотела во всеуслышание сказать об этом, но, оценив публику в зале суда, решила отказаться от своего замысла. Речь ее на фашистов не произвела бы того впечатления, на которое она рассчитывала. И сказала предельно просто, но простотой этой ни чуть не уменьшила гордого звучания своих последних слов:
– Я не стану перед вами на колени. У русских людей перед врагом колени не гнутся. Я хорошо знаю, что меня ждет смерть, – Обвела горделивым взглядом притихший зал, расправила плечи, будто освобождаясь от давившей тяжести, продолжила, – Так вот. За счастье народов Бельгии, за счастье моей Родины я готова принять смерть. Готова. Выносите свой приговор. Выносите.
* * *
Судебный процесс над Мариной был закончен. Смертный приговор – расстрел – вынесен, однако исполнение его по совершенно непонятным для Нагеля причинам Берлин приказал отложить до особого распоряжения. Нагель нервничал, полагая, что в Берлине, видимо, не понимают, что отсрочка исполнения приговора расценивается в Брюсселе как слабость оккупационной администрации, как опасение за возможные последствия, и это воодушевляет бельгийцев к Сопротивлению. По агентурным и официальным сообщениям, поступавшим в гестапо, Нагель имел возможность в определенной мере объективно судить о положении дел в Брюсселе, но вырисовывавшаяся при этом картина оптимизма не вызывала. Ему, конечно, не дано было знать, что судьбою Марины, притягательной силой ее подвига, заинтересовался рейхсминистр пропаганды Германии доктор Геббельс.
– Мой фюрер, – спросил он Гитлера на очередном докладе. – Надеюсь, вам известна история с русской эмигранткой, террористкой из Брюсселя Шафровой-Марутаевой Мариной?
Гитлер на миг скосил на него глаза, но ничего не ответил, а продолжил читать «Перспективный план пропаганды и контрпропаганды» и только после того, как отложил в сторону документ, вопросительно посмотрел на него, ответил:
– Да, известна, – нервным движением руки фюрер поправив челку волос, свисавшую на лоб, – Королева бельгийцев Елизавета просила помиловать преступницу. Суд приговорил… Как ее? – Он нетерпеливо повертел указательным пальцем, вспоминая фамилию Марины.
– Шафрова-Марутаева Марина, – подсказал Геббельс.
– Вот именно. Суд приговорил ее к расстрелу.
– Совершенно верно.
– Чем эта террористка вызвала твой интерес, Йозеф?
– Мой фюрер, – ответил Геббельс, как всегда в таких случаях подчеркнуто преданно. – Вы хорошо знаете, что не в моих правилах выражать недовольство действиями рейхсминистра СС Гиммлера, или в чем-то упрекать его. Генрих превосходно делает свое дело, исполняет долг перед великой Германией. Но в случае с этой русской он поступил… – Геббельс на секунду запнулся, формируя более мягко выражение мысли, – Поступил… слишком прямолинейно.
Взгляд Гитлера потускнел. Хотя и осторожное, но все же нелестное высказывание Геббельса о Гиммлере было для него неприятным. Он полностью доверял Гиммлеру и не допускал мысли, что шеф гестапо сделает что-то не так, как нужно.
– В истории с русской террористкой, – сказал он отрывисто, подчеркнув слово «русская», – иного решения, иного приговора быть не могло. – В его тоне слышалась закипающая злость. Он блеснул на Геббельса непреклонным взглядом, повысил голос, словно говорил не с рейхсминистром, а выступал перед исступленной толпой, жадно хватающей каждое его слово, – Русский, где бы он ни находился – в России, Франции, Бельгии или иной стране – для нас остается русским! И если он совершает преступление против рейха, то приговор для него должен быть единственным – смертная казнь! И тут уж дело суда, в какую форму ее облечь – расстрел, виселицу или гильотину. – Он перехватил недоуменный взгляд Геббельса и, распалившись, еще раз подтвердил. – Да, да… Гильотина! Скажешь, нас будут обвинять в возрождении средневековой казни? Пусть. Пусть обвиняют! Меня никто и ничто не остановит перед физическим уничтожением русских, – Он повертел шеей, будто высвобождаясь от удушья.
– Я не об этом, мой фюрер, – примирительно отозвался Геббельс. – Целесообразность и необходимость уничтожения этой русской сомнения у меня не вызывает так же, как и выбор формы смертной казни.
– Так в чем же дело? – все еще не понимал Гитлер, зачем понадобилось Геббельсу вмешиваться в дела Гиммлера.
– Я о политическом аспекте процесса над террористкой, – важно пояснил Геббельс.
Гитлер недовольно поморщился – разве политика мешает уничтожать русских? Но ничего не ответил и Геббельс поспешил развить свою мысль.
– Если оставить дело так, как есть, то эта русская террористка в глазах бельгийцев выглядит не преступницей, а героиней, а ее преступление – подвигом, который носит политический характер! – обратил он внимание Гитлера на последние слова и широко раскрытыми глазами, в которых отливалась непоколебимая уверенность в непогрешимости своего суждения и политической оценки действий Марины, уставился на Гитлера, словно открывая перед ним до сих пор неведомую истину, – По имеющимся у меня сведениям, та же королева Елизавета, которая обратилась к вам с посланием •помиловать террористку, назвала ее бельгийской Жанной д'Арк! Надо полагать, такое имя ей дано не от избытка королевских чувств к своей подданной. Елизавета – умная женщина, превосходный политик. Это есть политика, мой фюрер! Политика!
Гитлер ощущал, как каждое слово Геббельса о Марине, политическом значении совершенного ею убийства, раздражающим тоном проникало в сознание, возбуждало ярость. Он резко поднялся, движением руки позволил Геббельсу сидеть и принялся ходить вдоль стола, подавляя чувство распалявшегося гнева, а в кабинете продолжал звучать уверенный голос рейхсминистра пропаганды.
– После такого приговора, мой фюрер, сделавшего террористку героиней Бельгии, партизаны выпустили и распространили по стране вот эту листовку, – Длинными, тощими пальцами Геббельс вынул из лежавшей перед ним папки небольшой листок, набранный типографским шрифтом, и с приложением перевода с французского на немецкий язык, положил на стол Гитлера.
Гитлер остановился и, не садясь в кресло, а опершись руками о стол, смотрел на листовку. Лицо его постепенно наливалось краской, ноздри носа нервно подрагивали.
– Как видите, мой фюрер, – продолжал Геббельс, – штаб армии партизан, которой руководит бельгийский коммунист, высоко оценивает убийство нашего офицера этой русской террористкой и призывает бельгийцев усилить борьбу с нашими войсками и оккупационной администрацией, следовать ее примеру. Это тоже политика, мой фюрер.
Медленно, в раздумье, Гитлер взял со стола листовку, также медленно разорвал ее на мелкие части, брезгливо бросил в корзину и перевел взгляд на Геббельса. Он верил в гибкий ум своего генерала, ценил его острое политическое мышление и понимал, что он, рейхсминистр пропаганды, где-то был прав, заметив в действиях Гиммлера прямолинейность в решении вопроса о русской террористке.
– Но все эти последствия, – продолжал внушать Геббельс, – можно и надо было предотвратить, если бы Гиммлер посоветовался со мною.
Он высокомерно вскинул голову и, нервно перебирая пальцами, сидел против Гитлера в позе гордой независимости, незаслуженно обойденной вниманием. На его вытянутом, обиженном лице открытым недовольством горели глаза, преданно устремленные на Гитлера. И эта подчеркнутая преданность как-то успокаивающе подействовала на фюрера.
Он спросил сухо, но с доверием:
– Каким образом, Йозеф, можно было предотвратить это? Освободить террористку?
– Ни за что! – тонким фальцетом выкрикнул Геббельс и поспешно поднялся с кресла, неуклюже переступил с больной ноги на здоровую.
– Что ты предлагаешь?
– Мой фюрер, – жарко заговорил Геббельс. – Я полагаю, что эту русскую надо скомпрометировать перед бельгийцами, а ее преступлению придать совершенно иное звучание, диаметрально противоположное тому, какое оно имеет сейчас.
– Ты предлагаешь?… – попытался Гитлер угадать и продолжить мысль Геббельса, но тот опередил его.
– Нужно серьезно подумать над тем, чтобы публично по-иному истолковать причины и цель совершенного ею убийства. Иными словами, нужно снять с этого убийства политическую окраску. Снять немедленно! Я понимаю, что уже несколько поздно, Гиммлер допустил ошибку в самом начале расследования преступления. Это могло быть обычное уголовное дело. Уголовное! – подчеркнул он, – И только! Мой фюрер, прикажите Гиммлеру передать преступницу в распоряжение моего ведомства, и я постараюсь сделать все, чтобы развенчать ее перед бельгийцами.
– Хорошо, – согласился Гитлер. – Сегодня же Гиммлер получит такое указание.
– И далее, – продолжал Геббельс, – необходимо немедленно вывезти эту русскую из Брюсселя в Германию. Одно ее присутствие в Бельгии опасно воздействует на бельгийцев.
* * *
Приказ Берлина в срочном порядке вывезти Марину из Брюсселя в кельнскую женскую тюрьму барон фон Нагель воспринял, как запоздалую панацею, уже не способную оказать ослабляющего воздействия на возрастающую волну бельгийского Сопротивления. И все же с чувством облегчения и внутренней успокоенности выполнил его.
С какой-то драматической медлительностью тянулись дни, а смертный приговор в исполнение не приводился, и напрасно Марина каждую минуту ждала, когда откроются двери камеры и коротко скажут: «Выходи». Дверь открывалась, подавали скудную пищу, но приказа идти на расстрел не было. Что может быть тягостнее и драматичнее ожидания смерти, последнего часа своей жизни? Самая адская боль, распинающая, раздирающая человеческое существо, не способна сравниться с этим состоянием обреченности. Смертник не испытывает физической боли, ее уже не причиняют, но зато испытывает душевное мучение такой потрясающей силы, что вынести его сложнее, чем вытерпеть самые жестокие истязания в камере пыток. Вся жизнь в такие часы нескончаемой кинематографической лентой проходит перед глазами, каждым своим эпизодом, словно острым лезвием касаясь сердца, затемняет разум, давит на психику и все чувства обреченного фокусируются на звоне ключей в руках надзирателя да на защелке замка в дверях камеры. Вот он, замок, громко щелкнет, и жизнь смертника поведет отсчет немногим драматическим минутам предсмертья.
Однако шли дни, на казнь Марину не вызывали и она начала теряться в предположениях, в поисках ответа на подозрительную не исполнительность фашистов. Было удивительно, что после форсированного следствия в гестапо, шумного процесса в суде наступило такое неожиданное затишье, словно вдруг к ней все потеряли интерес. Но она ошибалась. Интерес к ней не пропал и поэтому вместо казни ранним январским утром тысяча девятьсот сорок второго года ее перевезли в женскую тюрьму в Кёльне. Она поняла, что жизнь ее еще не окончена. Кому-то и зачем-то потребовалось ее продлить. Кому? Зачем?
Об этом она узнала несколько дней спустя, когда ей приказали помыться, привести себя в порядок и подали словно специально для нее сшитые совершенно новые костюм, демисезонное пальто и модную шляпку. «Зачем это?» – спросила Марина тюремную надзирательницу, пожилую и грубую немку, но та ни словом не обмолвилась. Когда же оделась, немка слегка склонила голову на бок, оценивающим взглядом посмотрела на нее, приговорила: «Вам, Марина, такой красивой, жить надо. Так держитесь же, цепляйтесь за жизнь». Было это женское откровение или намек на что-то? Марина не стала выяснять – знала, что немка больше ничего не скажет.
Легковая машина петляла по улицам древнего города Кёльн, пересекая его по диагонали, выбираясь на окраину. На заднем сиденье, справа и слева от Марины сидели офицеры гестапо, впереди, рядом с шофером – человек в штатском, показывавший дорогу. Они молчали. Ничего не спрашивала и Марина. Так и проехали в полном безмолвии весь город, пока машина не подкатила к двухэтажному особняку на окраине.
В особняке ее встретила молодая белокурая женщина. Услужливо сняв с нее пальто, предложила пройти в зал, где ожидал ее средних лет мужчина в черном костюме со значком нацистской партии на лацкане. Гладко причесанный, свежевыбритый, он выглядел весьма импозантно. Приветливо улыбнувшись, он пригласил Марину к столику, сервированному на две персоны. Белокурая женщина неслышно удалилась.
– Давайте знакомиться. – Мягко произнес он, – Меня зовут Генрих. Генрих Ледебур. Вас я знаю. Присядем.
«Что это значит? – подумала настороженно Марина. – Зачем весь этот спектакль с переодеванием, ездой по городу, наконец, приезд в особняк к сервированному столу, к этому важному человеку?» Предчувствие чего-то недоброго заставило ее внутренне собраться.
– Вы не завтракали? – услыхала она мягкий голос Генриха. – Вас не кормили? – быстро поправился он, словно вспомнив, что привезли ее из тюрьмы, – Не стесняйтесь. Кушайте.
Марина ни шевельнулась, к угощению не притронулась. Подняв на Ледебура строгий взгляд, спросила:
– Куда и зачем меня привезли?
– Это потом, – миролюбиво улыбнулся Ледебур. – У нас еще есть время все выяснить.
Он взял с тарелки бутерброд с колбасой, вонзил в него крепкие зубы, принялся есть.
– Вы не стесняйтесь, – посоветовал он. Разлил по бокалам лимонад, пододвинул один бокал Марине, сказал, – Я весьма далек от службы безопасности и меня бояться не следует. Пытать, допрашивать я не умею. Это не моя стихия. – С достоинством представился, – Доктор социальных наук, сотрудник министерства пропаганды Германии.
Марина недоверчиво смотрела ему в лицо, не понимая, чем может интересовать доктора социальных наук. Спросила холодно:
– Что нужно от меня министерству пропаганды?
– Пока ничего, – ответил Ледебур, запивая бутерброд водой из бокала. Неожиданно спросил: – Вам нравится этот дом? – Посмотрел на нее цепким, изучающим взглядом, многозначительно сказал, – Вы можете в нем жить.
– Я могу здесь жить? – поразили Марину слова Ледебура.
– Да.
– Я приговорена к расстрелу.
– Это еще ничего не значит. Приговор можно отменить.
У Марины перехватило дыхание. Она еще не разобралась в, неожиданном повороте судьбы, который обещал Ледебур, но мысль о том, что можно отменить приговор, вдруг овладела ею, на какой-то момент лишив рассудительности. Перед ее измученным взором встали образы детей в суде и она застонала – подавленные, глубоко спрятанные, материнские чувства взяли верх над разумом. И слезы навернулись на глаза.
– Вы успокойтесь, – посоветовал Ледебур, подал ей бокал лимонада.
Она жадно выпила и ощутила, как что-то неуловимое и непонятное промелькнуло в сознании, не то жалость к себе, не то осуждение. Она содрогнулась, поняв, что поддалась коварному обещанию Ледебура, сообразила, что смертный приговор так просто не отменяют и жизнь в особняке бесплатно не дают. За это платить надо. Какой же ценой? Что запросит Ледебур? А он взял второй бутерброд, подвинул тарелку Марине.
– Я все же советую покушать. Так будет лучше.
Минуту поколебавшись, Марина взяла бутерброд со свежей сочной ветчиной, принялась есть. Давно уже не ела она такой деликатес и после тюремной пищи сдерживалась, чтобы не выказать Ледебуру голодной жадности.
– Я много думал о совершенном вами преступлении перед великим рейхом, – залив бутерброд лимонадом и облизывая тонкие губы, начал Ледебур сверх меры спокойно, с напускным, равнодушием, будто вел разговор о чем-то второстепенном, ничего не значащим для их встречи, – Внимательно изучил все материалы вашего дела, которое велось в гестапо. И, знаете ли, у меня возникло много вопросов. Я обнаружил в деле ряд неясностей, усмотрел одностороннее, с обвинительным уклоном, следствие. Многое из того, что могло облегчить вашу участь, не исследовано, мотив вашего преступления в достаточной степени и с необходимой объективностью не раскрыт.
«Обнаружил ряд неясностей», «обвинительный уклон следствия», «Что могло облегчить вашу участь, не исследовалось», – впивалась в сознание Марины каждая фраза Ледебура и она смотрела на него настороженно, недоверчиво. В ее голове проскользнула неуверенная мысль: «Уж не собирается ли он пересматривать мое дело?»
Обнаружив ее внимание, Ледебур продолжал свою неторопливую, заторможенную речь.
– Ваша личность и как убийцы, и как гражданки, наконец, как русской женщины и матери не изучена. А объективная оценка вас, как субъекта преступления, имеет весьма важное значение для вынесения правильного приговора.
Ледебур мелкими глотками отпил из бокала лимонад, посмотрел на Марину, которая показалась ему увлеченной его речью, и на его холеном лице с красными прожилками на щеках проглянуло удовлетворение самим собой и тем впечатлением, которое он произвел на нее.
«К чему он клонит? О какой объективной оценке, правильном приговоре говорит? Разве вынесенный мне приговор был неправильным и отменен? – метались в голове Марины мысли, – Что, наконец, случилось?» Она еще не разобралась, куда клонит Ледебур, хотя и понимала, что ничего хорошего от него ожидать нельзя. Вся его речь представлялась ей замедленно разворачивавшимся вступлением к чему-то главному, до поры, до времени от нее скрываемым.