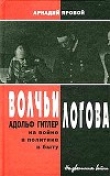Текст книги "Обезглавить. Адольф Гитлер"
Автор книги: Владимир Кошута
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Господа, не достаточно ли? – попыталась остановить спор Людмила Павловна, – Александр Александрович тяжело болен и…
– Нет, нет, – потребовал Шафров, – Позволь мне выслушать их до конца. Другого случая, возможно, уже не представится.
– Как изволите, милостивый государь, – согласился Старцев, полагая, что еще не все кончено, что, дав успокоиться Шафрову, можно будет продолжить выполнять задание Нагеля. – Как вам угодно. Я действительно еще не все сказал.
В присутствии женщины мужчины поразительно быстро взяли себя в руки, успокоились.
– Так что вы еще хотели мне сказать? – после нескольких минут молчания спросил сдержанно Шафров. – Я готов выслушать.
– Мы понимаем, что утомили вас, Александр Александрович, – оправдывался Новосельцев, – но, видит Бог, мы пришли к вам с добрыми намерениями.
– У меня мало надежды, что вы правильно поймете, – вновь дипломатично, издалека начал Старцев.
– Я еще в своем уме, господин генерал, – парировал Шафров.
– Видите ли в чем дело, Александр Александрович, – приступил Старцев к выполнению более щекотливой части своего визита. – Ситуация такова, что убийство Мариной немецкого офицера принимает нежелательный оборот – приобретает политический характер. По-ли-ти-че-ский! – по слогам подчеркнул он, – Вот в чем вся трагедия положения. Могут найтись люди, бельгийцы, русские, которые последуют примеру Марины. Это закономерно вызовет ответные меры немецкого командования, в результате чего прольется кровь, в том числе и кровь русских людей в Бельгии.
– Война без потерь и крови не бывает. Это вам, господин генерал, достаточно известно, – заметил Шафров.
– Да, конечно, – согласился Старцев, – Но наша миссия к вам, Александр Александрович, связана именно с тем, чтобы предотвратить возможные жертвы и ненужное пролитие крови.
– Каким образом? И при чем здесь я? – Старцев будто и не торопился с ответом – снял очки и долго протирал их лоскутком замшевой кожи. Покончив с этой процедурой и водрузив очки на место, он пристально посмотрел на Шафрова сквозь блестящие чистотой стекла, начал также медленно, как и важно.
– Мы полагаем, что для предотвращения возможных осложнений, которые могут привести к ненужным жертвам, было бы хорошо, если бы вы соблаговолили встретиться с Мариной Александровной и уговорить ее публично, я подчеркиваю, публично осудить свой поступок и попросить помилование у немецкого командования.
Старцев закончил свою мысль, снял очки и выжидательно уставился на Шафрова.
– Вы предлагаете мне роль предателя дочери? – хриплым, прерывающимся от удушья, голосом спросил Шафров.
– Ну, зачем же так? – сделал удивленный вид Старцев, – Какое предательство? Речь идет об элементарно простом – осудить свершенное и попросить помилование. Я не понимаю крайность вашего суждения, Александр Александрович. Не понимаю.
– Простите, – неожиданно в разговор вмешалась Людмила Павловна, обращаясь к Шафрову и Старцеву, – Простите великодушно, но я – мать Марины и не могу оставаться в стороне, когда речь идет о жизни или смерти моей дочери, – Она посмотрела на Старцева с мольбой. – Скажите честно, Семен Сергеевич, Марину освободят, если Александр Александрович сделает все, что вы предлагаете?
Болезненный взгляд Людмилы Павловны застыл на холеном лице Старцева в ожидании ответа. С первых минут появления в доме Старцева и Новосельцева она поняла, что их визит не сулил ничего хорошего, и пока в разговоре с Шафровым прямо не затрагивалась судьба Марины, она сдержанно прислушивалась к каждому слову, считая, что не женское это дело – вмешиваться в серьезный мужской – разговор, но когда Старцев поставил на карту жизнь ее дочери, она не выдержала.
– Весьма возможно, – ответил Старцев.
– Освободят? – не удовлетворилась Людмила Павловна уклончивым ответом.
– Освободят.
– Так в чем же дело, Александр Александрович? – повернулась она к Шафрову. – Поговори с Мариной.
– Право же, суждение Людмилы Павловны куда благоразумнее вашего, Александр Александрович, – заметил Старцев.
– Нужно спасать Марину. Спасать ее, неразумную, от смерти, – загоралась Людмила Павловна мыслью о спасении дочери, – При чем здесь Иуда? Какое предательство?
– На абордаж тут не возьмешь, – напомнил о себе Новосельцев, – Тут нужен маневр. И вы, Александр Александрович, этот маневр осуществите лучше, чем кто-либо иной.
– В ваших руках судьба дочери, – нажимал Старцев. Обретя союзника в лице Людмилы Павловны, он оживился. – Правильно ли будет не воспользоваться случаем спасти Марину? Амбиции, предрассудки, а тем более неправильное понимание предлагаемого мною шага в данной ситуации совершенно излишни.
Лицо Шафрова побледнело от волнения, слегка подрагивала на подушке голова, но Старцев и Людмила Павловна не замечали этого – они старались «привести его в чувства», заставить принять предложение.
– Надо спасать Марину, Сашенька, – залилась слезами Людмила Павловна и, отзываясь на боль жены, где-то в глубине сознания Шафрова забилось, затрепетало сомнение – правильно ли он поступает? Быть может, действительно, свидание с дочерью принесет ей избавление от наказания, и прав окажется Старцев, с такой уверенностью обещающий освобождение Марины? Так как же быть? Сомнение с каждой минутой росло, давило на его отцовские чувства и он уже видел себя единственным виновником смерти дочери.
– От вас зависит все, Александр Александрович, – убеждал Старцев. От его взгляда не ускользнуло состояние болезненного колебания Шафрова, намечавшегося надлома воли, и он радовался, что выполнение задания Нагеля, кажется, начинало обретать зримые черты – надо только подтолкнуть Шафрова сделать хотя бы первый шаг по пути, уготовленному ему в гестапо.
В притихшей комнате беспощадно и жестоко прозвучали слова Старцева.
– Нельзя, Александр Александрович, становиться детоубийцей.
– Что? – неожиданно драматически вырвалось у Шафрова, – Детоубийца? Я – детоубийца?
Это страшное слово повисло в воздухе моментально притихшей квартиры. Гримаса ужаса исказила бледное лицо Шафрова и он, весь напряженный, будто ступивший на грань безумия, затравленным взглядом метался по застывшим лицам жены, Старцева, Новосельцева, словно искал у них подтверждения или опровержения мысли, навязанной генералом.
– Детоубийца! – прошептал он.
– Если вы пожелаете, то я обещаю организовать вам встречу с Мариной Александровной – выделил Шафров четкие слова Старцева в шуме и звоне, до адской боли распиравшими черепную коробку.
– Каким образом? – простонал он, – Она же в гестапо, в тюрьме.
– У меня есть связи, – поторопился уверить Старцев.
Шафрову показалось, что где-то рядом ударила ослепительная молния и в его мятущемся сознании высветлила незамутненную драматическими переживаниями частицу рассудка, которая в одно мгновение поставила все на свое место. «У Старцева связи в гестапо? – пронеслось в его голове, – Он прошел ко мне по заданию гестапо?» Пронзительным взглядом уставился он на генерала и со злой иронией спросил:
– У вас есть связи в гестапо?
Шафров видел, как от этого неожиданного вопроса растерянно заерзал в кресле Старцев, как по его матовой бледности лицу пошли красные пятна и, не давая ему опомниться, продолжил с такой же беспощадной жестокостью, с какой минуту назад сам генерал обвинял его в детоубийстве.
– Я давно подозревал, господин генерал, что у вас есть связи в гестапо. Благодарю за откровенность. Так что же вы по заданию гестапо и пришли ко мне?
– Это уж слишком, Александр Александрович, – попытался урезонить его Новосельцев.
– Саша, подумай, – взмолилась Людмила Павловна.
– Вы меня не так поняли, – растерянно оправдывался Старцев, понимая, что перестарался и провалил выполнение задания Нагеля.
Шафров перевел дух и уже спокойно, но с нажимом на каждом слове ответил:
– Я вас понял правильно. Людмила, – обратился он к жене, – будь добра, подай этим господам шляпы. Я устал. Он откинул голову на подушку и закрыл глаза.
* * *
В изнурительных допросах, изуверских пытках Марины в тюрьме Сент-Жиль неожиданно наступил перерыв, и заключенные, которых гестапо длительное время держало в застенках, на печальном опыте многих узников, сделали вывод, что дело Марины близится к концу и скоро состоится суд. Так тюремщики поступали со всеми, кому суждено было оставить мрачные камеры древней тюрьмы, получив смертельный приговор, срок или свободу. Заключенные не ошиблись. Марину действительно стали водить к врачу, делать перевязки, давать лекарства, улучшили питание. Сомнения не было – ее лечили, чтобы представить перед судом без пыток, в полном сознании, способной давать показания.
Силы постепенно возвращались к ней и, обретя ясность сознания и мышления, она с трудом верила, что окончился ужасный период ее пребывания в гестапо, где единственным и желанным избавлением от мучений казалась смерть.
Фашистские палачи пытали ее жестоко и беспощадно не только потому, что убила двух офицеров, была участницей движения Сопротивления, но и потому, что была русской. Доведенные до бешенства ее стойкостью, они мстили ей и за ее народ. «Мы выбьем из тебя русский дух», «Мы сломим твой русский характер», «Мы вытряхнем из тебя русскую душу», – эти угрозы запомнились ей на всю оставшуюся короткую жизнь. Не выбили, не сломили, не вытряхнули.
Сознание принадлежности к своему народу придавало ей силы, особенно в те критические минуты, когда ее доводили до отчаяния, до бредового состояния и когда закрадывалось сомнение в способности сопротивляться дальше. Она выстояла, но в то же время понимала, что смерти не миновать, надежды на лучший исход нет и быть не может.
Жизнь заключенных в тюрьме Сент-Жиль шла по своим законам. Пытки и допросы здесь чередовались с небольшими перерывами, чтобы доведенной до изнеможения жертве дать отдохнуть, набраться сил перед новыми истязаниями. Во время такого перерыва весь мир заключенного сужался до собственного дела и он не мог думать ни о чем ином, кроме как о своей судьбе, поведении на допросах, защите. Когда же пытки и допросы заканчивались человек оказывался наедине с самим собой, мысль властно поворачивала его к обозрению всего того, о чем не имел возможности думать ранее. И трудно сказать, когда было тяжелее – во время пыток или в такие часы, когда многие вопросы своей судьбы, судьбы родных и близких, товарищей по борьбе всей тяжестью обрушивались на доведенный до изнеможения организм, ранимую душу, часто травмированную психику.
В таком положении оказалась и Марина. Среди многих вопросов, с невообразимой болью проходивших через ее болезненное сознание, был один, еще не отболевший, который надо было пережить заново – муж, дети.
Муж. Последняя встреча с Юрием была на одном из допросов. Задолго до этого случая Нагель, который лично вел ее дело, стал сообщать ей о поведении Юрия в гестапо. Она восприняла это сообщение настороженно и в тоже время с радостью, полагая, что Нагель преднамеренно или случайно высветлил ей поведение самого близкого человека и что-то вроде чувства благодарности к следователю шелохнулось у нее в груди. С того момента она стала ждать допросы, готовилась вынести любые муки ради того, чтобы услышать от Нагеля хоть слово о муже. Она жила этими неожиданными весточками, черпала в них силу до тех пор, пока Нагель не сообщил, что Марутаев не так мужественен и стоек, как она, и что гестапо надеется вскоре сломить его. Словно чем-то острым прикоснулся Нагель к обнаженному сердцу Марины, беззащитно раскрытому для доброй вести о муже. Она потеряла покой. Своя судьба, своя жизнь отодвинулись на второй план. На первый, вышел Марутаев. Как он? Выдержал ли? Как помочь ему? Как поддержать? Она казнила себя этими мыслями, однообразными и тяжелыми. А Нагель на каждом допросе настойчиво внушал, что Марутаев вот-вот сдастся, что к нему применяют такой комплекс пыток, который не выдерживал ни один человек, что выход у него один – либо признаться, либо сойти с ума. Марина впала в отчаяние. Ей не надо было обладать большим воображением, чтобы представить состояние мужа – она и сама вынесла немало из того, что применялось к нему.
Вскоре наступил день, когда Нагель с явным торжеством сообщил, что Марутаев не выдержал и поступил благоразумно – во всем признался и дал показания о ее связях с движением Сопротивления. «Теперь вам, мадам, остается только последовать примеру мужа и все закончится как нельзя лучше», – твердил на допросах Нагель. Его елейный голос западал, въедался в душу, и как она не сопротивлялась, как ни стояла на том, что Марутаев не способен на предательство, все же семена сомнения, щедро высевавшиеся Нагелем, начали давать побеги в ее сознании, колебля уверенность в Марутаеве. Что это было? Сомнение в муже или собственная сломленность? А, быть может, и то, и другое, вместе взятое, нашло щель в ее стойкости, отравило сознание ядом подозрительности? Захваченная этим неожиданно возникшим чувством, она поначалу растерялась, но затем каким-то особым чутьем женщины и жены поняла, что это могло быть грязной провокацией Нагеля.
– Покажите мне мужа, – потребовала она. – Пусть он при мне повторит все, что сказал вам.
К очной ставке с Марутаевым, за сутки объявленной Нагелем, Марина готовилась всю бессонную ночь. Она шла на допрос не столько для того, чтобы уличить во лжи Нагеля, сколько для того, чтобы убедиться в верности Марутаева, встретиться с ним. Она оставалась женщиной, любящей женой – и ни пытки, ни унижения, ни оскорбления не могли сломить ее чувств к мужу. Судьба посылала ей, быть может, последнюю встречу с ним и она шла на эту встречу, словно на любовное свидание.
Марутаева ввели в камеру допросов два дюжих гестаповца. Его обмякшее тело безжизненно обвисало на их руках. Носками не зашнурованных ботинок, явно кем-то наспех надетых на его больные ноги, он задевал за цементный пол и среди гулко раздававшихся в пустой камере шагов гестаповцев шаркающие звуки слышались Марине печально и больно. Кровоточившая через грязную марлевую повязку голова Марутаева низко свисала на грудь и беспомощно моталась в такт шагов гестаповцев. Его грубо посадили на стул, но он головы так и не поднял, сидел безразличный к окружавшим его людям, собственной судьбе. «Выход у него один – либо признаться, либо сойти с ума», – вспомнила Марина слова Нагеля. Онемевшими, с трудом подчинявшимися ей губами она прошептала: «Юра…»
Марутаев вздрогнул, медленно поднял голову на показавшийся ему знакомый голос, который прорвался в замутненное сознание через плотную пелену, отделявшую его от жизни, и посмотрел на Марину непонимающе сквозь узкие щелки подбитых, заплывших кровоподтеком глаз. Не узнав ее, вновь опустил голову. Похожий на стон клокочущий хрип вырвался из его груди и затих.
Марина была близка к ужасу. Юрий не узнал ее и ей казалось, что он действительно был на грани безумия! «Юра! – позвала она сдавленным криком. – Юра!», но Марутаев даже не посмотрел на нее. Лицо его искривила гримаса боли.
– Не разговаривать, – потребовал Нагель, – Здесь не комната свиданий.
Ни слова не сказал Марутаев, но Марина готова была поклясться, что слыхала его голос, застрявшее в ушах нежное слово «Марина». И пока Нагель оформлял их встречу протоколом, соблюдая при этом совершенно ненужные, ничего не значащие для Марины формальности, и сухим, бесстрастным голосом что-то разъяснял, предупреждал, говорил о ее и Марутаева обязанностях, определенных каким-то законом, она безотрывно и трепетно смотрела на мужа, лаская его теплой глубиной своих глаз, не замечая ни обезображенности его лица, ни окровавленных повязок на теле.
Расчет Нагеля был предельно прост – морально и физически сломить Марутаева, пытками довести до грани невменяемости и лишить его таким образом способности следить за ходом допроса. В процессе допроса массированным психологическим давлением вынудить отвечать односложно: «Да», «Нет» и не позволять раздумывать над тем, что должен утверждать или отрицать.
В камере пыток палачи работали над Марутаевым в течение недели и, когда он, по их мнению, был доведен до нужного состояния, Нагель вывел его на очную ставку с женой.
Располагая доносом Старцева о встрече Марины с двумя бельгийцами в ресторане «Националь» и показаниями хозяина ресторана Бенуа о том, что в это же время за одним из столиков зала находился Марутаев, Нагель сделал категорический вывод, что это была явка Марины с кем-то из участников движения Сопротивления, которую прикрывал Марутаев. Но с кем была явка? Какое задание она получила? С кем поддерживала связь? На эти вопросы он должен был получить ответ.
Закончив формальности с протоколом, Нагель с определенной долей любопытства следил за Мариной и Марутаевым. По своей природе он не был сентиментальным, а служба в гестапо выдубила его душу и сердце, вытравив из них чувство сострадания. Но, наблюдая за Мариной, даже он ощутил, как в груди у него теплым ветерком шелохнулась жалость к ней. В ее порыве к Марутаеву, напряженной позе, широко распахнутых глазах, в которых чувства страха и боли сменялись теплой лаской, во всем ее облике было такое выражение женской преданности, нежности и любви, такая жажда придти на помощь мужу, что Нагель невольно залюбовался ею. За всю долголетнюю работу в гестапо ему еще ни разу не приходилось быть свидетелем такой потрясающей своей чистотой картины человеческих чувств. Доведенный до грани безумия муж и готовая ради него на самопожертвование жена. Где и когда можно видеть такое? Но чувство сострадания к Марине вскоре уступило место профессиональной жестокости, и он положил конец затянувшейся тишине.
– Вы подтверждаете ранее данные показания о том, что вы находились в ресторане «Националь», когда там ваша супруга встречалась с бельгийскими партизанами? – нажимая на «ранее данные показания», обрушился Нагель на Марутаева, и эти, подчеркнутые им, слова жестоко ударили по сердцу Марины. Подозрительность, сомнение в муже, которые она уже, казалось, пережила и отвергла, как навеянные Нагелем, вновь сдавили ей грудь, а сознание опалила мысль: «Неужели в самом деле выдал? Все сказал о полковнике Киевице и Деклере?» Она обратила на Марутаева кричащий взгляд: «Ты сказал это? Ты признался?» Еще тогда по совету Киевица и Деклера они условились, что в случае ареста, что вообще-то не исключалось, они должны скрыть посещение ресторана Марутаевым. В таком случае встреча Марины с Киевицем и Деклером будет выглядеть встречей добрых знакомых, а присутствие при этом Марутаева вызывало подозрение. «Неужели ты забыл наш уговор?» – вопрошала она устремленным на него взглядом. А он сидел молча, не обращая внимания на нее и Нагеля, будто был занят своими мыслями, не относящимися к допросу, очной ставке.
Нагель вновь повторил вопрос, но до гипертрофированного сознания Марутаева дошло только два слова: «ресторан «Националь» и он пытался собрать воедино порванные болью мысли, чтобы понять, при чем тут ресторан! В тайниках его памяти, ставшей теперь болезненно хрупкой и ненадежной, сохранялся только один случай посещения им ресторана «Националь» с Мариной. Это было еще до войны, до оккупации Бельгии. Он не помнил точно год и причину посещения, но виделся ему это случай счастливым. Звенели бокалы, играла музыка, и они, забыв обо всех житейских проблемах, танцевали без устали. Марина была так восхитительно-прекрасна, что он целовал ее во время танца, восторженно говорил комплименты и вполне серьезно, хотя и запоздало (она уже была его женой), признавался в любви. О, как он был тогда счастлив!
– Отвечай! – терял терпение Нагель.
Нагелю нужен был ответ, короткое слово «Да». И неважно, что под этим «Да» будет подразумевать Марутаев. Сам-то он уже подогнал это «Да» под вопрос о встрече Марины с участниками Сопротивления. Нагель хорошо знал, что жертву, доведенную до такого состояния, в котором находилась Марина, неизбежно поражает более опасное для нее показание и в связи с этим полагал, что утвердительный ответ Марутаева прозвучит для Марины убийственно и сломит ее.
«Зачем ему это? – слабо соображал Марутаев, ощущая как изнутри его начала колотить неудержимая дрожь, от которой нестерпимо заныли раны. С каждой минутой она нарастала, становилась невыносимей. Мысли от нее путались, теряли связующую нить, становились плохо осознанными. Он не видел кричащего взгляда Марины, не поднимал раскаленной болью и путаностью мыслей головы. Ему казалось, что он опускается в раскрывшуюся темную бездну, которая избавит от мучений, и только ответ на вопрос Нагеля еще задерживает его здесь.
– Напоминаю, – наводил Нагель Марутаева на желаемый ответ, – В ресторане тогда был русский генерал Старцев?
«Старцев? – бледным язычком пламени затрепетала готовая угаснуть мысль Марутаева. – Ресторан? Старцев? О, да, конечно. Тогда действительно в ресторане был Старцев. Генерал еще танцевал с Мариной. Танцевал старомодно, но элегантно, красиво. Все были восхищены им. Да. Старцев был там. Был, бредово вспоминал Марутаев. Это он точно помнил. – Но при чем здесь Старцев? При чем вечер в ресторане по случаю Рождества Христова?» Он припомнил теперь, что было это в 1937 году, в Рождественский праздник, когда многие русские, живущие в Брюсселе, собрались в ресторане, чтобы вместе провести время, вспомнить былое, невозвратное. Очередной приступ внутренней дрожи потряс Марутаева и он вновь потерял мысль.
– Там был Старцев, – добивался своего Нагель, отмечая, как напряженно волнуется Марина, как колеблется ее уверенность в стойкости мужа, – Припомните, припомните! – подталкивал он Марутаева к ответу, – Там был генерал Старцев.
Мелкие росинки пота покрыли бледное лицо Марины, горячечный взгляд прикован к Марутаеву, губы ее беззвучно шевелятся, что-то шепча – все это не ускользнуло от Нагеля. Он знал, что ее состояние мало чем отличалось от состояния Марутаева и в таком случае единственное «Да», которое должен произнести Марутаев, могло повергнуть ее в отчаяние, подавить морально. О, он тогда заставит ее говорить правду о встрече в ресторане. Заставит!
«Неужели он предал? Почему тогда молчит? Разве тяжело ответить «Нет»? Об этом же был уговор», – метались в отчаянии мысли Марины.
Она беспредельно верила мужу. Ведь столько лет прожито вместе, столько перенесено и выстрадано! И никогда, в большом или малом деле, она не помнила случая, чтобы он поступил малодушно, нечестно. Трудности эмигрантской жизни беспощадно обнажали характеры людей и порой совершенно неожиданно раскрывали в них такие черты, о существовании которых ранее никто и не подозревал. Часто случалось так, что бывший – дворянин, офицер, с определенным положением в бывшем российском обществе, слывший там во всех отношениях порядочным, в эмиграции превращался в отпетого подлеца, и знавшие его люди диву давались, как не замечали в нем столь отвратительных качеств ранее? Но бывало и другое. Жизнь в зарубежье, положение беженца, человека второго сорта, безжалостно морально, а то и физически, уничтожали слабых, но в то же время закаляли сильных. Марина была убеждена, что жизнь эмигранта закалила и Марутаева. До сих пор она искренне верила в его мужество, и даже усилия Нагеля не поколебали этой веры. Но то, что она сейчас видела, потрясало ее. «Значит, он выдал явку в ресторане и теперь отмалчивается? – разрушала она годами испытанную веру в мужа. – Даже о Старцеве доложил? Значит, падение началось с малого? Сначала сказал о посещении ресторана, о Старцеве, затем о Киевице и Деклере? И все же, возможно ли это?» Она еще цеплялась за прежнюю веру в мужа, но его упорное молчание, нежелание ответить «Нет» усиливало сомнение и что-то похожее на отвращение колыхнулось в ее сознании.
А Нагель продолжал нажимать на Марутаева.
– Вы были в ресторане? Были? Подтвердите ранее данные показания об этом. Подтвердите!
Откуда-то издалека, едва различимо дошел до сознания Марутаева настойчивый голос Нагеля и вновь в голове путано забились мысли: «Ресторан? Что даст это Нагелю?» – пытался он понять упрямую настойчивость гестаповца. Напряжение памяти резкой болью отозвалось в его голове. Перед глазами пошли темные круги и какая-то неподвластная ему сила стала медленно закручивать и поворачивать его в темную бездну, устрашающе разверзнувшуюся перед ним. Он пытался выстоять, но чувствовал, что силы его иссякают, и тогда, словно торопясь, чтобы не унести с собою в эту бездну ответ на вопрос Нагеля, угасающим голосом проговорил:
– Да, был… – Его обмякшее тело сползло со стула на пол и он потерял сознание.
В глазах Марины полыхнула боль, заслонив минутное подозрение и суровое осуждение Марутаева.
– Юра! – вырвалось у нее из груди отчаянно и страшно.
Она опустилась перед ним на колени, схватила его забинтованную окровавленной повязкой голову, обезумевшим взглядом смотрела на обезображенное, залитое кровью лицо и потерянно шептала: «Юра! Юра! Это – я. Ты меня слышишь? Это – я. Марина».
– Врача! – потребовал Нагель, – На место ее, на место! Гестаповцы оторвали ее от Марутаева, посадили на стул. В глубоком оцепенении сидела она, отрешенным взглядом уставившись на мужа, с которым возился появившийся по вызову Нагеля врач.
Допрос не прерывался. По мнению Нагеля, он только перешел в очередную стадию. Отпустив врача, он переключился на допрос Марины, полагая, что на нее оказано вполне достаточное психическое воздействие, которым надо немедленно воспользоваться.
– Кто из представителей Сопротивления был с вами в ресторане? – вырывал он ее из полу шокового состояния. – Фамилии, имена?
Взгляд Нагеля пронизывал Марину насквозь и ей чудилось, что в глазах гестаповца заключалась какая-то сила, парализующая волю к сопротивлению. Во всяком случае после обморока Марутаева, только что пережитого ею потрясения, под взглядом Нагеля чувствовала она себя настолько беспомощно и растерянно, что где-то мелькнула мысль: «Неужели и я не выдержу?»
Нагель расценил это как момент, за которым следует признание.
– Вас предал муж, – возвращал он ее к подозрительности к Марутаеву, – Предал! Понимаете? Я мог бы это продемонстрировать продолжением очной ставки, но ваш супруг в таком состоянии, что каждый мой вопрос толкает его на грань безумия. Разве вы сами не убедились в этом? Посмотрите на него. Еще один мой вопрос, и он может навсегда лишиться рассудка. Поверьте мне. Я знаю, что и как делают в гестапо с такими, как он.
Голос Нагеля обволакивал сознание Марины, студено сковывал разум, мысли. Опасность потерять Марутаева сковывала волю.
– Жизнь мужа в ваших руках, – ввинчивался в голову Марины настойчивый голос Нагеля. – Так пощадите же его, пощадите!
Он сменил тон и теперь был весь сочувствие к Марине и Марутаеву. Вплотную подошел к Марине и повелительным взглядом смотрел ей в лицо, в тревожную темноту глаз, стремясь отгадать, что кроется за сумятицей отраженных в них чувств: кричаще – болезненная жалость к мужу? Долг перед участниками Сопротивления, с которыми встречалась в ресторане? Или, наконец, долг перед своей совестью?
– Будьте благоразумны, – внушал он ей, – Пощадите мужа. Он уже сказал все, что мог, и на большее, как видите, не способен. Вместо него отвечайте вы. Отвечайте.
Как сквозь туман видела Марина Нагеля, подобно хищной птице стоявшего перед нею в выжидательной позе.
– Ваш муж ранее дал показания о том, что в ресторане вы встречались с представителями бельгийского сопротивления. Вы подтверждаете это? Подтверждаете?
«Ранее дал показания?» – поддавалась Марина внушению Нагеля, и возвращаясь к горькому осуждению мужа, продолжала терзаться от горя и мыслей, что Юрий не выдержал. А Нагель подливал масла в огонь подозрения, разжигал ее недоверие к Марутаеву.
– Не каждый может выстоять в гестапо. Вам это хорошо известно. Ваш супруг сломлен. Он рассказал все. Мне требуется ваше подтверждение им сказанного. Подтвердите, и я вас отпущу. Вам и вашему супругу нужен отдых.
Как ни странно, но настойчивость Нагеля постепенно возвращала Марине самообладание, способность правильно оценить его действия, поведение доведенного до безумия мужа. Выработанная за годы совместной жизни сила доверия и убежденность в честности Марутаева заставили ее прежними глазами посмотреть на него, и она усовестилась, своей подозрительности. Язык сердца подсказал ей правильное решение, от чего мысль о невиновности Марутаева стала стремительно овладевать ею, и вскоре очная ставка показалась кошмарным спектаклем, разыгранным Нагелем, чтобы заставить признаться в связях с движением Сопротивления.
Тяжело и медленно возвращалась к Марутаеву способность воспринимать окружающее. Дрожь в теле утихала и появилось такое ощущение, будто он с трудом выбирался из смертельно опасной пропасти, слабо понимая, где находится, о чем говорят около него какие-то люди. Однако услышанное «Вас предал муж» заставило поднять голову, посмотреть, кто и кому сказал это. Он увидел и понял такое, от чего разорванные мысли мгновенно сплелись воедино, более-менее сносно воспроизведя картину очной ставки. Будто оцепеневшая сидела Марина, и Марутаев в первое мгновение ощутил неудержимый порыв кинуться к ней, но тут же понял, что сделать этого не может – не было сил. «Жизнь мужа в ваших руках, – доносились до него слова Нагеля. – Так пощадите же его».
В душе Марутаева нарастал крик протеста, но даже выразить его, отчаянно выпалить, чтобы остановить Нагеля не мог и вынужден был безмолвно сидеть и с убийственной болью пропускать в сознание утверждение Нагеля о его предательстве, критическом состоянии, грани безумия, неминуемой гибели. «О каком спасении идет речь? Почему меня надо спасать? – пытался понять он. Мысли его путались, теряли и вновь обретали связь, память то угасала, образуя провалы, то вновь возвращалась к нему. И это напряженное метание разума, стремление понять то, что, казалось, было за пределами его сознания, причиняло непереносимую головную боль, каленым железом сжимало грудную клетку. «Ваш муж дал показания о том, что в ресторане «Националь» вы встречались с представителями бельгийского сопротивления», – услыхал он голос Нагеля и замер. На какое-то мгновение память его вновь провалилась, но это состояние отторженности от жизни длилось недолго. Мысль вновь пробилась к нему и запульсировала учащенно, тревожно. «Я дал об этом показания? – задыхался он словно в чаду, – Не может быть, – поспешно ворошил Марутаев в больной голове все допросы и пытки в гестапо и они необычно и с такой четкостью прошли в его мозгу, что он еще раз убедился в своей стойкости и честности перед Мариной. – «Неправда! Неправда!» – сопротивлялось возмущенно и страстно все его существо, и он вдруг почувствовал, как снова дала о себе знать неподвластная ему и от этого особо страшная сила, которая бросила его в дрожь, как возле сердца зародился цепенящий холод и медленно стал расползаться по всему телу, сковывая мысли, разум. Он хотел возразить Нагелю, предупредить Марину. Поднял на нее болезненно-острый, наполненный тревогой взгляд, но сил вытолкнуть застрявшие где-то в горле слова не находил. И эта беспомощность, неспособность делать элементарное еще больше повергли его в отчаяние. С пронзительной ясностью теперь он понял, что допустил ошибку, которой, наверно, воспользовался Нагель в допросе Марины. Впрочем, была ли эта ошибка? Ведь он говорил совершенно об иной встрече с Мариной в ресторане, не подозревая уловки Нагеля.