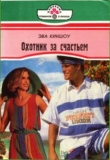Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)

XII
На другой день утром повозка с двумя жандармами, тремя стражниками и войтом, глубоко увязая в грязи, снова появилась у Бальсисова двора. Рядом скакал верхом управитель. Злой с похмелья, всклокоченный, как ястреб, вахмистр накинулся на выходящего из хлева старика:
– Говори, где сын, черт вас дери, проклятая сволочь!
Старик нисколько не испугался, только словно удивился:
– Да ведь старшего, Пятраса, вы, господа, вчера заарестовали и увезли. Младший, Винцас, в кузню ушел сошник затачивать, а меньшой, Микутис, где-то по селу шлендрает. Как вернется – велю овец в поле гнать.
Понапрасну неистовствовал жандарм, топал, совал кулаками в нос – Бальсис упрямо твердил все то же, беспомощно разводя руками.
– Обыскать, – приказал вахмистр.
Двое стражников остались караулить избу с улицы, а вахмистр, становой, жандарм Палка и войт отправились делать обыск. Облазили сушильню, гумно, хлева, навес и, ничего не обнаружив, ворвались в хату. И здесь ничего не нашли. Ввалились в светлицу. С первого взгляда можно было убедиться, что и в светелке ничего нет. Но жандармы принялись обнюхивать все углы. Заглядывали под кровать, приподнимали подушки, вытащили ящики из столика, потом в углу наткнулись на книжную полочку. Глаза у жандармов загорелись. Литовские книги! Не революционные ли? А нет ли прокламаций, для подрыва основ самодержавия и православия?
Вахмистр и становой с помощью войта стали выяснять содержание книжек. "Календарь, или месяцеслов, хозяйственный", составленный Л. Ивинскисом. Ого, целых десять штук. Печатать дозволено… А это что? "Песни светские и духовные", составленные ксендзом Антанасом Драздаускасом. Когда печатано? В 1814 году?! Ветхая книжонка. Все бросаются искать магические слова "Печатать дозволено", но ни в начале, ни в конце их не находят. Что за содержание? Песнь о сиротах, Кукушечка, Заяц, Осень, Девичья участь, Дрозд – всего девять песен и два псалма. Вахмистр, усомнившись, велит войту кое-что почитать. Тот листает замусоленные, пожелтевшие страницы и замечает: некоторые строфы сбоку отчеркнуты ногтем. Прочитывает вслух эти места:
Не знаю тягостней доли:
Один я, бедный, в неволе…
Если смерть одолеет,
Кто меня пожалеет?
Ой, беда!
Отвечала так кукушка:
– Я не плачусь всему свету —
Воле я своей послушна,
Надо мною пана нету! *
– Ясно! – вскрикивает вахмистр. – Подстрекательство против господ! Знаем мы этих сиротинок и кукушечек. Цензурой не дозволено. Приобщить! Продолжаем.
Вот писанная от руки тетрадка с песнями. Бдительность жандармов возрастает. Что за песня? "Хозяйственная". Ничего… "Вот уж снег убежал" – ничего. А дальше что? "Эх ты, Доминик"… Какой такой Доминик?
– Читай! – приказывает вахмистр войту.
Справа глянешь – шляхта,
Слева – пан в поместье.
А беднягу Доминика
Все ругают вместе.
Входит управитель,
Вслед – приказчик злобный.
В дрожь бросает Доминика
От гостей подобных…
Что-то не то… Вахмистр со становым заглядывают через плечо войта, напряженно следят за чтением. А вот и последняя строфа:
Невдомек тебе, бедняга,
Чего ты дождешься:
Ты под розгами слезою,
Как дитя, зальешься.
Темное дело… Подозрительное. Шляхта, поместья, управитель, приказчик… В кого метят? В доверенных людей имения! Мужиков против помещиков восстанавливают. «Под розгами»… О-о!.. Влепим мы тебе и розгой и плеткой! Не «как дитя, зальешься», а теленком замычишь!
– Приобщить! – командует вахмистр. – Продолжаем.
Дальше – "Ворон". Все впиваются в эту песню, Тут что ни строфа – самая явная крамола:
Пить вино паны лишь знают,
На перинах почивают,
В карты день-деньской играют,
Им трудиться нет причины —
Пусть чужие гнутся спины! *
А заключение – еще пострашнее:
Будет день – придет расплата,
И не станет супостата!
Вахмистр и становой обалдело и возмущенно переглядываются. В первый раз видят они нечто подобное.
– Возмутительная песня, – отзывается становой.
– Не только возмутительная, а прямо – мятежная, революционная, – внушительно поправляет вахмистр. – Приобщить и беречь как зеницу ока!
Потом накидывается на перепуганного старика Бальсиса:
– Чьи песни?
– Сына Пятраса.
– Да знаешь ли ты, что это – мятежные песни?
– Нет, барин. По-писаному не разумею.
– А сын-то пел и других обучал?
– Никогда я не слыхивал.
– Откуда он списал?
– Не ведаю, барин.
– Смотри у меня! За такие песни – в острог, на каторгу! Что там дальше?
Вытащили "Нравы древних литовцев". Теперь уже подозрительна и эта книжонка. Только читать ее трудно. Войт путается, сбивается, ничего не понимает. Наконец и тут заметили отчеркнутые ногтем места: "Вольность свою превыше всего возлюбили… Упорно презревали рабство… Кто порабощал свободного человека, того отдавали псам на растерзание".
– Вольность возлюбили!.. – передразнивает вахмистр. – Призыв к мятежу! Мы им пропишем "вольность"!
Опасными показались целые главы: "Способ ведения войны", "Отвага литовцев в обороне от супостатов".
Истерзав старика вопросами, вахмистр постановил приобщить и "Нравы".
Потом увидели груду рукописных листков. У войта голос от страха дрожит. Против царского правительства, против власти! Призывают восстать заодно с поляками! Кто писал? Откуда получено? Когда?
Отец все валит на сына. Он сам ничего не ведает…
– Приобщить как революционные прокламации! В острог, на каторгу!
А вот еще "Глашатай", автор Акелевич.
– Акелевич?.. А, литератор литовский! Пестрая пичужка! Что за книженция? Где? Когда? От кого?
Началось долгое издевательство над Бильсисами.
Неохотно отвечает Бальсис жандарму, скрежещет зубами. Ах, принесла нелегкая на паши головы! Чего нм надобно? Прицепились к этим писаниям. А разве там не правда написана? Чистая правда. И в песнях этих про наши беды правильно сказано. А привязались они, верно, оттого, что по-литовски. Стяпас давно уже говорит, а намедни и паныч подтвердил: царское правительство особенно недолюбливает литовские писания. И газету не позволяют печатать. И школ настоящих нет.
Бальсис уже давно в душе сожалеет, что не смог пустить Пятраса в науку. А до чего способный был мальчонка, так хотел учиться! Хорошо, что хоть дядя Стяпас ему немного глаза протер. Да и у самого Стяпаса все бы иначе обернулось, кабы пошел он в учение. Не шаркал бы теперь лакеем у пана Сурвилы. Когда начались слухи, что поднимется бунт против власти – Стяпас говорит, что и против панов, – в сердце Бальсиса затлела мятежная искорка. Жизнь и вправду невыносима. Пускай бунтуют, свергают! Может, станет лучше.
Жандармским нюхом вахмистр сразу же учуял упорство старика и, крутя кулаком у него под носом, рявкнул:
– Ты у меня, чертов сын, не увиливай, отвечай почтительно! В тюрьме сгною! Ты здесь хозяин, ты в ответе, ежели у тебя в избе спрятаны возмутительные писания против властей и его императорского величества!
Допрос продолжается.
Ближние соседи Бальсиса Кедулисы сразу узнали про обыск. Когда одну овцу стригут, у другой поджилки трясутся… Коли жандармы когтят, – не до шуток! Катре сразу смекнула, что требуется в таких случаях. Она знала – у отца в дальнем углу чулана, за жерновами, спрятана бутылка водки. Сунула эту бутылку в корзинку, побежала к Норейкене – достать сыру. Достала. Проскользнула к Бальсисам, нашла в черной избе перепуганных Гене с Онуте. Родители были в светелке, откуда доносился строгий голос жандарма. Онуте, приоткрыв дверь, поманила мать.
Когда Бальсене вернулась в горницу с водкой и закуской, вахмистру уже осточертели все эти книжонки, и он приглядывался – к чему бы еще придраться. Но завидя заветную бутылку, решил покончить с печатными изданиями и вообще с обыском.
– "Глашатай" разрешен цензурой, Василий Петрович? – обратился он к становому.
– Дозволен 18 января сего года. Цензор Павел Кукольник.
Тут Бальсене, поставив на стол свою снедь, поклонилась вахмистру, становому, управителю и всем совокупно:
– Милости просим, господа, перекусить. Самое время для завтрака. Мы – люди бедные, и так нежданно-негаданно. Уж не обессудьте.
Долго упрашивать не пришлось. Вахмистр первый уселся за стол.
– Что же, господа… На похмелку по единой. По исконному православному обычаю. Ваше здоровье, пан управляющий!
Но Пшемыцкий поклялся, что до обеда никогда водки в рот не берет. Лучше он выйдет во двор, поглядит. За управителем последовал и войт. Вахмистр не перечил, правильно рассудив – чем меньше чарок, тем они полнее.
Управитель с войтом вышли в сени и застали там трех девушек, которые жались к дверям и прислушивались, что творится в светелке.
– Ну, девицы, – заявил Пшемыцкий, – надо и вас обыскать, нет ли чего крамольного. Сейчас вызовем жандарма Палку. Он вас в момент проверит.
– Зачем нам Палка, пан управляющий? – сострил войт. – Мы сами с усами. Чем мы не начальство? Возьмем да обыщем.
Девушки прятались друг за дружку, не зная, как улизнуть. Только Катрите сообразила: нужно не улепетывать, а отбрить подходящим словцом. Она смело взглянула на Пшемыцкого и войта и полушутя, полусерьезно огрызнулась:
– Ну-ка, троньте, пан войт! Отбиваться будем. И перед жандармом не струсим.
Пшемыцкому понравилось, что девушка не испугалась, а откликнулась на его шутку.
– Что за девица? – обратился он к войту.
– Эти две – Бальсите, а та – Кедулите.
– Как зовут?
– Катре.
– Не к лицу такое простое имя хорошенькой девице, – заметил Пшемыцкий. – Но как это вышло, что я тебя на работе не видал?
– Я больше по дому хлопочу. На барщину сестра Уршуле ходила.
– Собираешься замуж? Приглядела себе суженого? – заинтересовался управитель.
Почуяв опасность, Катрите потупилась. За нее ответил войт:
– Где ж у такой красотки зазнобы не будет! Я и то знаю – вокруг нее Пятрас Бальсис увивается. Плохого ты женишка подобрала, девушка, плохого, – назидательно сокрушался войт.
Пшемыцкий навострил уши: Пятрас Бальсис?.. Ах, так эту кралю облюбовал пан Скродский? Из-за нее загорелся сыр-бор. Управитель с любопытством окинул девицу придирчивым взглядом. Недурна… И стройная… Должно быть, оттого, что дома торчала, не надрывалась на работе. Но вообще-то – ничего особенного. Пан Скродский явно перехватил… Видно, возраст сказывается. Она хочет выйти за Пятраса Бальсиса? За подстрекателя хлопов, который удрал при аресте? А Скродский собирается отбить Бальсисову зазнобу… Все это нужно крепко обдумать.
– Что же… – промычал он, насмешливо щурясь. – Бальсис так Бальсис… От пана зависит. Если будешь хорошей…
Неизвестно, что хотел сказать Пшемыцкий, – он и сам еще не знал, что делать дальше. Оставив девушек, они с войтом вышли во двор.
Немного прояснилось. Сквозь жидкие, быстро летящие тучи изредка проглядывало солнце. Ветер свистел в деревьях, стучался в двери, ворошил солому, хватал за полы. Но кружился и заливался он уже как-то по-иному, не с промозглой сыростью, а с мягким теплом, не злобно, а игриво и ласково. Аист, притащив сухую ветку, приколачивал ее клювом у края гнезда, а ветер ерошил и взбивал перья, вскидывал крылья.
– Похоже – погода налаживается, – произнес войт, глянув на небо.
Но управителя, видно, заботило иное.
– Скажи-ка, войт, не эта ли Кедулисова усадьба? – ткнул он пальцем на липу.
– Да, а соседняя – Сташиса.
– Сташисову я знаю. А которая Янкаускаса?
– Напротив. Через дорогу.
– Развалюхи, больше ничего. Ткнешь пальцем – рассыплются. Одна труха.
– А что? – с любопытством спросил войт.
– Ничего. Пан Скродский хочет их переселять. Но что тогда делать с постройками?
Тем временем из светлицы вышли и жандармы со стражниками, которых провожали старые Бальсисы.
– Что ж, господа, поедем, – обратился вахмистр к становому. Потом сурово обернулся к Бальсису. – Ты, отец, смотри у меня! Сыновьям воли не давай. А старшего все равно поймаем. Не упорхнет от нас птичка певчая. И всю эту шайку изловим.
Тут управитель вспомнил: надо завернуть к Сташису, тот может дать ценные указания. Сташисова усадьба через два двора, нечего и в повозку садиться. Поэтому все, хватаясь за изгородь, гуськом отправились к Сташису.
Удивился и испугался старик, увидев столько нежданных гостей. Сын Андрюс через задние двери юркнул на огород, старуха села за кросна, а дочь Марце принялась хлопотать у печи – сейчас затопит, надо зерно подсушить, хлеб на исходе. Светлицы у Сташисов не было, а в хибарке негде рассесться. Поэтому оба стражника и жандарм Палка остались во дворе. Два окошка с замызганными, закопченными стеклами, скрепленными лучинками, пропускали мало света. Гости нащупали скамьи, уселись, и управитель первым завел разговор:
– Сташис, ты был всегда хорошим и исполнительным хозяином. Это известно не только мне, но и пану Скродскому. В случае беды всегда найдешь в поместье поддержку. А теперь мы к тебе обращаемся, как к человеку рассудительному. Знаешь, вчера пан вахмистр со становым арестовали Пятраса Бальсиса, за подстрекательство и повезли в имение. По дороге на стражников из-за угла напала целая ватага и отбила Бальсиса. Люди – из вашего села. Кто они такие?
– По царскому закону требуется злоумышленников передавать в руки властей, – добавил становой.
А вахмистр припугнул:
– За недонесение, укрывательство виновников угрожает тяжкое наказание.
Скрюченный, еле заметный в полутьме, Сташис сидел на лавочке недалеко от печи, исподлобья поглядывая на незваных гостей. Неожиданное чувство зашевелилось в его груди. Да, он служил пану верой и правдой. Пан, вишь, все одно пан. Помещику он и теперь, может, сказал бы все. А тут жандармы, полиция! Отродясь он с жандармами дела не имел и иметь не желает. Нешто он Иуда-предатель? Ведь и без того соседи его ненавидят, чураются – дескать, продался… И в гноящихся глазах старика мелькнул огонек.
– Так что же, Сташис, – напирал управитель, – кто из ваших в этом замешан?
– Не ведаю, пан, – мрачно ответил Сташис.
– Как можешь не ведать? Ты – близкий сосед. Тут, наверно, шум поднялся, крик… Неужто ты не слыхал?
– Не слыхал, пан. Как говорится – не мои свиньи, не мой огород.
– Не верю. Да, наконец, если ты сам не видал и не слыхал, так видели и слышали другие домочадцы. Старуха, сын, дочка.
Но Сташис упрямо держался за свое:
– Не ведаю, пан.
И старуха, следуя его примеру, затрещала то же самое:
– Знать не знаем, слыхом не слыхали. Теперь погода скверная, все в избе торчат, нам какое дело, что там у Бальсисов или Кедулисов. Они сами по себе, мы сами по себе.
Вахмистр свирепо выругался:
– Эх, распустила язык, чертова хрычовка!
Тем временем Марце наложила растопку, сверху – дрова, раскопала из пепла угольки, взяла лучину и на корточках принялась раздувать огонь – даже щеки у нее разбухли, как красные пузыри. Вспыхнувшей лучиной она затопила печь. Едкий дым повалил в хибарку, первым долгом протянулся под потолком, но вскоре стал оседать вниз и добрался до голов сидевших. Верно, Марце забыла открыть вьюшку. Управитель, за ним вахмистр и становой закашляли, зачихали. Дым драл глотку, заслезились глаза – убраться бы поскорее!
– Сволочной мужик! – проклинал Сташиса вахмистр, выкатываясь за дверь. – А девка, ей-богу, нарочно задумала нас выкурить, будто барсуков из норы. Треклятое отродье! Все одного поля ягоды!
Хуже всех чувствовал себя управитель. Он был убежден, что Сташис выдаст участников вчерашнего налета. Что стало с этим оборванцем? Ну, такое наглое укрывательство ему с рук не сойдет.
Жандармы, стражники и войт отправились на повозке в Кедайняй составлять протокол, а управитель сел на гнедого и повернул было к поместью, но передумал – остановился возле Кедулисов. Если уж он тут, надо попробовать уладить и это дело.
В избе были старики и Уршуле. Катре еще не вернулась. Может, оно и лучше прежде потолковать с родителями. Пшемыцкий начал издалека. Нехорошо, что крестьяне осмелились ослушаться пана. Вот и вмешались полиция и жандармы. Добра от этого не жди. Нечего слушать всяких подстрекателей. Но и теперь еще не поздно помириться с паном, коли не всем, то хоть некоторым. Легче всех это сделать Кедулису.
– Есть у вас хороший случай заслужить милость пана, – говорил управитель. – Панское дело вам на пользу обернется. В мае из Варшавы возвращается паненка. Паненке нужна служанка. В поместье теперь подходящих нету. Как я только увидал вашу Катре, сразу и подумал: вот самая лучшая горничная для панны Ядвиги – здоровая, проворная, расторопная, а если приодеть – и сама как настоящая барышня. Отпустите, родители, дочку в имение, не пожалеете ни вы, ни она.
Неожиданное предложение огорошило Кедулисов. Старуху прежде всего охватил страх: поместье было всем известно как рассадник всякого зла, а пан Скродский – как жестокий блудник и мучитель. Но она не посмела это высказать. Хитрец Пшемыцкий разгадал ее мысли и поспешил рассеять сомнения. Подвинулся поближе, откашлялся и, понизив голос, словно конфузясь, заговорил:
– Эх, чего шило в мешке таить… Все это знают… Разные побасенки ходят про пана Скродского. Что правда, то правда – пан, конечно, не монах… Бывало, и грех попутает… Я-то уж знаю. А кроме всего – люди и приврут, из мухи слона сделают. Но я пана не защищаю и не выгораживаю.
Старики, особенно мать, жадно слушали. Управитель убедился – попал в самую точку. Снова повысив голос, он принялся разбивать невысказанные материнские доводы:
– Что было, то сплыло. С этим, матушка, я тебе говорю, – навсегда покончено. С прошлой осени, после того несчастья, пан Скродский ни разу, ни с одной женщиной… Да и тот случай – не по его вине. Я уж доподлинно знаю. Не будем даже вспоминать… Заперся пан у себя в кабинете – и ни-ни! Эх, и здоровье уже не то, прихварывает, на поясницу жалуется, на колотье в боку, подагру… Да и годы – недалеко до шестидесяти. Так насчет этого, матушка и батюшка, не сомневайтесь и дочку свою успокойте. Будет прислуживать барышне, и дело с концом.
Стариков Кедулисов охватило непривычное чувство. Вот как с ними пан управитель разговаривает – будто с равными. Катрите бы в имении разгуливала, как паненка, разодетая, ела бы всякие разносолы. Да и какая уж там в хоромах работа!..
Но мать еще колебалась:
– Кто его знает, пан… Никогда она такой работы не исполняла, к панам непривычная, все в навозе копалась…
Эти сомнения управителю было легче всего опровергнуть:
– Насчет этого вы уж будьте спокойны. Катре – девица шустрая. Сразу приучится. Чем она там не угодит? Пол подмести, пыль смахнуть, постирать, цветы полить, паненке чаю принести – велика премудрость!
Но все не успокаивалось материнское сердце:
– Боюсь я, пан. Слыханное ли дело – в поместье! Пропадет девка, и аминь…
– Неужто один только человек в поместьях прислуживает? – возразил управитель. – Мало ли кто из панских хором в люди пробился? А я-то сам разве не служащий поместья? Да взять хотя бы брата вашего Бальсиса – Стяпаса. Чем ему плохо? И господа жалуют, и земляки добрым словом поминают. Эх, Кедулене, выбей ты из головы эту блажь.
Старики размышляли, а управитель распинался без умолку:
– И еще вам скажу: теперь в поместье своего человека иметь – очень и очень на пользу. Время беспокойное, деревня с паном поссорилась, всем грозит тяжелое наказание. А дочка ваша перед барином заступится. И вообще – думаете, даром она будет паненке прислуживать? После манифеста каждому слуге полагается награждение. А деньги сейчас нелегко заработаешь.
Немного спустя Пшемыцкий увидел: он посеял семя, которое вскоре даст хорошие всходы. Стариков убедил, только им нужно время свыкнуться с этой мыслью. Пусть между собой посудачат, может, и поругаются – все равно решат так, как нужно пану Пшемыцкому и пану Скродскому.
Уже собираясь уходить, он обронил:
– А Пятраса Бальсиса дочка ваша пускай из головы выбросит. С ним – кончено. Вахмистр и становой его из-под земли добудут. У него на полке обнаружили крамольные писания. Поймают – в острог, на каторгу. А то запорют и в рекруты сдадут. Запретите дочке с ним встречаться. А пожалуй, и запрещать нечего. Он больше тут не появится.
– Да, наконец, кто знает? – добавил он с порога. – Пан милостив, многое может сделать. Все мы в его воле. Если бы Катре слово замолвила, может, тогда и Бальсиса… Ну, будьте здоровы! Обдумайте, что я сказал. И дочка тоже пусть поразмыслит. Добра вам желаю.
Пустив гнедого мелкой рысью, нигде уже не задерживаясь, пан Пшемыцкий вернулся в поместье.
А Катре, сидя у Бальсисов, напрасно ожидала весточки о Пятрасе. Прискакав вчера вечером, Винцас, ее брат Ионас и Казис Янкаускас сообщили: все прошло удачно, Пятрас убежал, ни с кем ничего не случилось. Но теперь и сами они где-то прячутся, даже дома не ночевали. Верно, Пятрас с Пранайтисом где-нибудь в Палепяй или Карклишкес.
После ухода жандармов и стражников Микутис вскоре передал, что непрошеные гости ненадолго завернули еще к Сташису и поехали дальше, только управи тель зашел к Кедулисам. Его кобыла к калитке привязана, грызет клен возле избы. Потом Микутис принес известие, что и управитель уже уехал от Кедулисов.
Катрите собралась домой, но нежданно вбежала Марце Сташите – взволнованная, раскрасневшаяся, даже пятна на щеках выступили, глаза сверкали злорадством. Подивились Бальсисы: Сташите была у них редкая гостья. А она, еле успев поздороваться, подбоченилась и затрещала:
– Небось все брехали: Сташисы такие, Сташисы сякие… Продажные шкуры, доносчики! А никто так жандармов не отбрил, как мы с отцом. Приперлись они – полная изба. Обступили отца, и один толстопузый, видать – старшой, грозится кулаками и как рявкнет: где, говорит, Пятрас Бальсис? Кто ему помог удрать, кто нападение устраивал? А отец молчит, как могила. Знать не знаю, в глаза не видал. А думаете – мы не знаем? Знаем – Винцас, Ионас и Казис верхом помчались вдоль лугов, а Дзидас Моркус, Норейка и другие – пешком с дрекольем по дороге. Никого мы не выдали. С жандармами связываться? Тьфу! Вижу, они все не убираются – затопила печку, а вьюшку нарочно не отодвинула. Сразу дыму – до земли. Жандармы – ну кашлять, чихать и с руганью вон выкатились.
Бальсисы и девушки похвалили поступок Сташисов в находчивость Марце. Минуту повертевшись, она заспешила к другим соседям повеличаться подвигом отца и своим собственным. Все восхищались отвагой Сташиса и радовались, что не надо больше коситься на соседа.
Едва успела Катрите переступить порог своей избы, как почувствовала, что произошло нечто необычайное. Отец сидел нахохлившись, мать глубоко вздохнула и косынкой утерла слезу, а Уршуле окинула ее подозрительным взглядом. Старшая сестра недолюбливала Катре, завидуя ее красоте, считала неженкой, за которую ей, Уршуле, приходилось отдуваться в поместье.
– Был управитель? Что говорил? – нарушила Катрите общее молчание.
Некоторое время никто не отвечал. Наконец отозвалась мать – жалобно, плаксиво:
– Катрите, доченька, тебе в имении службу предлагают.
– Еще чего – не дождутся они! – решительно вскрикнула Катрите.
– Не спеши, сначала выслушай, – перебил отец.
И начал описывать все, что сказал Пшемыцкий. Катре поняла – отец одобряет предложение управителя. Страх охватил ее. Она станет помещичьей горничной, будет работать в покоях, где проживает этот зверь. Катре догадалась: весь этот замысел от него, он хочет поймать ее в капкан. Вспомнились толки о его беспутстве. Да еще прошлогодний случай с Евуте Багдонайте! Катре содрогнулась.
– Не пойду, хоть убейте! – в припадке отчаяния воскликнула она, когда умолк отец.
Но и у отца было не меньше упрямства.
– Не мели! – загремел он, стукнув кулаком, – даже окошко задрожало. – Давно вожжей не пробовала! Легко тебе под отцовским столом ножки вытягивать. Сама попробуй копейку зашибить.
Отца поддержала и Уршуле. Правильно отец говорит – пусть Катре в имение идет. Дома все равно нет от нее особого проку. А там жалованье получит – всем полегчает. Не сахарная, не сожрет ее пан. А коли не будет дурой, сможет и попользоваться. Приданое соберет. Еще и Пятрасу пособит.
Но услышав насчет Пятраса, отец второй раз грохнул кулаком:
– Насчет Бальсиса чтоб и разговора у меня не было. В печенку мне въелся, больно рано начал в мои закрома нос совать. Разумник! У него запрещенные писания нашли. Каторгой дело пахнет!
Долго еще шумел отец, а к концу пригрозил:
– Так и знай: не пойдешь в поместье – ей-богу, выдам Пятраса жандармам! И Дзидаса выдам, и Пранай-тиса. Это они тут баламутят. Тех, что поглупее, с пути сбивают.
Катре обмерла от ужаса. Ее отец станет Иудой! Что делать? Плача, она кинулась в объятия матери. Обе зарыдали в голос.
Ой, будь тут Пятрас! Пошла бы с ним куда глаза глядят.