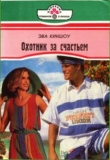Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
А Катре вдруг стала укорять его за новый спор со Скродским:
– Ой, Пятрас, зачем тебе опять лезть к пану на глаза, чтоб он тебя еще пуще возненавидел! Он о тебе забыл, а теперь сызнова начнет со свету сживать.
Но Пятрас отрезал:
– Вот и плохо, коли позабыл, пускай знает: я жив, здоров, вижу, что тут творится, и тебя не покину! Хочет от меня отделаться – пускай тебя отпустит. Тогда не стану ему глаза мозолить. Скажи его дочке, пусть, коли может, усовестит отца.
Они уже подошли к помещичьему саду и очутились на откосе, откуда расстилался широкий вид на ровные луга, заросшие кустарником, на плодородные холмы, кое-где желтевшие остатками яровых, и на пашни, посеревшие от ржаного жнивья, до самого леса, который виднелся вдалеке. К вечеру прояснилось. У самой земли пробились лучи заходящего солнца, и тени деревьев вытянулись далеко вперед. Напротив, у горизонта, на фоне мутного неба ярко обрисовывались озаренные багрянцем деревья усадеб Шиленай.
Пятрас с Катрите встали над обрывом и, успокоенные, вглядывались в эти дали. Пятрас опять стал расспрашивать о ее житье в поместье, об отношениях с паном, паненкой и дворовыми. Катре рассказала, что Скродский, видно, оставил ее в покое, часто хворает, с дочерью не ладит, и они подчас крепко спорят. Ежели бы не панна, то кучер Пранцишкус, садовник Григялис и стряпуха давно бы бросили Скродского.
– А Рубикис без работы, коли пан ему людей не дает пороть?
– Пороть уж не порет, но так и норовит всякого исподтишка куснуть. Что только пронюхает, сразу наушничает Пшемыцкому. Но и у него от страха поджилки трясутся. Больше всех Пранайтиса побаивается.
– И не зря, – подтвердил Пятрас. – Таких в первую голову на сухой сук!
Заходило солнце, разодранная туча все ярче шалела багрянцем. На земле сгущались тени.
– Когда же опять повидаемся, Петрялис, как будет с нашей свадьбой? – спрашивала Катрите, сжимая его руку. – И как отца склоним?
– Пора обо всем пораскинуть мозгами, Катрите. Оба будем думать. Может, и в самом деле попросим дочку Скродского перед отцом заступиться. А я – еще раз к Мацкявичюсу. Чего долго ждать, завтра же по дороге в Лидишкес заверну в Пабярже. Когда у дяди все будет готово, опять прикачу. И тогда поженимся, Катрите! – вскрикнул он, сияя, большими ладонями сжимая ее руку.
– А где нам свадьбу сыграть, двум беднякам? – затревожилась раскрасневшаяся Катрите.
Пятрас широко улыбнулся и пошутил:
– Какие же мы бедняки, Катрите! У многих ли такие руки, многие ли со мной на работе сравняются? Да и голова не из дурных… А ты сама! Видывал ли кто девушку милее? Разве я тебя променяю на все поместье Скродского, на богатства? Никогда, Катрите! А ты говоришь – мы бедняки!
Она еще больше зарумянилась от его ласковых слов. А он продолжал, сам себя подбадривая, даже глаза от радости сверкали:
– Говоришь, где свадебку сыграем? Найдется где, Катрите! Когда тебя приведу, не одна отцовская усадьба – вся деревня зашумит, земля загудит, как пустится в пляс сотня пар под суктинис Дундулиса! Нешто нет у нас друзей во всех багинских деревнях?
Тепло стало на сердце у Катрите. И в то же время – уже не в первый раз – почуяла девушка горький укор совести. А что же она сделала, чтобы помочь Пятрасу добиться их общего счастья? Пробовала ли сломить отцовское упрямство? Эти вопросы стали терзать Катре в тех пор, как она пошла на службу к Скродскому и почувствовала себя сильнее и смелее.
Теперь она видит: надо решиться. Выложит отцу все, что наболело. Покажет, что умеет и свое слово молвить.
Да, она это сделает. Но сегодня не надо чересчур сердце растравлять. Пятрас уже заметил ее затуманившееся лицо и озабоченно спросил:
– Что с тобой, Катрите? Чем недовольна? Или кто тебя обидел?
– Знаешь, Пятрас, злейший мой обидчик – отец родной, – ответила она так мрачно, что и Пятрас удивился. – Но больше молчать не буду! Скажу все, от чего у меня за эти годы сердце распухло.
Пятрас принялся ее успокаивать. Да, отец ее – кремень. Но разве он их разлучит, коли они сами решатся? Мать – за Катрите. Пусть только он, Пятрас, обзаведется своим углом, тогда и отца смягчат.
Катре отрадно было слушать Пятраса, но она решила: коли понадобится, не давать отцу спуску.
Долго они еще толковали, мечтали о будущем, а еще больше любовались друг другом.
С полей повеяло прохладой, зашуршали ветки явора, и несколько пожелтевших листьев упало на землю.
Словно проснувшись от волшебного сна, они спустились с косогора. Не выпуская руки Катрите, Пятрас довел ее до помещичьего двора и, попрощавшись, быстро зашагал в Шиленай, а она кинулась в комнату паненки.
Господа ужинали в столовой. Скродский был сердит. Нервно позвякивая ложкой, помешивал чай. Долил бы рому, но дочь не разрешает. И венгерское забрала из шкафчика. Говорит, вредно для сердца и нервов. Что она в этом понимает!
Дурное настроение угнетало и Юркевича. Хотя дело еще не закончено, не проиграно. Хлопы решили выждать, но среди них нет единомыслия. Он это время использует, перессорит их и поставит на своем.
Ядвига пытливо смотрит на отца и юриста. Она взволнована этим спором с крестьянами. Препираться с отцом, однако, не хочет, зная, что здесь он не уступит. Достаточно и того, что она уже многим людям помогла и доказала, что родная дочь Скродского в отношениях с крестьянами придерживается иных принципов.

XXXIV
С наступлением осенней непогоди здоровье Скродского заметно пошатнулось. По ночам мучала бессонница, по утрам ныли суставы, ломило кости. Кончились и те скромные удовольствия, которыми пан Скродский до тех пор скрашивал мрачное холостяцкое существование: лакомое блюдо, рюмка коньяку или старки, бокал венгерского или мозельского. А что уж и говорить о нежных усладах теплых летних ночей и долгих осенних вечеров! Все минуло безвозвратно!
Еще пуще телесных недомоганий пана Скродского одолевало уныние. Обостряющиеся изо дня в день отношения с челядью и хлопами, словно ржавчина, разъедают его самолюбие и чувство достоинства. Но, в конце концов, дворня и мужичье – эка невидаль! Но родная дочь! Он так любил ее с самого детства, заботился о ней, ждал ее возвращения! А только вернулась – с первого же дня посыпались недоразумения и дрязги. Теперь он видит, что напрасно посылал ее в Варшаву. В Вильнюсе, быть может, Ядвига не заразилась бы этой хлопоманией и революционным бредом. И надо же было привязаться к ней этому наглецу подозрительного происхождения – Пянке! С какой дерзостью напал этот демагог на пана Юркевича и на него, пана Скродского, из-за мнимых мужичьих обид!
Особенно тяжелый удар постиг Скродского в тот день, когда хлопоман Сурвила пригласил к себе Пянку и Ядзю, а его, отца, обошел. Разумеется, он бы все равно не поехал, но не пострадал бы гонор. Он не расстраивался бы так, если бы дочь отклонила приглашение. Но она, бесчувственная, пренебрегая его уговорами и угрозами, просто силой вырвалась на это сборище мятежников! Там, говорят, присутствовал и бунтарь в сутане – Мацкявичюс, и коновал Дымша. Недурная компания для панны Скродской!
Размышляя об этом, Скродский так злится, что не может усидеть на месте.
Раз под вечер, вскоре после неудачных переговоров с мужиками, когда Скродский чувствовал себя особенно немощным и разбитым, в кабинет вошла Ядзя. Заботливо расспросила о здоровье, укрыла ноги полами халата и – что за доброта! – предложила крепкого чая с ромом. Скродский растрогался и почувствовал прилив отцовской любви. Она защебетала о своем детстве, об играх, о множестве незначительных происшествий, воспоминания о которых и его, старика, волнуют, как ожившие отголоски чудесного прошлого. Ядзя умеет, словно бабочка, порхать с одного цветка своей солнечной юности на другой!
– Знаешь, папа, мое первое воспоминание о тебе? – спрашивает она, поглаживая отцовскую руку.
Он не знает, Ядзя никогда об этом не говорила.
– Я была совсем крошкой. Ты качал меня на руках, потом поцеловал. Бородой и усами так защекотал мне лицо, что я вцепилась тебе в волосы.
– Неблагодарная! – добродушно посмеивается он. – И я не шлепнул тебя, куда нужно?
– О, ты меня никогда не наказывал. Нет, один раз… Как сейчас пом-ню. Я тогда уже подросла. Мамы не было дома. После обеда ты очень рассердился на Мо-теюса и сильно выбранил его. Потом вызвал пана Пшемыцкого и о чем-то с ним совещался. Я играла на веранде и слышала, как ты сказал ему: "Только без шума и чтоб дети не узнали". Тогда няня заперла нас с братом в комнате на ключ. Я про все рассказала Александру, мы вылезли через окно и из-за угла дома увидели, как пан Пшемыцкий, Мотеюс и двое мужчин идут на сеновал. Мы проскользнули за ними. Но нас заметили и поймали. Ты страшно гневался, поставил меня на колени в угол, назавтра велел оставить без сладкого. За что ты тогда меня наказал, папа? – спрашивает дочь, наблюдая за отцом, хотя давно уже сама догадалась, в чем дело…
– Не помню, – немного смутившись, уклоняется от ответа отец.
Но он прекрасно помнит, как велел высечь Мотеюса за невычищенные трубки и подмоченный табак. Всем было приказано зорко стеречь детей, чтобы те не видели, как наказывают барщинников и слуг, не слышали, как кричат люди под розгами. И теперь он с опаской поглядывает на дочь. Не вспомнит ли она еще что-нибудь такое… Но Ядвига, довольная тем, что задела отца, больше уже не возбуждает неприятных воспоминаний.
Сегодня Ядвига собирается привести отца в светлое расположение духа. И снова рисует ему сцены своего детства: как он Ядзю баловал, голубил, играл с ней, рассказывал сказки, а однажды привез из Вильнюса замечательную большую куклу – с кринолином, настоящими волосами, румяными щечками, а Ядзя испугалась, когда кукла заморгала глазами и, едва нажали на животик, даже взвизгнула, Как заправский младенец.
Скродский давно так не смеялся. И сам присоединяется к воспоминаниям дочери. Напоминает ей всякие случаи, которые она уже позабыла. Словно молодеет, сбрасывает с плеч пятнадцать, двадцать лет, оживляется…
Но вот Ядвига переходит к нынешним временам. Если бы и теперь дни были подобны жемчужинам – солнечным, ясным! Без этих дрязг и споров, без людских страданий! Бедная Ядзя! Разве она не знает или только притворяется, что и во времена ее счастливого детства люди страдали еще больше, только терпели, не сетовали, не бунтовали?
Скродский не нарушает нарисованной ею идиллической картины. Пусть порадуется! Ему известна правда, а все же и он находит – тогда действительно жилось веселее! Он согласен: и теперь приятнее бы не видеть кругом несчастных лиц. Но что для этого сделать?
Ядвига убеждается, что новая тактика отлично подействовала на отца. За последнее время она усомнилась: к чему приводят эти непрестанные споры и пренебрежение к его традициям? Наконец, и отца жалко. Разве она не видит, как он хиреет и болезненно переживает каждую стычку с нею? Несмотря на свой жесткий нрав и дурные привычки, отец стосковался по ее сочувствию и любви. И все это нужно ему показать, если желаешь от него чего-то добиться. А к тому же, она ведь любит отца. Но хочет от него многого. Вот почему она теперь обращается с ним, как подобает любящей дочери.
В качестве первого опыта она попробует получить согласие на замужество горничной Катре. Исподволь подготавливает к этому отца. В различной форме повторяет все ту же мысль: как отрадно, если кругом нет обездоленных! Отец не спорит. Действительно, так гораздо приятнее.
– Но, милая Ядзя, – спохватывается он, – кто же возле тебя так несчастен? Разве что я…
– Да, папа, но наше счастье зависит от нас самих. Или, если угодно, ни от кого не зависит. А есть люди, судьба которых в твоих руках. И ты можешь сделать их счастливыми. А какое это удовлетворение – принести счастье хотя бы единому человеку!
– Кто же это такие? – спрашивает отец, смутно подозревая, что разговор приобрел опасное направление: не хлопов ли решилась защищать дочь? Еле сдерживаемое недовольство обозначается в уголках его рта.
Дочь это видит. Снова запахивая полы отцовского халата и набивая трубку его любимым табаком, небрежно роняет:
– В данном случае я имею в виду свою горничную.
– Горничную? – пан Скродский изумлен и сразу смягчается: слава богу, не хлопы и не их земля!
– Что же случилось с твоей камеристкой? – интересуется он.
И Ядвига рассказывает, что Катре мечется в хоромах, как птичка в клетке. Нужно бы ее отпустить к родителям.
Для Скродского это новость. Прежде он возмутился бы одной мыслью о потворстве прислуге, но теперь выслушивает довольно спокойно. Увлечение девкой прошло быстро и незаметно. Нет, она не доставила ему никакого удовольствия, только нос раскровянила… Стыдно и вспомнить! Потом пан Скродский решил, что она не такая уж красотка. К блондинкам он никогда не питал особой склонности. И, наконец, расстроенное здоровье…
Он тяжело вздыхает, но пытается возразить:
– А что ей делать в деревне? Разве здесь ей не лучше? Отец-бездельник с ней, насколько я слышал, не очень-то ласков.
– Папа! – громко заявляет Ядвига. – Она замуж собирается. У нее прекрасный жених.
– Кто такой? – спрашивает отец.
– Сосед ее, Пятрас Бальсис.
Скродский ожидал этого, но все же загорается внезапной злостью.
– Бальсис?! Этот наглый подстрекатель?! И ты берешь под защиту этого отвратительного верзилу?!
Он пытается встать, халат распахивается на груди, вылезает наружу ворот расстегнувшейся рубашки.
Дочь хватает его за руки, силой усаживает:
– Тебе нельзя волноваться. Садись и хоть раз спокойно выслушай.
Она заботливо приводит в порядок его халат, застегивает ворот, укутывает ноги и подает горячего чая. Потом начинает толковать о Катре и Бальсисе. Она старается говорить убедительно. Нужно входить в положение каждого, кто бы это ни был. Теперь и среди крестьян появляются мыслящие люди. Изменилась обстановка, обострились отношения, и все это толкает их на борьбу, к мятежу. Они отстаивают свои права. Вероятно, таков и Пятрас Бальсис.
Заметив, что не слишком убежденный ее аргументами отец снова начинает ерзать, Ядвига прибегает к иным доказательствам:
– Разумеется, я понимаю: очень много неприятностей от сорвиголов, подобных Бальсису или этому Пранайтису с его шайкой разбойников, который, как говорят, грозит тебе местью. Разве не лучше от них избавиться, пока не поздно? Скажем, от Бальсиса. Это нетрудно.
И Ядвига излагает план Пятраса: поселиться после женитьбы где-то в Жемайтии и в Шиленай больше носа не показывать. Она убеждает отца, что это спокойнее и безопаснее, чем превратить Бальсиса в лютого врага. Хватит уж одного Пранайтиса!
Новые аргументы поколебали пана. Действительно, пусть детина женится на Катре, а потом чтобы они оба хоть сквозь землю провалились! Но тут Скродский снова вспоминает наглость парня и по-прежнему дрожит от ненависти. С большим трудом успокаивает Ядвига мстительные порывы отца. Наконец пан Скродский уступает: он даст знать кедайнскому исправнику, что Пятрас Бальсис помирился с поместьем. А Ядвига склонит отца Катре согласиться на свадьбу.
Ядвига не может сдержать радость: добиться такого успеха!.. Поторговаться бы с отцом и насчет земель шиленцев! Но она предусмотрительно воздерживается. Тут уж отец так легко не сдастся. Вмешается и Юркевич. Интриган опутал отца, как паук муху, ведь этим он и живет. Ну, наступит и его черед! А пока что пусть за шиленцев заступается Виктор Сурвила со своим юридическим арсеналом. Он обещал и, без сомнения, выполнит обещание.
По совету дочери Скродский ложится отдохнуть. Она укутывает его, набрасывает на ноги плед, целует в щеку и уходит. Ей не терпится сообщить радостную весть Катрите.
Оставшись один, Скродский раздумывает о дочери, об этом необычном разговоре. Самочувствие у пана неплохое, а настроение неустойчивое. Да, он сделал красивый жест, совершил гуманный поступок. Ядзя права – приятно осчастливить хоть одного человека, а он одарил счастьем целых двух! Девка – бог с ней, но детина этого недостоин, недостоин, недостоин!
Скродский встает, нервно расхаживает, потом успокаивается и снова обдумывает свою беседу с Ядзей. Нет, слова, данного дочери, он не нарушит, однако хорошо было бы при первой возможности свернуть парню шею!
И чтоб верзила больше не болтался по владениям Багинай!
Даже самому Скродскому странно – такая ненависть к парню и равнодушие к девушке! Усевшись на диван, пытается над собой иронизировать: до чего ты дожил, надменный пан Скродский, пожиратель женских сердец! Ударился в гуманность, в филантропию… Чего доброго, сделаешься еще хлопоманом. Вытянувшись всем телом, он страдальчески морщится: острая боль, как иглой, пронзает бедра. Опять эта подагра – ох, стареешь ты, пан Скродский…
А Ядвига ищет свою горничную. Нашла ее в саду. Катре, взобравшись на скамеечку, срывала плоды с нижних веток. Григялис что-то говорил, она звонко смеялась в ответ. Яблони гнулись от румяных осенних плодов. Садовник Григялис длинным шестом срывал яблоки, но они не падали на землю, а удерживались расщепленным концом жерди.
– Катрите! – окликнула Ядвига. – Иди-ка сюда!
Та соскочила со скамейки и, выбрав самое лучшее яблоко, понесла паненке. Они присели, и Ядвига передала Катре радостную новость.
– Неужто правда?! – слезы появились на глазах у девушки. Она поймала руку паненки, хотела поцеловать, но Ядвига сама поцеловала горничную, и обе стали совещаться, как побороть упорство Кедулиса. Узнав, что Пятрас собирается просить помощи у Мацкявичюса, Ядвига решила повидать ксендза. В успехе не было никаких сомнений. Поблагодарив паненку, Катре поспешила к Григялису похвалиться своим счастьем.
А Ядвига погрузилась в раздумье. Ее радует одержанная победа, понемногу ей удается исправить обиды, причиненные отцом. Барщина облегчена, суровые наказания и порка прекратились, а теперь удалось отстоять счастье двоих людей.
А личное счастье ее, Ядвиги? Разве вправе она о нем мечтать, когда кругом столько нужды и муки, а впереди такие большие задачи?
Вправе или нет, но Ядвига сидит и мечтает. Таков уж сегодняшний день – романтические воспоминания, грезы. И осенняя природа возбуждает грусть и мечтательное настроение. Надвигается вечер. В липах парка и яворах аллеи шуршит ветер. Изредка упадет большой желтый лист с клена или каштана. Вдалеке за деревьями разгорается закатное небо. В саду пахнет спелыми яблоками. Ветви деревьев еле удерживают налитые солнцем румяные плоды. Осенние груши, еще заметные в темно-зеленой листве, покрытые синей матовой краской сливы возбуждают радость и гордость садовника Григялиса.
Ядвига вспоминает, как сказочно выглядел сад Сур-вилы, когда они в тот вечер гуляли с Виктором. Виктор был к ней так добр, заботлив, внимателен. Они задушевно беседовали, многое воскресили в памяти, чего-то коснулись намеками, недомолвками… Ничего решительного не было сказано, но расставались они уже не чужими.
Ядвига часто думает о том вечере. Она ждет, что Виктор ее навестит. Но между ними – отец Ядвиги, а между отцом и Виктором – эта тяжба за землю Шиленай.
Темнеет. Мимо Ядвиги Григялис с Катрите тащат по дорожке плетенку крупных, румяных яблок.
Внезапный порыв ветра гонит мелкие пожелтевшие листья.

XXXV
В ближайшее воскресенье после обеда Катре выбралась в Шиленай. Пан позволил, теперь остается только добиться отцовского согласия, сообщить Пятрасу и идти с оглашением к ксендзу Мацкявичюсу.
Катрите почти всю ночь не спала, полная тревоги. Паненка Ядвига обещала ей вмешаться, если Кедулис будет упрямиться. Агота поучала Катре, что сказать отцу, как держаться, а коли дойдет до крайности, так и пригрозить: сбежит, мол, она с Бальсисом без родительского благословения.
Приятно сознавать, что паненка и Агота на ее стороне, приятно выслушивать их советы. И готовность дать отцу отпор не ослабела, а еще более окрепла.
Катре шла по высоким лугам к родному селу, спокойная и сильная. С утра было прохладно и туманно, но к обеду распогодилось, и теперь только дальние деревья и края полей кутались в голубовато-серую дымку. На уцелевших стебельках вились и сверкали на солнце тонкие, как шелк, паутинки. Другие, покрупнее, белые и мягкие, как шерстяные нити, легко трепетали, цепляясь за кустарник.
Где-то высоко-высоко с криками тянулись к югу журавли. Катрите остановилась, закинула голову, прикрыла ладонью глаза, но напрасно старалась уследить за косяком, пролетающим в посеревших просторах осеннего неба. Сколько может вспомнить, с самых малых лет, еще пастушкой каждую осень слушала журавлей. В нынешнем году в первый и, может, в последний раз услышала их на родных полях. Улетит и она, как эти птицы, в чужедальний, неведомый край.
Дома никто ее не ждал, только пес Маргис выскочил из-за гумна, затрусил навстречу, с визгом прыгал у ее ног. Да, Катрите и сегодня не забыла принести ему гостинца – куриную ножку с барского стола.
С ясного, солнечного двора не хотелось заходить в темную, пропахшую дымом избу. Катре уселась на при-клеток и озиралась кругом. Маргис растянулся у ног. Во дворе все выглядело по-старому, а все-таки не так, как при ней. Внимательно вглядишься – везде запустение. Двор давно не метен и не прибран. Везде валяются солома, щепки, листья. Сруб колодца грязный, журавель искривился, вместо крюка для ведра болтаются перевязанные гужи. Оконца грязные, распорки расхлябаны, кое-где и стеклышко выпало. По всему видно, нет здесь молодой домовитой хозяйки, ее заботливого взгляда.
При виде такой неряшливости Катрите не стерпела, ухватила брошенный веник и принялась сметать с приклетка всякий мусор и куриный помет. Потом подошла к колодцу. Сколько раз вытаскивала она этим скрипучим журавлем ведро с переливающейся через край водой, носила в избу, наливала в горшки, мыла их, чистила или тут же во дворе выплескивала в ясли поить скот. Иногда, расшалившись, наклонялась и заглядывала, как там, глубоко-глубоко, в светлом круге отражается ее собственная голова, косы, глаза. Страшно становилось Катрите, она поспешно откидывалась, зацепив ведро за крюк, опускала вниз и, почувствовав привычной рукой, что оно наполнилось, натужно вытаскивала воду. А сколько раз, стоя у колодца, видела, как проходит мимо Пятрас, он свистел и окликал ее, и они обменивались словом-другим, улыбкой или хотя бы взглядом.
Отчистив колодезный сруб и посыпав двор песком, Катре пошла было за граблями. Но скрипнула дверь – и во двор вышла мать. От изумления даже руками развела:
– Катрите! Почему же не заходишь в избу, доченька? И что за работу придумала в праздник?
Дочь побежала навстречу, целовала матери руки, оправдывалась:
– Ничего, мамочка. Какая же это работа? Думала – хоть мусор малость отскребу. Может, вы прилегли после обеда.
– Отец и сейчас еще храпит. А Ионас с Урше где-то в деревне, баклуши бьют. А ты-то как? – спросила она, заботливо оглянув дочь.
– Все хорошо, мамочка, пан согласен, чтоб я за Пятраса вышла. Скоро свадьбу сыграем, – говорила она с просиявшим лицом.
Просветлела и мать, даже верить не хотела.
– Боже ты мой!.. Что говоришь, доченька! Пан согласен?
– Согласен, мамочка.
– И отпустит тебя из хором?
– Отпустит.
– Слава тебе господи! – набожно сложила руки Кедулене. – Одна забота с моей головы прочь. Когда же уйдешь?
– Как только пожелаю, мама. Когда уговоримся с Пятрасом о свадьбе.
Мать опять скорбно закачала головой:
– Мы бы сговорились, доченька. Но отец! Знаешь ведь…
– Затем я и пришла, мама. Потолкуем с отцом по-настоящему. Может, утихомирится, как увидит, что у нас все уговорено и даже пан не перечит.
В хате послышался кашель, кряканье, скрип дверей, и на пороге появился Кедулис. Протерев глаза, зевнул, поглядел на солнце и, не заметив женщин на приклетке, вернулся в избу. Минуту спустя вышел в полушубке, подпоясанном гужами, в напяленном картузе, с палочкой, Видно, куда-то собрался, вернее всего – в корчму.
– Отец, иди-ка сюда! – окликнула мать. – Катрите тут.
Кедулис неохотно обернулся, немного постоял, словно колеблясь, что теперь делать. Нетвердым шагом, тыкая палочкой в землю, направился к женщинам. Катре встала, поцеловала ему руку.
– Стало быть, пришла, – лениво заговорил отец, нашаривая трубку в карманах. – Пан позволил?
– Паненка разрешила. У пана спрашивать незачем, коли паненка отпускает.
– Обоим служишь. Жалованье пан платит.
– Уплатит, когда кончу служить, а теперь ежели получаю, то от паненки.
Кедулис пытливо вгляделся в дочь и уже помягче спросил:
– Так, может, принесла денег? Много всяких дел набралось…
Да, у Катрите было несколько ауксинасов. Но она не собиралась отдавать их отцу. Знала – все равно пропьет.
– Нет, отец, – заявила она твердо. – Хоть и были бы у меня деньги, а не дам. Самой понадобятся.
Кедулис вспылил:
– Какие у тебя надобности? Не одета? Или не жравши?.. Так чего притащилась, коли не желаешь отца выручить?
Катрите поняла – дела ее неважные. Отец станет еще несговорчивей. Может, отдать ему эти монетки? Но нет! Получит жалованье, тогда даст. А теперь не станет ему потакать. Надо сегодня договориться насчет свадьбы. Не обращая внимания на злобу отца, заговорила:
– Отец, как получу жалованье, тогда посмотрим, что с ним делать. Ждать долго не придется. Служба моя скоро кончится. Пан позволяет выйти замуж за Пятраса Бальсиса. Я и пришла просить, чтобы мама и отец нашей свадьбе не противились.
Кедулису словно кто горячих угольев за пазуху напихал. Он вздрогнул, замахал руками, выпучил глаза, не в силах слова промолвить, будто дыхания лишился. Потом разразился угрозами и проклятиями:
– Бесстыжая!.. Лентяйка!.. Благословение?.. С этим проходимцем?.. Мятежником?! Вон с моих глаз! Шкуру спущу!
И уже замахнулся палкой. Но тут подбежала мать, схватила старика за руку:
– Отец, взбесился, что ли? Не ори, как полоумный. Соседей постыдись. Что люди скажут? Зайдем в избу, посоветуемся. Ведь не чужая – родное дите.
Уцепившись, уже не отпускала руку мужа, за другую его руку ухватилась дочь, и так все втроем ввалились в хату. Отец, отдуваясь, опустился на лавку у стола, мать – рядом, а Катре осталась стоять, упираясь в дверной косяк. В избушке было светло – солнечная полоска, пройдя через крайнее окошко, извивалась от стола до середины пола. На отцовской постели у печи сквозь край дерюжного одеяла торчала солома.
– Отца не чтишь, на каждом шагу перечишь, – давясь кашлем, продолжал старик. – Не будет тебе счастья в жизни, коли пойдешь против моей воли.
Нахмурив брови и прикусив губы, дочь смотрела на него. Не выдержав ее взгляда, отец отвернулся и стал искать трубку.
Катре заговорила дрожащим от волнения, но суровым голосом:
– Лентяйкой меня не обзывай. Не ходила я на барщину, как Урше с Ионасом. Но лентяйничала ли я дома, пускай о том матушка скажет.
Мать только руками замахала:
– Что ты, доченька! Без тебя во что дом превратился! Стыдно перед чужими людьми. Ни в огороде, ни в поле не управляемся. От всей деревни отстаем.
А дочь продолжала:
– И не встречали вы неуважения, батюшка! Когда это я вас не слушалась? В поместье меня погнали, пану продали – и то я не противилась.
– Не съел тебя пан. Жива и здорова. Сама барыней стала, потому и ерепенишься. Прежде не слыхивал я от тебя такого. Давно ты гужей не пробовала.
– Я уже не пастушка! Ты мне гужами не грозись!.. – во внезапном приступе ярости закричала дочь.
Кедулис вскочил, схватился за посох:
– Эдак ты с отцом? Убью!..
Мать повисла на руке отца и толкнула его назад на скамью. Дочка не шелохнулась. Только еще крепче сжала губы, красные пятна пошли по щекам.
Но овладела собой и обратилась к отцу ровным голосом:
– В первый раз тебе перечу. Ради жизни моей, моего счастья, прошу, разреши мне выйти за Пятраса Бальсиса.
– Не позволю! – просипел отец.
Катре и мать принялись убеждать, что лучше Пятраса не найдешь мужа по всему приходу. И что Катре выгодно выйти замуж в дальний богатый край, породниться с семьей Бальсиса. От этого будет польза и старикам.
Отец упорно бубнил:
– Не выйдет, не позволю!..
– Не позволяй. Я знаю, что сделаю, – сурово оборвала дочь и подошла к матери. – Мне уж пора, мама. Будь здорова.
Она поцеловала матери руку и вышла во двор. Отец остался сидеть, злобный, мрачный, дрожащими пальцами набивая трубку.
Распрощавшись с плачущей матерью, Катре пошла в поместье. Спор с отцом не выходил из головы, а сердце кипело досадой и решимостью сломить отца. Правильно отгадал он перемену в дочери и выразил ее по-своему: барыней стала, прежде я того не слыхивал, давно ты гужей не пробовала… Катре не стала барыней, но, отвыкнув от постоянной ругани и побоев отца, как бы выпрямилась во весь рост, и характер ее окреп настолько, что ни злоба, ни угрозы отца не в силах ее сломить. А любовь к Пятрасу овладела всем ее существом. В трудные минуты воспоминания о Пятрасе поддерживали в ней непреклонную волю. Катре твердо верила в его силы и в свою выносливость.
Катре успокоилась и стала обдумывать, как пересказать Ядвиге и Аготе стычку с отцом. Паненка, конечно, за нее вступится, но послушается ли отец и паненки? Все равно она пойдет за Пятраса, хоть и без отцовского благословения.
Неожиданно у Катре появился еще один заступник, на которого она совсем не рассчитывала.
На другой день в поместье пришел Кедулис. Отыскав Пшемыцкого, принялся рассказывать, что вчера приходила дочка. Ловя руку управителя для поцелуя, Кедулис молил сделать так, чтобы Катре осталась служить в хоромах, не выходила замуж за этого сорвиголову. Но Пшемыцкий был другого мнения. Ему надоели вечные скандалы из-за этих девок. Хватит и одного головореза – Пранайтиса! Накликать на свою голову второго – еще пострашнее? Ни за что! Пусть Кедулис забирает свою Катре и поскорее Проваливает! Так посоветовала пану Скродскому панна Ядвига.
Грубо оттолкнув опешившего старика, Пшемыцкий сердито цыкнул:
– Задумал пану Скродскому перечить? Барин согласился на брак и все Бальсису простил, Панна Ядвига для Катре подарок готовит. А ты тут скулишь, вместо того чтобы радоваться! Ступай домой свадьбу готовить.
Кедулис не поверил своим ушам. Куда теперь идти, к кому обращаться? Нет, коли управитель говорит – значит, так оно и есть. Расстроенный и сердитый, возвращался старик в село.
Через несколько дней на Кедулиса обрушился новый удар. Ксендз Мацкявичюс, возвращаясь от больного, заехал в Шиленай. Завидев нежданного гостя, Кедулис хотел уже забиться под навес, но ксендз зычно окликнул:
– Иди сюда! Привез тебе хорошую весть.
Кедулис нехотя вылез и, стряхивая прилипшую к сермяге труху, пошел встречать Мацкявичюса. С огорода подоспела Кедулене, и все втроем вошли в избу.
Недолго прогостил ксендз у отца Катрите. Минуту спустя он снова появился во дворе, сопровождаемый обоими стариками. Сдвинув шляпу на затылок и похлопывая Кедулиса по плечу, повторял: