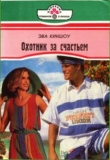Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)

XX
Через неделю после уборки в хоромах к Кедулисам прискакал войт Курбаускас с панским приказом доставить Катре в усадьбу – паненка через несколько дней приезжает. При этом войт прикидывался чуть ли не благодетелем.
– Глянь-ка только, Кедулис, какое тебе счастье привалило! – говорил он, подбоченясь. – Коли сумеет дочка паку потрафить, и барщину и повинности вдвое скостят, и выкуп будет не тяжелый. Ну, девица, собирайся! Завтра утром явись в поместье к пану Пшемыцкому.
Каждое слово войта было для Катре как нож острый. Напрасно поглядывала она на родителей. Мать вздыхала, украдкой смахивая слезу, а отец злобно косился: видно было, что не потерпит никаких прекословий ни от дочери, ни от матери.
– Ладно, пан войт, – с низкими поклонами провожая Курбаускаса, лепетал Кедулис, – завтра с утра сам ее, папу управителю предоставлю.
Избегая причитаний старухи и попреков дочери, он ушел в кузницу приварить лезвие к искрошившемуся топору.
По дороге размышлял. Дочь он не жалел – важнее ее заработки и панское расположение. Только Мацкявичюса боязно. Но стоит ли трусить?.. Ксендз грозился проклясть и не принять на освященное кладбище, ежели он свяжется с жандармами и полицией, выдаст бунтарей. Ну, в полицию он на негодников не донесет, а пана слушаться обязан. На то и крепостной. Пан требует, чтобы Катре работала в поместье, так как тут противиться? Ксендз это должен понимать. И Кедулис уже спокойно размышлял о том, как завтра поведет дочку в хоромы.
А Катрите укладывалась и посматривала, как бы сбегать навестить подружек, особенно Генуте и Онуте. Село уже знало – Катре Кедулите забирают в имение. Всяко об этом толковали. Одни сочувствовали, жалели, что, угодив в лапы к Скродскому, зазря может пропасть такая красивая девушка; другие завидовали Кедулису – все видели, что управитель и войт уже не так его донимают с барщиной и повинностями, как прежде.
Когда Катре входила к Бальсисам, Винцас с Гене только что вернулись с барщины, а отец с Онуте – со своей полоски: ячмень посеяли. Винцас был мрачен, сердит, Гене – печальная и усталая. Управитель и войт гоняли их на самые трудные работы, а приказчик нет-нет да и шнырял кругом, шпынял и грозил пожаловаться пану на их нерадивость и непослушание. Невеселым выглядел и отец. С севом запоздали, семян не хватает, а управитель и войт приказали засеять все поле. А то, чего доброго, этот ирод еще отберет хозяйство, сгонит с земли.
– Хоть ты так, хоть ты эдак, хоть из кожи вон лезь – нету жизни, – сетовал старик.
Бальсене, вздыхая, торопила Онуте доить коров. Пеструха отелилась, да и Буренка отгулялась на пастбище и стала давать больше молока. Это было единственной отрадой старушки – есть теперь чем похлебку забелить, а коли хозяйничать побережливее – сможет и сырок отжать, и кусок масла сбить.
Катре с Гене на лавочке под кленом, взявшись за руки, толковали о своих бедах и горестях.
– Работа там, говорят, не трудная. Но дома, хоть и тяжелее, все-таки сердце спокойно. А там… – озабоченно и пугливо поглядывая в сторону поместья, жаловалась Кедулите.
– Ах, везде хлебушко с коркой, как отец говорит. А меня-то с Винцасом исполосовали окаянные! Сама знаешь… И теперь еще болит. Ничего, заживет… А мы с тобой давай не унывать, Катряле, – утешала Бальсите подружку. – Может, и не долго уж нам терпеть. Винцас был V дяди Стяпаса. Так дядя подбадривал, велел держаться, носа не вешать. Молодой Сурвила в Петербурге что-то готовит против Скродского. Винцас! – подозвала она брата. – Присядь-ка сюда.
Приглаживая взъерошенные волосы, Винцас сел, подошли и отец с матерью.
– Я к вам проститься, – взволнованно произнесла Катрите. – Завтра с утра в поместье ухожу.
– Не за сине море, – пошутил Бальсис. – Не в рекруты, девушка. До поместья рукой подать. Задумала – и под вечер прилетела по лужку, как перепелочка.
Но Катре было не до шуток. Теребя краешек косынки, она еле сдерживала слезы.
– Ой, батюшка, для меня поместье, как в той песне – за морями, за тростниками. Высоких хором, где полы блестят, где окна, что зеркала, боюсь пуще темницы. Да еще пан!
Бальсене глубоко вздохнула и принялась наставлять по-матерински:
– Остерегись, дитятко. Не поддавайся адскому искушению.
– Да что вы, матушка, – вскинулась Катрите. – Да я бы ему глаза выцарапала! Но что подумает Пятрас? Все уговаривал меня не ходить в имение.
– Сразу он не узнает, – успокаивал Винцас. – А я улучу денек, сам к нему поскачу и все объясню. Ты же говорила – есть и в имении добрые люди, найдется, кому за тебя заступиться.
– Правда, есть, – горячо подтвердила Катре. – Не будь их – хоть убей, не пошла бы туда.
Понемногу у нее появились проблески надежды.
– Винцас, – попросила Гене, – расскажи, что слыхал от дяди Стяпаса. Катрите все смелее будет.
Но Винцас недовольно глянул на сестру.
– Вам только обмолвись, сразу все растрезвоните. Дядя Стяпас остерегал болтать лишнее. Как бы до пана не дошло.
– Да что ты?! Неужто я с паном заодно? – пристыдила его Катре. – Коли что и узнаю, как могила буду молчать. Расскажи – может, на сердце станет спокойнее.
– А слышал я, – заговорил наконец Винцас, – что молодой пан, Виктор Сурвила, знает, что нас Скродский несправедливо тиранит барщиной и повинностями, что нет у пана права нас из усадеб и с земли согнать. Знает он, куда можно на барина пожаловаться, а тогда приедут большие начальники инвентаря проверять. Потому, говорит, надо нам и дальше крепко стоять и не слушаться Скродского, коли нас с земли погонит. А летом приедет и сам паныч Сурвила. Кроме того, говорит, и восстание, может, будущей весной начнется. Молодой пан пойдет, и дядя Стяпас пойдет, и Пятрас, и я тоже. И у Скродского в поместье есть такие, что пойдут, – кучер Пранцишкус и работники. Тогда конец Рубикису. Не сможет больше нас пороть. – Винцас запальчиво погрозил кулаком в сторону имения.
А Гене подбодряла подругу:
– Слышишь, не пропадешь.
– Да я и не боюсь, – возражала просветлевшая Катрите. – Я больше, как бы Пятрас… Но коли Винцас и все вы за меня слово замолвите… Пусть он мне верит. Уж я за себя постою.
Неожиданно в калитку заглянул Кедулис. Увидев дочь, подошел к сидевшим.
– Катре, – сердито окликнул он, – ступай домой доить. И вечерять пора. Урше пришла, с ног сбилась. Где ж ей повсюду одной поспеть!
Не проронив ни слова, Катрите поднялась с места, поцеловала старикам Бальсисам руку и, сопровождаемая девушками и Винцасом, пошла домой.
А Бальсис заговорил с Кедулисом:
– Присядь, соседушка, передохни. Живем поблизости, да редко встречаемся. Возгордился, что ли?
– Где мне, сиволапому, возгордиться… – с горькой усмешкой отозвался Кедулис. – Это вы тут все учены? мудрецы, против панов, против власти рога выставляете. Запретные писания держите. Повстания, мятежей ожидаете.
– Правда, – вздохнул Бальсис. – И я этого не одобряю, сосед… Да разве молодых переубедишь?
– Сызмала не следил, волю давал. Нечего было Стяпаса слушать. Так где теперь Пятрас?
Но старый Бальсис был настороже:
– А кто его знает. По людям скитается… Думали мы к осени, может, с вашей Катре обвенчать. Но теперь все по-иному вышло.
– Все равно я бы Катре за Пятраса не отдал, – мрачно перебил Кедулис.
– Чего так, сосед? Они ладят. Я бы им надел уступил. А Винцаса куда-нибудь в примаки… Прокормились бы. Черный хлеб – не голодуха.
– Из той соломы зерна не намолотишь, – злобно заворчал Кедулис. – Будь здоров, сосед.
Он глубже нахлобучил обломанный картуз и вышел со двора.
Солнце уже зашло, но еще не стемнело. Майские сумерки сгущались медленно, незаметно распространяясь по дворам, по пропахшим дымом избам, придорожным кустам и деревьям. Но в вышине еще совсем ясно. Закатный небосклон пылает огненными зорями, а середина неба над головой глубокая и синяя, и ни одна звезда еще не показывалась на темно-лазурных высотах.
Кедулис, выйдя от Бальсисов, остановился, понурив голову, в тяжелом раздумье. Потом махнул рукой и решительно зашагал не домой, а к другому концу села, в корчму. Это было каменное строение, с двумя половинами, снаружи обшарпанное, но еще неплохо сохранившееся. Просторный двор за высоким забором, а в углу – навес и закуток для телег и лошадей проезжающих. После обета трезвости все окрестные шинки позакрывались. А эта корчма, прижавшись к большаку, пользуясь давней славой, привлекала не только проезжих и прохожих, но и жителей ближних деревень, которые устояли перед присягой на трезвость и по-прежнему блюли обычай старины.
Войдя в корчму, Кедулис шагнул направо, к печи. Там, в укромном уголке, любил он примоститься на лавке с привычной полуквартой водки. Людей было немного. Слева, за длинным, во всю стену, столом сидели трое мужчин, в противоположном углу еще несколько, похожие на захудалых шляхтичей, облокотившись на маленький столик, потягивали пиво и тихо переговаривались. Недалеко от дверей, выставив ноги, развалились жандарм со стражником, молча посасывая трубки и наблюдая за посетителями.
Кедулис узнал за большим столом приказчика Карклиса, Курбаускаса и десятского Лаздинскаса и отвернулся. Не хотелось, чтобы его узнали. Лучше бы совсем улизнуть, но тут подоспел корчмарь с обычным вопросом:
– Ну, Кедулис, будешь пить?
– Полкварты, – понурив голову, отвечал Кедулис.
– А деньги есть?
– Нету. В долг давай.
– А знаешь, сколько уже в долг выпил?
– Тебе лучше знать. Черкани на стенке еще одну, – указал он головой на ряд черточек, выведенных мелом на закопченной стене.
Корчмарь подсчитал отметины.
– Две дюжины полукварт, дюжина кварт! И что только ты себе думаешь, Кедулис? Почти полгода пьет и мне за горилку – ни гроша. Ведь уже пять ауксинасов задолжал. Нет, больше тебе не дам.
Торг возникает всякий раз, когда ни приходит Кедулис. Он знает, что и сейчас получит водку, только шинкарь становится все несговорчивее. Скоро перестанет давать в долг, а то и войту пожалуется. Кедулис чувствует – надо его ублаготворить.
– Послушай, – дернул он корчмаря за рукав, – дай мне полкварты. Сразу за все рассчитаюсь. Дочка идет в поместье паненке прислуживать. Жалованье получит.
Тот не знает: верить или не верить? Такое необычайное обстоятельство!
– Не вру я, – твердит Кедулис. – Завтра с утра Катре в поместье повезу. Паненка приезжает из Варшавы. Давай! И добавь ломоть хлеба с солью. И луку. Поверь, не вру.
Корчмарь верит. Ставит полкварты водки, сыплет на лавку щепотку соли, кладет кусок хлеба и луковицу, Потом на стенке выводит две новые черточки.
А приказчик и десятский обратили внимание на переговоры Кедулиса с корчмарем. От войта они слышали про сделку насчет Катре. Приказчик хитро перемигнулся с десятским и крикнул:
– Кедулис! Чего один торчишь в углу? Иди к нам. Веселее будет.
Кедулис неохотно обернулся. Не охотник он до компаний, лучше бы одному выпить. Но приказчик уже стоял рядом, одной рукой ухватил полукварту, другой вцепился в рукав и потащил к столу.
– Садись, Кедулис, – уговаривал, подвигаясь в сторону, войт. – Не гордись, что дочку в поместье отпускаешь. Барышней она будет! Ого! Аготино место займет… Та уже состарилась. А Катре – девка загляденье. Коли захочет, далеко пойдет. Ого! Садись, Кедулис, выпьем, – полунасмешливо; полувсерьез молол непослушным языком уже крепко подвыпивший войт.
Кедулис не посмел перечить. Перебрался к помещичьим челядинцам, налил глиняную чарку, выпил за здоровье войта и, наполнив, подал Курбаускасу. Когда чарка обошла круг, полукварта уже была пуста.
– Не скупись, Кедулис, – снова принялся уговаривать войт, по-приятельски толкая в бок старика. – Катрино жалованье пан чистоганом выплатит. Что ты пропьешь – то твое. А корчмарь обождет. Эй, корчмарь! Кварту! И селедку с луком. Кедулис дочку в имение отправляет. Почти что как свадьба, надо вспрыснуть.
Корчмарь, подав водку с закуской, чертил на стене лишь одному ему понятные знаки. Жандарм со стражником, курившие у дверей, перекочевали на лавку, поближе к собутыльникам. Приказчик подмигнул войту.
– Кедулис, – смекнул тот, – нехорошо начальство не угощать. С полицией всегда надо по-хорошему. Ваши благородия, – обратился он к начальникам, – милости просим. Не повредит по чарке, а?
Повторять приглашение не пришлось. Но кварта уже была пуста. Войт, приказчик и десятский чувствовали себя в самый раз, да и Кедулис поглядывал смелее.
– Корчмарь, полгарнца! – рявкнул он, стукнув посудиной по столу. – И селедку с луком!
Тот возился у шкафов неохотно, но авторитет войта перевесил недоверие к Кедулису. Полугарнцевая и сельдь появились на столе. Глиняная чарочка снова заходила по кругу, языки ворочались все проворнее. Чем больше пили, тем чаще звучало имя Катре. Ее будущая служба у пана Скродского, видно, возбуждала у челяди любопытство и зависть.
– Скажи-ка на милость, Кедулис! – горланил войт. – Не серчай! Уж каким ты казался замухрышкой! Сколько раз я на тебя собирался пану донести! И постройки запущены, и поле плохо обработано, и скотина твоя еле ноги волочит. Э, думаю, а ну его к лешему! Пусть себе небо коптит. Мало ли таких! С одним делом тебе повезло – с дочкой. Вот и попробуй скажи, что девке не надо красоты! Что красная девка – не клад!
Все покатывались с хохоту, а пуще всех – стражник с жандармом.
За прибаутками и разговорами никто не обратил внимания, как вошли четверо молодых, рослых мужчин, сели с другого конца стола, потребовали полкварты водки, распили по чарке и стали с любопытством прислушиваться к застольной беседе. Корчмарь не зажигал огня, в два окошка с запада еще светили закатные зори, а в окно с противоположной стороны сочилась темнеющая синева. В сумерках сероватым облачком плавал дым от трубок, белел длинный стол, чернели силуэты голов.
Приказчик Карклис похлопывал Кедулиса по плечу и скрипучим голосом попрекал:
– Прятал ты дочку, Кедулис. На барщину не пускал. Я бы заставил поплясать твою раскрасавицу. Была бы у меня шелковая, как овечка. Эх, люблю пригожих девок погонять!
Но возмущенный войт злобно прикрикнул:
– Попридержи язык, дуралей! Не по твоему носу Кедулите! Она будет в панских хоромах разгуливать. Не ты, а она тебя погоняет! Как бы тебе не пришлось у ней ручки целовать.
Десятский и жандарм с полицейским помирали со смеху.
Но Карклис упорствовал!
– Как она там погуляет, это мы посмотрим. А до сей поры кем она была? С Бальснсом любовь крутила! А захоти я – сто раз бы ее Бальсиса в корыте у Рубикиса разложил!
– Никогда она с Бальсисом не хороводилась! – с неожиданной яростью закричал Кедулис. – Бальсису бы моим зятем ни в жисть не бывать.
Услышав эту фамилию, жандарм и стражник встрепенулись. Обоим было предписано разыскивать в этой округе Бальсиса. Но, опасаясь в тревожное время болтаться на людях, они предпочитали отсиживаться в корчме в надежде услышать там что-нибудь о преступнике.
– Бальсис? А где теперь Бальсис? – не выдержал жандарм.
– Ищи волка в лесу, а не на большаке, – презрительно осадил его войт. – Да и сам ему в когти не попадись. С Бальсисом, брат, шутки плохи!
– Нам бы его только схватить, – хорохорился стражник. – Сразу руки в железки – и в кутузку сукиного сына!
Тут заговорил десятский:
– Толкуют, будто Бальсис в чащу ушел, разбойников собирает, чтоб поместья громить.
– Не Бальсис, – поправил приказчик, – а Пранайтис. Этот будет за свою девку Еву Багдонайте мстить.
– А я слыхал, что Дзидас Моркус, – перебил войт. – А вернее сказать – все втроем.
– Эх, не угодили они, чертовы дети, драгунам в лапы! Не пришлось бы нам теперь, как собакам, их следы разнюхивать! – сокрушался жандарм.
Десятский боязливо, приглушенным голосом решился открыть секрет:
– Вчера, как возвращался из Крекенавы, видал в лесу Пранайтиса.
Все уставились на десятского.
– Брешешь! – не поверил войт.
– Не сойти мне с этого места! – божился тот.
Жандарм злобно ощерился:
– А властям донес?
– В Сурвилишкис дал знать? – вмешался стражник.
– Мне первому сразу же надо было сказать, – крикнул войт.
– Так они вчетвером были! – оправдывался десятский.
– Час от часу не легче! – заорал жандарм. – Мы бы помощь из Паневежиса вытребовали.
– Зачем из Паневежиса? – кипятился стражник. – Мы бы сами с несколькими ребятами из поместья их изловили. Награду бы заработали. Медаль! С Бальсисом или Моркусом, может, потруднее, а уж Пранайтиса живо бы скрутили!
Четверо сидевших на другом конце встали и как ни в чем не бывало подошли к спорщикам. Никто не успел и ахнуть, как двое схватили жандарма и стражника за руки, а другие двое мгновенно отобрали у них пистолеты. Приказчик и войт бросились было на выручку, но получили по такой затрещине, что закачались и шлепнулись на лавку. Тем временем подскочили и те четверо, что походили на шляхтичей, и помогли совладать с носителями власти.
Во время общей свалки Кедулис с десятским успели юркнуть в самый темный угол и улизнуть за дверь. Одного из нападавших они узнали: Пранайтис!
Нападавшие схватили и вывели врагов во двор, пригрозив кулаками, загнали под навес. Там, в углу, торчали две складные колодки, в которые забивали рекрутов. Одна колодка, как нарочно – на четверых. Усадили жандарма, стражника, войта и приказчика у задней стенки, просунули ноги в вырубленные отверстия нижней колодки, верхнюю захлопнули, а края накрепко забили железными крючьями.
Войт с приказчиком тоже узнали Пранайтиса.
– Юозас, – взмолился войт. – Отпусти. Что я тебе дурного сделал?
Пранайтис злобно оскалил зубы:
– Может, меня ты, пан войт, и не тронул. Но с другими каков был? А рекрутов кто ловил? Не ты ли? Кто их в колодки забивал? Отведай и ты этого угощения. Ничего с тобой не случится, гад ты эдакий!
Полупьяный приказчик, откинувшись к стене, злобно шипел:
– Пранайтис, прохвост! Обалдел?! Попомнишь ты меня! Отпусти – тогда прощу.
– Еще грозишься, поганое рыло! Привык плеткой и дубинкой размахивать. Меня не запугаешь! А будешь еще людей увечить – поймаю и прикажу повесить, как пса.
Полицейский со стражником тоже ругались и стращали розгами, острогом и каторгой, но, убедившись, что этим ничего не добьются, принялись упрашивать по-хорошему:
– Чем мы виноваты? Такая у нас собачья служба, – чуть не хныча, причитал один. – Присягнули царя и православие защищать. Куда пошлют, туда и идем.
– Оружие отдай, – упрашивал второй. – За оружие со службы выгонят, накажут. Куда деваться? Жена, дети…
– Оружия жалко?.. – дразнил его Пранайтис, вытащив отнятые пистолеты. – Оно вскоре и нам потребуется. Коли бы не это ваше оружие, может, мы бы и не стали пачкаться. На пистолеты польстились. Ничего. Просидите спокойно ночку, вытрезвитесь. Ночи теперь короткие. К утру дворовые псы пронюхают про вас, пришлют подмогу, собьют с вас колодки, и делу конец. Одна ночь – не двадцать лет…
– Ну, ребята, – крикнул он своим, – нечего тут долго рассусоливать! Пошли восвояси!
Восемь человек направились по дороге к черневшему на севере лесу.
А Кедулис, быстро шагая, спешил в Шиленай. Испуг и прохладный вечер быстро развеяли хмель.
Уже совершенно стемнело. Только краешек неба на северо-западе еще светился блеклым румянцем, но на земле все тонуло в густом мраке. Луна еще не всходила, да и звезды тускло мерцали, и немного их было на майском небе. Дорога мутно серела, сливаясь в нескольких десятках шагов с просторами окрестных полей. Ни единая струйка ветра не нарушала тяжелого оцепенения.
Не по себе стало Кедулису в ночном безмолвии. Ноги в лаптях топтали дорожную пыль, руки, как поленья, бессильно повисли. Удирая из корчмы, он и посоха своего не успел прихватить. С палкой чувствовал бы себя бодрее, увереннее.
Понурив голову, болтая руками, бредет Кедулис по пыльной дороге, а в груди чувствует непонятную тя жесть. После всего пережитого сейчас в корчме все ярче выплывают слова войта и приказчика про Катре. Кедулис догадывается, что в этих словах скрыт дурной, обидный смысл и для дочери и для него, отца. Впервые Кедулис ощущает горькое омерзение, как после тяжкого, позорного проступка.
Вот на этом черном пригорке должна быть деревня, Не видать ее что-то. Багрянец неба прикрыла туча, и тьма еще сгустилась. На самом краю широко сверкнула молния, но грома не слыхать. Вот опять полыхнуло – тоже без всякого звука, Суеверный ужас охватывает Кедулиса от немых всполохов. Поспешно скидывает картуз, крестится и озирается. При вспышке молнии на мгновение очерчиваются усадьбы Шиленай, придорожные деревья, и снова мрак.
Добравшись до первых построек, Кедулис успокоился. Вдруг по верхушкам деревьев с глубоким вздохом пронесся ветер. Но грозы скорей всего не будет. Тучи с молниями обложили край небосклона. В другом углу у самой земли снова появилась блекло-алая полоса угасающей зари.
Как вор, прокрался Кедулис в избу. Нащупал постель у печи и, скинув верхнюю одежду, растянулся. На лавках храпели Урше и Ионас. Матери не было слышно.
В углу у окошка раздается подавленное всхлипывание…
"Катре…" – насупился Кедулис.
За печью назойливо трещал сверчок.