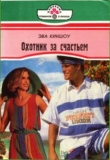Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Оба и словом не перекинулись, только почувствовали, как эта чудесная ночь сенокоса связала их сильнее всякого родства, услуг, подарков или клятв.

XXV
Крестьяне села Лидишкес работали у озера Жельвис до субботнего вечера. Весь луг скошен, сено разделено, часть свезена на сеновалы, часть сложена в скирды. Еще один важный труд благополучно завершен.
Вернувшись с дядей домой, Пятрас застал нежданного гостя – брата. Хоть, казалось, надо бы радоваться – сразу почуял недоброе. За ужином Винцас рассказ зал шиленские новости. Самое любопытное – из Варшавы прибыла дочка Скродского Ядвига. С ее приездов немного полегчало. На барщину опять ходят только четыре раза в неделю. Мягче стали управляющий, приказчик, войт. Про порку теперь не слышно, ко толкуют, будто Скродский все равно собирается согнать шиленцев с земли.
Рассказывал Винцас и про то, как Пранайтис с разбойниками забил в рекрутскую колодку двух челядинцев, жандарма и стражника. Дядину семью это особенно заинтересовало. Сам дядя подробно допрашивал Винцаса, как это случилось, кто такой Пранайтис, а потом, раскуривая погасшую трубку, завел новый разговор:
– Этот ваш Пранайтис шибко мне напоминает Гирдвиниса, Шалкуса и Ругиниса.
Пятрас и Винцас, пожалуй, еще больше заинтересовались этими тремя, чем дядя – Пранайтисом.
– Кто такие, дядя? Расскажи, – упрашивали братья.
– Может, тому десять лет, а может, и поболее, – начал дядя, посасывая трубку, – объявилось трое удальцов. Не скажу даже, в каком повете. Повсюду они крутились. Сегодня тут, а через неделю, слышь, под Шяуляй. Еще через неделю толкуют – Гирдвинис, Шалкус и Ругинис уже под Расейняй пана выпороли. А другие сказывают, будто видели их под Укмерге. И в Жемайтии про них слышали.
– Пана выпороли? – будто недослышав, переспросил Винцас.
– Именно, – подтвердил дядя. – Тем и прославились. Ежели где пан лютый, безвинно людей мучает – глянь, ночью обступят Гирдвинис, Шалкус и Ругинис со своими ребятами хоромы, пана свяжут, прочтут ему указ, положат и всыплют столько розог и плетей, сколько у него заведено для своих крепостных. А то еще и денег потребуют.
– Эх, коли бы так со Скродским! – воскликнул Винцас, потирая руки.
– Пан – не мужик, – продолжал дядя. – Где ж ему стольких горячих вынести! Бывало, выпорят его, а он и богу душу отдаст.
Пятраса больше всего интересовало – кто такие эти трое смельчаков. Батраки? Но дядя ничего доподлинно сказать не мог.
– Говорят – из крепостных, но откупились на волю и даже разбогатели. Им самим, сказывают, ничего не надобно было. Живи-поживай, всего вдоволь. Но пожалели, видишь, невинных людей и задумали панов проучить. А где уж тут господ проучишь, коли с ними власть – стражники и войско, – закончил дядя, выбивая пепел из трубки.
– Так как же вышло с теми ребятами? – озабоченно спросил Пятрас.
– Как вышло? Плохо вышло. Окружили их отряд полиция с войском, кто улизнул, кто – нет, а они трое попались, как кур в ощип. Повезли их, говорят, в кандалах в Каунас, судили как душегубов, одни говорят – расстреляли, другие – повесили. Да не один ли черт… – заключил дядя и сунул трубку в карман. Это означало, что разговор на сегодняшний вечер закончен.
Но Пятраса взволновал рассказ о крестьянских заступниках.
– Дядя, и теперь такие попадаются, – пытался он продлить беседу. – В Жемайтии, слыхать, Блинда объявился. Тоже со своими разбойничками грабит поместья и панов карает. У богатеев заберет, а бедным раздаст.
– Слышал и я, – подтвердил дядя. – Его в народе Уравнителем зовут. Что против панов идет, это хорошо. Больно много хотят паны к рукам прибрать! Но разве всех людей сравняешь! Разные головы, разное и богатство. Опять же не каждому бог помогает. Блинда тоже плохо кончит. Пуля в грудь или петля на шею.
Дядя встал, собираясь уходить, но вдруг его, видно, осенила новая мысль. Он оглянул обоих братьев и словно нехотя спросил:
– А вам знаком этот Пранайтис?
– Как не знаком! Из соседнего села. Часто виделись, сызмалу дружили.
– Ну, ну, смотрите, – промычал дядя. – Не влипнуть бы и вам в беду… Коли и сегодня находятся такие удальцы, всякого можно дождаться…
Не раз у него возникало подозрение, что не от хорошей жизни Пятрас перебрался к нему в Лидишкес. Теперь и второй брат вдруг объявился, и по глазам видать, что тоже с необычным делом. Но время позднее, тетка предложила отложить дальнейшие толки на завтра, а теперь лечь спать.
Пятрас повел брата на сеновал. Улеглись рядышком. Расспросив про родителей, сестер и соседей, Пятрас наконец отважился задать вопрос, который с первой минуты не давал ему покоя, только не хватало сил высказать:
– А как же Катре?
Винцас минутку помолчал и с притворным равнодушием отозвался:
– Ничего, здорова.
– Но где она? Что делает? Дома ли?
– Не дома… На службе… – снова помолчав, процедил Винцас.
Пятрас внезапно подкатился к брату, схватил за плечо – Винцас вздрогнул.
– Скажешь или нет, где Катре? У Скродского?!
– Чего бесишься? – огрызнулся Винцас. – Ну, у Скродского. Не сожрет ее Скродский. Жива и здорова.
Выпустив брата, Пятрас молча лег на спину. Тогда Винцас принялся рассказывать, как Пшемыцкий уломал старого Кедулиса, а тот прямо силой выгнал Катрите в поместье, сам ее туда свез.
– Но не унывай, – утешал брата Винцас. – Я недавно Катре видел, ничего дурного не стряслось, паненка о ней заботится. Я сказал, что к дяде собираюсь, просила тебе передать, чтоб ты не горевал, не забывал ее.
Он успокаивал брата, как умел, но Пятрас плохо слушал. В голову запала одна мысль: Катрите в поместье, у Скродского. Он отлично помнил, как пан впервые увидал Катрите и прямо пожирал ее глазами. И как Скродский остервенел, когда Пятрас преградил ему дорогу! В подлых намерениях Скродского Пятрас не сомневался. И теперь Катрите в лапах у пана!.. Почему она не воспротивилась, не убежала сюда, к Пятрасу? Уж он как-нибудь о ней позаботился бы…
Самые дурные подозрения охватили Пятраса и не давали ему ни минуты покоя. Винцас уже храпел, закопавшись в сено, но все равно – что еще из него выжмешь? Не находя себе места, Пятрас слез с сеновала и пошел в сад. Было около полуночи. Только на самом севере тускло алели не успевшие угаснуть закатные зори. С востока потянуло прохладным ветерком. Ни единый звук не тревожил недолгой летней ночи.
Пятрас прислонился к березе у калитки, глядя вдаль и ничего не видя. Сколько времени он так простоял – и сам не знал. Когда пришел в себя, небо уже багрянело на востоке. На березе защебетала пташка, но сразу утихла. Пятрас озяб. Вернулся на сеновал, зарылся и уснул крепким сном.
Разбудил его Винцас. Солнечные лучи проникали сквозь щели дверей и крыши, на стрехе чирикали воробьи, во дворе кудахтали куры, кукарекали петухи.
Винцас сел, отряхнулся и заговорил:
– Пятрас, я еще тебе и не сказал, зачем я сюда заявился. Беда у нас – хлеб кончаем. А до новой ржи – еще целый месяц. Вот тятя и прислал. Может, дядя выручит до того времени или хоть одолжит меру-другую. Ведь в таком богатстве живет!
– Его богатство не про нас! – злобно отозвался Пятрас. – Зерна у него полно. За деньги продаст с удовольствием. Хлеб теперь в цене. Собирается везти в Паневежис. Там, говорят, войско стоит и за зерно дорого платят. А выручать он – навряд ли…
– Так как же, с пустыми руками воротиться? – встревожился Винцас. – Что отец скажет?
– Попытай счастья. И я поддержу.
После завтрака дядя, тетя, Юргис и Эльзе начали собираться в костел. Когда дядя на приклетке обувал сапоги; Винцас подошел, поцеловал руку и изложил свое дело. Дядя поскреб в затылке и вместо ответа сам принялся причитать:
– А вы думаете – у нас тут молочные реки, кисельные берега? Домовой нам закрома засыпает? Прошлый год везде был плохой, и у нас мало уродилось. Если и осталась какая-нибудь мерка, так деньги нужны дозарезу. Вы там барщину свою отбарабанили, и дело с концом. А нам сколько чинша платить! Да наемные работники сколько забирают! А еще одежда, железо, всякая утварь! Вы там в домотканом ходите, в лаптях, в постолах, а у нас все городское требуется, детям подавай штиблеты, сапоги. А сын в Киеве – мало ли он выжимает? И, кроме всего, говорят, придется землю выкупать. Понимаю, вам нелегко, но и я из кожи лезу вон, чтоб концы с концами свести.
– Дяденька, куска хлеба нету, мякинника – и того не сгребем. Выручите до новой ржицы. Отдадим.
Дядя презрительно махнул рукой:
– Отдадите, как хлеб в цене упадет.
Подошел Пятрас. Чтобы покончить с торгом, жестко предложил:
– Отсыпьте ему две меры ржи и вычтите из моего жалованья по сегодняшней цене.
Дядя минутку поразмыслил.
– Недавно ты у меня. Не бог весть сколько зашиб…
– Не сбегу – отработаю.
– Так когда отсыпать? Сейчас или как из костела воротимся? – обратился дядя к Винцасу.
– Сейчас, дяденька. Домой спешу. Завтра на барщину.
– Мешки есть? Давай. Пятрас поможет, а ты у воза обожди.
Дяде не хотелось пускать Винцаса в клеть – увидит их достатки и потом бог весть что порасскажет.
Пятрас закинул Винцасу на подводу два мешка ржи. Тетка добавила гостинца: полкаравая выпеченного к сенокосу пшеничного рагайшиса и завернутый в платок, недавно отжатый сыр.
Пускай потом не толкуют барщинники – у Антанара, мол, жена такая-сякая, скупа, нос задирает, с родней не по-свойски обходится!.. На дорогу отрезала Винцасу ломоть хлеба и кусок копченого сала. Тот, довольный, поцеловал руку дяде и тетке, попрощался и уехал. Хватит теперь хлеба до нового зерна!
Немного спустя с Бальсисова двора затарахтела вторая повозка. Старики, Юргис и Эльзе, разодетые по-праздничному, отправились в костел. Морта пораньше ушла пешком – все равно не поместилась бы на возу.
Стеречь дом остался Пятрас. Он радовался, что будет один. Сможет свободно подумать, как быть с Катрите, как самому поступать.
Закрыв ворота, оглядел двор и, убедившись, что все в порядке, вышел в сад и растянулся под яблоней. Никто ему не мешал. Когда последняя повозка укатила в костел, село погрузилось в праздничную тишину. Но думы о Катрите не давали Пятрасу наслаждаться отдыхом.
…Катрите в поместье… Катрите у Скродского… Эта весть обжигала сердце. Пятрас ворочался с боку на бок, стискивал кулаки, чувствуя, что бессилен, не зная даже, на кого направить свою злость.
Главный виновник, конечно, Скродский, и Пятрас верит – наступит день, когда он рассчитается с этим палачом. Да не он один ожидает. Дня расплаты ждут и Пранайтис, и сотни багинских крепостных – не только за обесчещенных девушек и женщин, но и за невыносимое житье.
Потом досада Пятраса обрушилась на Кедулиса. Дочь выгнал в поместье. Пятраса собирался стражникам выдать. Старый пьяница! Пятрас не любит Кедулиса, но чем больше думает, тем меньше на него сердится. Злой старикашка, но и сам несчастный. А ну его! Как-никак – сосед, отец Катре. Кабы не пан, в конце концов отдал бы дочку за Пятраса.
Тут мысли молодого Бальсиса приобретают новое направление. А ежели бы Кедулис дал согласие? Женился бы Пятрас на Катрите этой осенью. Где бы они жили? Уж Скродский не позволит передать ему отцовский надел. Да и не может он носа показать в родную деревню. Полиция сразу же заберет за побег, за песни и книжки, подстрекающие против панов. Нет, жениться осенью он еще не сможет. Ждать будущего года? Оставить Катрите в поместье? А разве это не значит совсем от нее отречься? Кулаки у Пятраса снова крепко сжались.
Скрипнула калитка, залаяла собака. Кто-то пришел. Пятрас встал и увидел – во дворе озирается Адомелис.
– Адомас! – окликнул он, направляясь навстречу пареньку.
Дружеская улыбка озарила веснушчатое лицо Адомелиса.
– Я так и думал, что тебя застану. Я тоже сегодня остался. Отец велел пчел караулить. Говорит – могут зароиться. Но сегодня еще не зароятся. Вчера вечером постучал я в улей – когда роятся, не так жужжат. Схожу-ка я, думаю, к Бальсисам поглядеть. У вас не роились?
– Еще нет.
– Самое время. От поздних роев проку мало. Луга уже скошены, липы отцветают.
Однако Пятрас не был настроен толковать про пчел и мед.
– Присядем тут в холодке, – мрачно предложил он. – День никак жаркий будет.
– Жаркий, – согласился Адомелис, усаживаясь под яблонькой. – А к вечеру, может, и дождик брызнет.
Он сразу заметил, что Пятрас не в духе. И потому застеснялся, конфузливо обрывая попавшуюся под руку травку.
– Что у вас слыхать? – робко спросил он, не поднимая глаз.
Пятрас почувствовал смущение Адомелиса и нарочито бойко ответил:
– Нечем хвастаться, Адомас. Вчера прихожу с лугов, а тут – брат. Их там в Шиленай почти вконец голодуха одолела.
И Пятрас повторил рассказ Винцаса, как крестьян разоряет Скродский. Адомелис слушал с величайшим вниманием, изредка вставляя краткое слово. А Пятрасу было приятно открыть сердце человеку, который так его понимает.
– Видишь, какие у нас беды. А я-то думал этой осенью свадебку сыграть, – добавил он с горькой усмешкой.
– С кем же это? – стыдливо краснея, поинтересовался Адомелис.
Услышав про Катре и поняв, что она очень нравится Пятрасу, Адомелис с сожалением вымолвил:
– И нашей Юле ты, Пятрас, по душе. Она бы рада за тебя замуж выйти.
– За меня? Барщинника? – удивился Пятрас. – Куда же я твою сестру поведу? У пса хоть конура есть, а у меня и той нет…
Адомелис с завистью оглядел могучее тело Бальсиса, его сильные, мускулистые руки и горестно улыбнулся:
– Конуры своей нет, зато есть здоровье и крепкие руки. Ты – хороший работник, будешь хорошим хозяином. Незачем тебе Юле уводить. Пришел бы к нам в зятья. Отец пока противится, но вдвоем с Юлите мы бы отца уговорили. Все-таки ты племянник Бальсиса.
– А ты? Ведь тебе должно отцовское хозяйство остаться? Жениться не собираешься?
– Где уж мне! Какой я работник! Отец мне надела не передаст. Я бы сразу разорился.
– А не приглядел себе девушку? – не унимался Пятрас.
Веснушчатое лицо Адомелиса снова вспыхнуло.
– Тебе скажу – очень мне нравится Онуте.
– А ты ей?
Адомелис расплылся в улыбке, прислонился к яблоне, зажмурился и еле слышно произнес:
– Может, и я ей… Везде за меня заступается… Очень хорошая девушка.
Он умолк, не расспрашивал больше и Пятрас. Сочувствие к этому парню опять наполнило теплом его грудь. Пятрас растянулся на траве и, закинув руки за голову, глядел сквозь ветви яблони на чистое синее небо. Жужжали незримые пчелы, птицы, словно передразнивая друг друга, попеременно щебетали на придорожном тополе, вокруг своих гнезд, под стрехой избы, летали ласточки.
После долгого молчания Адомелис робко взглянул на Пятраса:
– Стало быть, не породнимся?
– Как это? – не сразу понял тот.
– Да я все про Юлите.
Пятрас облокотился и твердо отозвался:
– Послушай, Адомас, коли ты всерьез, так выбрось это из головы. Есть у меня девушка, на ней и женюсь. Богатством меня не заманишь.
– Что ты, что ты!.. – Адомелис даже руками замахал с перепугу. – Разве я ради богатства?! Знаю, что ты сестре приглянулся, вот и сказал. Нет так нет. И я бы на твоем месте не иначе поступил.
– Вот видишь, – быстро смягчился Бальсис и снова растянулся под яблоней. – Вам, королевским, все бы выделы, приданое, наделы. Оно, конечно, земли всякому хочется. И я этого хочу. Но ради богатства отречься от девушки, которая мне по сердцу, – это уж нет! Лучше батраком пойду в поместье или бобылем за отработку. Да, Адомас, ты тут знаешь многих. Может, ведаешь, где бы мне с Катре приютиться, коли осенью повенчаемся?
Адомелису было очень приятно, что Пятрас обращается к нему с таким серьезным делом, и он сумеет помочь новому приятелю. Минутку подумав, вымолвил:
– Порасспрошу. Может, что и найдется. Теперь люстрация идет. Начальство многим хозяйство обкарнает, коли при нем арендные участки или отрезки. Погоди, да и у твоего дяди корчемная не такова ли? Там и дом еще неплохой. Знаешь, пугнуть бы дядю, что корчемную могут отобрать, коли там никто не живет. Пусть тебе отдаст. Отработаешь – и угол свой будет. А ему все выгоднее, чем совсем этой земли лишиться.
Пятрас знал корчемную. Да, дом запущен, но, коли в порядок привести, жить можно. И огород, и десятины три земли. Тоже можно прокормиться. Только захочет ли дядя?
– Может, и неплохо ты задумал, Адомас. Но вот дядя у меня ершистый. Кто его знает…
Было видно, что Адомелис уже раздумывает, как уладить дело. Найдет он, через кого пугануть старика Бальсиса!
– Поживем – увидим… Попытка не пытка… – повторил он обнадеживающим голосом.
Адомелис подвинулся в тень погуще, прислонился к яблоне, зажмурился и снова погрузился в думы.
Внезапный порыв ветра рванулся сквозь верхушки деревьев. Адомелис поглядел на небо и решил:
– Буря будет.
На западе чернели тучи. Набухла гнетущая тишина. Деревья съежились, оцепенели, притихли пташки, только ласточки, как ни в чем не бывало, проворно летали вокруг избы. Пчелы со злобным жужжанием устремлялись в свой улей. Куры, копавшиеся под кустом смородины, вытянув шеи, беспокойно поглядывали по сторонам, а петух, подняв гребешок, то и дело поворачиваясь, крутил крылом, шпорами рыл землю и густым горловым "ко-ко-ко" подбодрял свое многочисленное семейство. Вдруг на дороге послышались шум, грохот, блеяние овец и телят. В туче пыли, щелкая кнутами, с присвистом и криками пастушки гнали стадо. Пятрас с Адомелисом вскочили, открыли ворота, и Пранукас со своей скотиной шумно вбежал во двор.
– Буря идет! Гляньте, какая туча! – вскрикнул он, еле переводя дух.
Вслед за стадом во двор ворвался ветер. Прокатились круговоротами столбы пыли и мусора. Деревья зашелестели, замахали ветками, затрепетали вершинами и склонились под ветром. А трепещущие стволы рябины и черемухи припали к садовой изгороди.
Огромная черная туча залегла на западе. В быстро сгустившихся сумерках сверкнула молния, и в то же мгновение грянул гром. Крупные, редкие капли дождя зашуршали в листве, забарабанили в окна, и тут же с неба хлынули нескончаемые потоки воды. Сразу во дворе заколыхались лужи, на них плавали и лопались пузыри.
Пятрас с Адомелисом стояли в укрытом от ветра месте – под крышей приклетка, прислонившись к стене. Суровы были сероватые глаза Пятраса, все его крупное, костлявое лицо.
А Адомелис светился какой-то невыразимой, из глубины души брызжущей радостью. Жадно следил за каждой вспышкой молнии, ловил всякий удар грома, вслушиваясь в то затихающие, то грозно грохочущие раскаты, пока они окончательно не замирали вдалеке. Тогда он восхищенно оборачивался к пузырящимся лужам или к Извилистому потоку, который нес по двору стебли, перья, щепки и зарывался в песок.
Буря быстро промчалась. Когда туча перешла на восток, с запада небо стало светлеть, желтеть, вскоре появились синие островки. Кое-где запестрели полосы солнечных лучей, и вот на сползшей вниз темно-серой туче появилась огромная радуга, переливаясь всеми цветами.
Адомелис смотрел на эту чудесную ленту, упиравшуюся концами в землю. Но вскоре остатки тучи укрыли солнце, лента потускнела и пропала, исчезло и восхищенное выражение с лица Адомелиса.
– Пойду я домой, Пятрас, – тихо произнес он. Взгляд его затуманился, веснушчатое лицо еще посерело, он словно съежился, стал меньше ростом, тихо выскользнул за калитку и исчез.
Пятрас принялся прокапывать во дворе канавки, чтобы скорей стекала вода.

XXVI
Это лето было тяжелым не для одних только шиленских Бальсисов. Вся деревня жила впроголодь, не зная, откуда наскрести пригоршню-другую зерна, чтоб истолочь его в ступе и испечь хотя бы мякинника. Такой хлеб осторожно вытягивали из печи, но, когда резали, он все равно рассыпался, и есть его приходилось горстями. Счастливчики, у кого корова поудойнее. Из остававшегося молока женщины сбивали масло, выжимали сыр, а коли хорошо неслись куры – собирали дюжину или целых полкопы яиц и все везли в Кедайняй или Паневежис, чтобы купить ржи. Другие обращались за помощью к королевским или чиншевикам, если среди тех водились родня или знакомые.
Когда Винцас Бальсис воротился с зерном и гостинцами, в семье был большой праздник. Отец пересыпал рожь из ладони в ладонь, внимательно разглядывал, пропускал зернышки, как воду, между пальцами, ощущая несказанное удовольствие, когда они легко соскальзывали обратно в мешок.
– Хороша ржица! – восхищался старик. – И мякины не видать. Достать бы такой на семена. Осенью опять Винцаса отряжу – может, Антанас обменяет какую-нибудь мерку.
Мать и дочери отведали теткиного рагайшиса и сыра. До чего рагайшис вкусный! Мягкий, рассыпчатый, выпеченный, а пахнет!.. Ну, сыр как сыр – и наш не хуже…
Пока отведывали гостинцы, Винцас рассказал про Лидишкес. Все дивились дядиной жизни. Но Винцас от дяди не в особом восторге:
– Скуп. Все, как у купца. Думаете, зерно легко выдал? На продажу, вишь, ему требуется, денег, дескать, много надобно. В Паневежисе, мол, хорошо платят. Только тогда отсыпал, когда Пятрас сказал, чтоб из жалованья удержал. В клеть меня не допустил, а там, говорят, в закромах всякого хлеба немало. И муки полный чан.
Отец заступался за дядю и даже не очень-то верил Винцасу. Антанас с малых лет был добросердечным. Да и как подрос, никого не обижал, помогал, сколько мог. Как же он так переменился?
– Богатство спеси сродни. У кого мошна туга, тому больше и хочется, – рассуждал Винцас.
Мать очень беспокоилась за Пятраса. Не много сумела она выведать от Винцаса. Поэтому, улучив минутку, опять перевела разговор на старшего сына:
– Довольно уж дядю обговаривать! Трудится, бережет, вот и разжился. Кому бог подает, у того и есть. Лучше про Пятраса расскажи. Не позабыл ли он нас у этих королевских?
– Много ли я его видал? Даже поговорить не успел, – оправдывался Винцас. – Про нас не забыл, а пуще всего – про Катре. Как я сказал, что она в поместье, будто его кто ножом полоснул. А я утешал и Катре выгораживал, только не очень-то он мне верил.
Так и не разузнала Бальсене про первенца. Одним была довольна, что в Лидишкес житье не только побогаче, но и поспокойнее. Пожалуй, Пятрас там не впутается ни в какие передряги.
Так и подмывало Бальсисов, особенно женщин, рассказать соседям, что Винцас проведал дядю, похвалиться рожью, гостинцами. Однако заранее было уговорено – никому ни слова. Про лидишкского Антанаса Бальсиса знали на селе немногие, а пока Пятрас там скрывается, лучше никому и не заикаться. Но Катре решили дать знать. В поместье и в хозяйстве работы было много, и потому ни Винцас, ни девушки всё не могли выбраться навестить Катре. Наконец представился неожиданный случай с нею встретиться.
Старый Даубарас после несчастья уже не вставал с постели, с каждым днем ему становилось все хуже. За несколько дней перед поездкой Винцаса в Лидишкес по селу пронеслась весть, что больной совсем ослаб, задыхается, кровью харкает, а иногда и человека не узнает. Тяжелым бременем лег недужный в такую пору на плечи дочери Пятре и ее мужа Микнюса. Зять с работницей Евой выбивались из сил, чтоб за четыре дня выполнить барщину, а в остальное время управиться с работой в хозяйстве. А Пятре и дома все справить, и за детишками приглядеть, и за хворым ухаживать. А тут кончаются хлеб, и крупа, и забелка, хоть ты разорвись, хоть живьем в могилу полезай! Одно счастье – Буренушка отелилась, и молока хватает для ребят и больного.
В начале июля уже всей деревне было известно, что дни Даубараса сочтены. Односельчане, хоть у самих много забот, по мере сил старались помочь больному и его семье. Хорошим соседом был Даубарас, по всей деревне самый работящий и разумный. Где в хозяйстве побольше работников, оттуда высылали парнишку или девчонку то навоз высыпать, то вспахать, взборонить, сено скосить, а иногда и денек отработать на барщине. Шиленские хозяйки чем можно помогали Микнювене, заботились о больном.
Однажды Бальсене, придя проведать соседа, вытащила из узелка полкаравая хорошего, немякинного хлеба и сказала Микнювене:
– Дай отцу, может, с молоком кусочек прожует.
– Ой, что за хлебец! Откуда такой муки достали? – дивилась молодая хозяйка.
– Отец откуда-то наскреб. И сама не знаю. Мы тоже хлеб приканчиваем.
Сташене и Кедулене славились по всему селу умением – излечивать травами и корешками всякие недуги. Сташене раз покопалась в котомке и сунула Микнювене ворох сушеных трав:
– Принесла я тебе, Петряле, золототысячник. Отвари и давай отцу натощак каждый день по кружечке. Очень помогает от всякой сердечной немочи. Не иначе – как падал, сердце отшиб. А может, и легкие. В другой раз принесу васильков. Кашель остановят и мокроту.
Но самым первым знатоком недугов и зелий была старая Пемпене.
Теперь, когда тяжко занемог ее благодетель, Пемпене, откуда ни возьмись, а уж и плетется вдоль забора к Даубарасу. Ненавидели бабы эту ведьму, и если кто из них сидел в это время у больного, то немедля убирался восвояси. А Пемпене подставляла скамеечку, садилась в ногах у больного и долго и молчаливо разглядывала его изможденное лицо. Старик, хоть, бывало, и дремлет, сразу чувствовал устремленный на него острый взгляд. Будто живительная струя касалась его лица. Он старался собраться с мыслями, хмурил брови и произносил:
– Так что, Пемпене?
– Хвораешь, – отвечала она укоризненно и вместе с тем ободрительно, – все не поправляешься. А, вишь, уже лето на дворе, люди сено убрали. Меня никто не звал бить прокосы… И огород пропалывать… Поправляйся!
– Эх, Пемпене, ничего мне больше не надобно, – отвечал он и снова закрывал глаза.
Иногда она из своих тряпиц доставала закопченный пузырек, в глиняную кружку нацеживала темную жижу и давала больному выпить. Тот с отвращением вздрагивал – питье горькое и вонючее. Никому этого пузырька Пемпене в руки не давала, никто не знал, что там такое. Никто не видел, как она в мае, пока еще не прокукует кукушка, ловит жаб, бьет и следит, как из спины гада брызжет белая, словно молоко, жидкость, помогающая от всяких лихоманок. А от бреда и падучей у Пемпене водилась жабья кровь с сахаром, которую надо пить по пять капель трижды в день. Снадобья попроще, травы и корешки, она оставляла Микнювене, чтобы та сварила и дала отцу. Но дочь после ухода ведьмы выбрасывала зелья на помойку.
Дав больному зелье, Пемпене посидит еще немного, уставившись ему в лицо, и, если он откроет глаза, на прощанье скажет:
– Поправляйся. Нехорошо долго валяться. Кровь свернется. – И, выйдя из хаты, быстро семенит вдоль забора в свою лачужку.
Старик третий месяц лежал у печи на кровати, которую сам когда-то сколотил из досок. Слой соломы толщиной в ладонь прикрыт дерюжным одеялом. Это лежание терзало больше, чем боли в боку и в груди. Постепенно больной привык и научился разнообразить время, наблюдая, что творится кругом.
В теплые дни дочь хлопотала во дворе, там же резвились ребятишки, а он оставался один-одинешенек. Дверь хаты не закрывалась, петух вскакивал из сеней на порог. Вглядевшись в сумерки хаты, впорхнет внутрь, за ним – куры, и начинают искать крошек на глиняном полу. К хворому они привыкли. Закашляется старик или руку поднимет – куры остановятся возле кровати, вытянув шеи, глядят на бывшего хозяина, а он заговаривает с ними слабым голосом:
– Цыпочки, цыпочки…
В погожий день в крайнее окошко избы заглядывало заходящее солнышко. Длинная красная полоса протягивалась по всему полу до самой кровати, понемногу подползала, касалась постели и исхудалых, костлявых рук. Глядел старик, как светлеют желтовато-красные загрубевшие ладони, следил за умирающим в грязном окошке лучом, и непонятная грусть и уныние охватывали сердце. Это то же самое солнце, восход которого он столько раз наблюдал на своем веку. То же солнце, которое столько раз обжигало исхлестанную спину крепостного. То самое, которое, закатываясь, утешало его отдыхом после трудового дня. Вот и опять оно заходит – большое, красное, низводя на землю тишину и спокойствие. Кончается день – день его жизни.
Однажды утром больной проснулся бодрее обычного. Попросил у дочки молока, но отпил всего несколько глотков. Долго смотрел перед собою, о чем-то тяжело раздумывая. Потом повернул голову к дочери, возившейся у печи, и произнес:
– Зови, Петрюте, соседей. Хочу проститься.
У Пятре и сердце перестало биться. Хотела возразить отцу, но, взглянув на него, поняла, что наступает последний час. Выбежав на двор, задыхаясь, крикнула через забор соседке:
– Отец помирает!
Весть быстро облетела село. Поспешно собирались бабы – мужчины работали в поместье и на своих полосках. Только Кедулис был дома и прибежал вместе с женщинами. Одна баба отрядила свою девчонку в имение передать зятю Микнюсу. Почти каждая успела прихватить освященные травы и вербы, а кое-кто нес восковую свечу. Вскоре набралась полная хата людей. Раздули жар в печи, закурились травы, Сташене сунула умирающему зажженную свечку, придерживая ее своей рукой. Кто-то посоветовал прочесть молитву для смертного часа, но никто ее не знал. Привезти бы ксендза для соборования, но ни у кого дома не было лошади, да и ксендз недавно проведывал хворого, а может, тот еще и не помрет.
Когда все взгляды были устремлены на умирающего, во двор зашла Пемпене. Тихо прокравшись в сени, встала у открытых дверей, укутанная платком так, что только подбородок и нос торчали да блестели глаза. Но бабы живо ее узнали и шарахнулись в сторону, чтобы не прикоснуться к ее одежде. К больному она не проталкивалась. Поднявшись на порог, сквозь чужие головы смотрела на его лицо. Старик открыл глаза и встретил ее взгляд. Но между ними встали чьи-то плечи. Может, он ее и не видел. Так и остался лежать с открытыми глазами. Никто не заметил, как по лицу Пемпене скатились две крупные слезы. Она попятилась в сени, потом во дворик, на улицу и, сгорбившись, зашлепала вдоль забора.
– Боже ты мой, помер! – вскрикнула Сташене, державшая свечу в руке умирающего.
Все всполошились. Микнювене в голос зарыдала, бабы шмыгали носом и старались выжать слезу. Кедулис закрыл покойнику глаза.
На третий день Даубараса хоронили. С самого утра все село столпилось во дворе и на улице. Немало народу было и из Палепяй, Катришкес, Ужбаляй. Никто не шел на барщину. Ядвига решительно потребовала от отца, чтобы управитель, войт, приказчик в этот день оставили людей в покое. Она сама с Аготой и Катре тоже собиралась в Пабярже на похороны. Пранцишкус передал: проповедь на кладбище, наверно, скажет ксендз Мацкявичюс. Даубараса многие знали, кроме того, всем была известна причина его смерти. Теперь все снова переживали в памяти тот страшный день, рассказывали о нем друг другу, поминали добрым словом усопшего.
В хате толчея. Посредине – обряженное тело. Кругом и вдоль стен теснятся родичи, односельчане, знакомые. Вокруг стола сидят старые певчие: Бальсис, Григалюнас, Кедулис, Сташис, Якайтис, несколько баб. На столе – сыр, мисочка с маслом, ломти хлеба. Надо бы и водки поставить, но теперь – год трезвости, все дали зарок не пить.