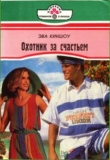Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)

XXX
В гостиной было светло и уютно. В открытое окно падали косые лучи склонявшегося к закату солнца. За стволами высоких лип вдали желтело несжатое поле. Веяло вечерней прохладой.
Гости собрались в углу у столика, где Стяпас расставлял стаканы, рюмки и сладости. Только Виктор с Ядвигой стояли у раскрытого окна. Два года не видались, может, за это время и не очень изменились – ведь оба уже взрослые! Но в их духовной жизни так много нового, и интересно этим поделиться, оценить. Час, проведенный бок о бок в столовой, привел их в хорошее настроение. Ядвига и Виктор оба поняли: направление мыслей и чувств у них одинаковое. Хорошо бы потолковать откровенно. Но сегодня это немыслимо, можно только по отрывочным, вскользь брошенным словам догадываться, какие нити прошлого и будущего их связывают.
– Панна Ядвига не жалеет, что нас навестила? – спрашивает Виктор.
– Напротив, я очень рада.
– Я прошлым летом тоже приезжал, а вас не было.
– А этим летом я заехала сюда по дороге домой, но не застала пана Виктора. Вообще, неудачный тогда был визит.
– Почему?
– Я уже сказала. А к тому же, наши родители не очень дружат.
Виктор видит, как затуманивается ее лицо. Причина ему известна, он и не старается это скрыть.
– Да. Но неужели мы должны отвечать за проступки отцов?
Ядвига на минутку задумывается:
– Отвечать, пожалуй, нет. Но исправлять их последствия.
– Согласен, – одобряет Виктор. – Я слышал, панна Ядвига успешно справляется с этой задачей, что меня весьма радует.
Она довольна, что Виктор ее понимает. Беседа переходит к воспоминаниям, впечатлениям от поездок. А вскоре внимание молодых людей привлекает оживленный разговор за угловым столиком.
Только что звучал голос Мацкявичюса, но что именно сказал ксендз, Виктор и Ядвига не расслышали. Теперь отозвался Сурвила, спокойно, не горячась, с чуть заметным оттенком иронии:
– Вы, ксендз, изволили совершенно правильно заметить, что мы, помещики, эгоисты и отстаиваем в первую очередь собственные экономические интересы, а отношения с крестьянами устанавливаем так, как нам представляется наиболее выгодным. Мне и некоторым другим эгоистам в нынешних условиях казалось особенно полезным для нашего хозяйства перевести крепостных с барщины на оброк, купить новейший инвентарь, нанять хороших работников, снимать богатые урожаи и использовать рынок в стране и за границей. Мы подсчитали, что шестьдесят, а иногда даже пятьдесят, сорок дней вольного труда заменяют сто дней барщины, а урожай с полей, обработанных наемным трудом, в два раза выше. Видите, господа, какова материальная разница, не говоря уже о моральном аспекте и соображениях гуманизма.
Мацкявичюс криво улыбнулся:
– Гуманизм по отношению к крепостным со стороны вашего сословия, – извините, пан Сурвила, не вас имею в виду – был весьма редкостным блюдом. В лучшем случае его заменяли сентиментальные вздохи для облегчения совести.
Сурвила ответил снисходительной усмешкой:
– Благодарю за откровенность, ксендз, что правда, то правда…
Добродушный Шилингас, почти все время молчавший, улучил повод вмешаться:
– Кое-кто, скажем, считает гуманным и сострадательным человеком и ионишкельского пана Карписа, который уже пятьдесят лет назад освободил без земли семь тысяч своих крепостных.
– Знаем, чем это кончилось, – перебил Дымша. – Некоторые из "осчастливленных", спасаясь от голодухи, арендовали у пана Карписа ту же землю, а другие чуть не задаром нанимались к нему работниками в поместье и на винокуренные заводы.
– Немало помещиков и царю петиции писали, чтобы всех крепостных отпустить на волю без земли, – добавил Кудревич.
– Правда, – подтвердил Сурвила. – Были и такие. Но я их не одобряю.
– Я тоже нет, – произнес Кудревич.
– И я, – повторил Шилингас.
Сурвила пояснил:
– Не стану говорить о справедливости, гуманизме, морали. Нет, прямой наш интерес и соображения безопасности требуют, чтобы у крестьян была земля. А то они нас так разнесут – ворон костей не соберет!
– Да, пан Сурвила, – согласился Мацкявичюс. – Крестьянам надо отдать землю, которую они обрабатывают. И притом безвозмездно, без всяких выкупов к повинностей. Крепостные за нее расплатились с лихвой!
Но Сурвила, спокойно улыбаясь, возразил:
– Помещики с этим не согласятся. И я тоже.
– И я, – подчеркнул Кудревич.
– И я, – как эхо вторил Шилингас.
Мацкявичюс косточками пальцев постучал по столу:
– Коли вы так рассуждаете, то не ждите от крестьян поддержки ваших замыслов.
Для Кудревича такой вывод не был неожиданностью.
– Знаю, ксендз. Я назначен мировым посредником. По роду своих обязанностей ознакомился с взаимоотношениями между крестьянами и помещиками. И должен сказать, панове, мы катимся к тому, что крестьянин и помещик станут смертельными врагами. Говорю "смертельными", ибо врагами они были все время. В борьбе, которая идет уже не со вчерашнего дня, в конце концов одержит верх крестьянин, ибо имя ему – легион. Провозглашенная царем реформа эту победу крестьян, а нашу гибель только отсрочит, но не устранит.
– Тем реформа нам и полезна, – заключил Сурвила.
– Стало быть, вы, господа, против восстания? – спросил Мацкявичюс.
Сурвила только руками развел:
– Видите ли, ксендз, восстание может идти по разным путям и преследовать разные цели. Вы вместе с крестьянами будете добиваться земельной реформы, дворяне – политических, государственных целей, которые опять же могут быть различными. Но для любой из этих целей непременная предпосылка – отделиться от Российской империи. Вот что нас объединяет. Откровенно говоря, я не верю, чтобы восстание теперь привело к этому. Вот почему я к восстанию не призываю. Но жизнь развертывается так, что оно наверно прорвется, даже и против нашей воли. Что ж?.. Выполню свой патриотический долг и поддержу восстание.
– Но вы не верите, что крестьянин добьется своей цели?
– Не верим, – признался Сурвила. – Восстание подготавливается и возглавляется дворянами и в лучшем случае достигнет только политического эффекта.
– Тогда уж, – язвительно произнес Мацкявичюс, – вам, дворянам, лучше совсем не вмешиваться в восстание. Победить может только крестьянин. Если он добьется победы, то достигнет своей цели. Потерпит поражение – все пока что пойдет ко всем чертям! А дворянство не только не осуществит никакой политической цели, но и подвергнется такому истреблению, что навряд ли когда-нибудь сумеет играть заметную роль в политической жизни Литвы.
Этот разговор заметно взволновал Мацкявичюса. При последних словах он встал и несколько раз прошелся по комнате. А Сурвила продолжил спор:
– Разгром, разумеется, будет опустошительным. И не только для дворянства, но и для крестьян.
– Поражение крестьян может быть только временным – их невозможно уничтожить. Раньше или позже – они победят! – провозгласил Мацкявичюс.
– Селяне, ксендз, уже и теперь страдают, – вставил Акелайтис, – они терпят поражение, противясь дворянам-помещикам. За примерами недалеко ходить – возьмем спор багинских крестьян со Скродским. Крепостные горько поплатились, ничего не достигли, а их стойкость и готовность к борьбе подорваны на долгое время. В случае восстания они будут держаться пассивно.
Мацкявичюс удивленно взглянул на Акелайтиса.
– Не знаете вы наших людей, пан Акелевич, хотя и вышли из их среды, – укорил ксендз.
И, расхаживая по гостиной, он пылко заговорил о крестьянах, словно обращаясь не только к Акелайтису, не только к находившимся в комнате, но и ко всем, кто сомневается в силе деревенского люда:
– Мужик упрям и своих обид не забывает, паны мои. Литовский народ уже несколько веков томится под гнетом вельмож и панов, а все же жив и вынослив. Еще более стоек, чем прежде, и готов подняться на борьбу за лучшую жизнь.
Расхаживая крупными шагами из угла в угол, Мацкявичюс заговорил про обиды, которые долгие столетия терпел литовский народ, про то, как он сопротивлялся угнетателям:
– Вы сомневаетесь, выстоят ли мужики, не иссякнут ли у них силы? Прошлое показывает, что нет. Вам, может, не приходилось знакомиться с историей крестьянских бунтов. А мне довелось. В Вильнюсе и в киевском университете я наткнулся на исторические документы – еще при Витаутасе, в начале XV века, жемайтийские крестьяне под Расейняй восстали, не вынеся гнета. Часть повстанцев пробилась до Клайпедского взморья и напала на владения ордена. Кражяйский наместник, созвав дворян, выступил против мятежников. Но только Витаутас сумел их усмирить.
И он стал рассказывать, как угнетали крестьян княжеские наместники, старосты, сановники церкви. Пропасть между знатью и крестьянством быстро углублялась. Там – роскошь, разгульная жизнь, здесь – нужда и голод. Бремя податей и даней все росло.
Когда умолк Мацкявичюс, Шилингас, человек очень начитанный, занимавшийся историей, сказал:
– Ксендз говорит правду. Образцом роскоши и расточительства в середине XVI века был сам король Сигизмунд Август. Представьте, для его стола ежедневно резали по быку, а для его придворных восемнадцать коров. А сколько истреблялось прочего добра! Королевским коням скармливали ежегодно по четыреста гарнцев овса. Красноречиво, не правда ли?
– Желал бы я быть в те времена придворным его милости короля, – шутливо вздохнул Кудревич.
– Но не желал бы я быть одним из тех, кто обязан был поставлять ему всю эту снедь, – заметил Сурвила.
А Мацкявичюс продолжал:
– Толпами дармоедов кишел не только королевский двор, но и поместья вельмож. Дани, сборы, подати с дыма и с сохи… Крестьяне изнемогали от поборов. Напрасно люди жаловались королю. Никто их и выслушать не хотел. Хоть и велико горе, а небо высоко – не взберешься, земля тверда – в нее не залезешь, говорят в народе. Оставался один выход – бунты, восстания. Всем известен бунт в Жемайтии, под Тельшяй, когда было вырезано множество наместников и дворян. Жемайтийский староста рьяно усмирял восстание. Одного крестьянина четвертовали, других повесили, у третьих отняли хозяйства. Уничтожались целые селения. Станут ли паны жалеть мужичье! От жемайтисов не отставали И аукштайтисы. Как говорится – беда беде руку протягивает. Укмергские и аникшчяйские крестьяне взбунтовались, когда после недорода им приказали везти сено и овес для королевских конюшен. Вождя повстанцев Буйвидаса схватили, а жена его бежала. Вот вам несколько подробностей из царствования короля, заслужившего в истории имя гуманиста.
– В те времена гуманисты, к сожалению, не всегда были гуманными, – с горькой усмешкой поддержал Мацкявичюса молодой Сурвила.
– Вы, ксендз, должно быть, еще не закончили этой печальной истории? – осведомился Шилингас. – Признаюсь – слышу от вас много нового.
– Еще не кончил. Если интересно – извольте. Поговоришь – душу облегчишь, промолчишь – душа заболит…
И он рассказал еще несколько эпизодов: как в XVII веке сопротивлялись крепостные панам в Упитском и Укмергском поветах. Там тоже более десяти бунтовщиков повесили, других засекли насмерть. Жестокую кару навлекли на себя барщинники поместья Дервенай – имение принадлежало монахиням, да простит их бог… Кровавому усмирению подверглись взбунтовавшиеся меж-куйчские крепостные в начале XVIII века.
Ах, этот ксендз с его жуткими историями! Хозяйке дома надоело. Она напрасно пытается остановить гостя. Мацкявичюс не замечает или не обращает внимания на ее усилия. А сын издали делает ей знаки, просит не мешать. И Ядвига не сводит глаз с ксендза, заслушалась этих ужасов!
– Но не было еще в Литве такого крестьянского восстания, как в поместьях Шяуляйской экономии во второй половине XVIII века, – продолжает, повысив голос, Мацкаявичюс. – Словно буря, разразился гнев крепостных. Мятежники отказались повиноваться экономам и управителям, избрали свою власть и попытались распространить движение и на другие местности. Это не удалось. Восстание было подавлено вызванными войсками. Снова полилась кровь. Не успевает ее впитывать литовская земля! Одного вождя мятежников колесовали, двоим отрубили головы, двоих четвертовали и посадили на колы у большой дороги. Для прочих – плети. Ничего! Огрубевшие спины барщинников тогда уже привыкли к порке…
Мацкявичюс умолк, молчали и слушатели. Панн Сурвила, прижав платочек к глазам, вздыхала. Тяжелые шаги ксендза глухо стучали по полу гостиной. Горестную заботу выражали его стиснутые губы, запавшие глаза, исхудалое лицо. Но он еще не кончил страшной повести человеческих мук. Действительно, минуту спустя он снова заговорил низким, более спокойным голосом:
– Как сопротивляется народ угнетателям в наш век, мы видим сами. В тридцать первом крестьяне вступили в ряды повстанцев. И тогда во многих местах отказывались выходить на барщину, уничтожали записи повинностей, барщинных дней, оброков. В Жемайтии крепостные повернули оружие против дворян. Помещик Яцевич и вооруженными отрядами шляхты одержал над ними победу. Вожаков, как водится, убили или перевешали, а простых мятежников выпороли. Да! Превосходство дворян над мужиками и здесь проявилось со всей убедительностью! Вот, паны мои, лишь наиболее значительные эпизоды крестьянских бунтов за несколько веков. Что они показывают? Что стойкость мужиков в борьбе за лучшую жизнь не уменьшается, а наоборот – растет и крепнет. И говорю вам: то, что мы сегодня наблюдаем в десятках деревень и поместий Литвы, – всего лишь начало того, что увидим через год-другой.
Он замолчал, подошел к столу, отпил глоток остывшего чая и, опустившись на стул, спросил:
– Так что же вы, паны мои, думаете о своих людях?
Никто не ответил. Виктор и Ядвига по-прежнему стояли у раскрытого окна, изредка обмениваясь взглядами. Старые Сурвилы, Кудревич и Шилингас сидели, позабыв о чаепитии, Акелайтис стоял у стены, опираясь на спинку кресла, изредка проводя рукой по обвислым усикам, что-то обдумывал. С лица Стяпаса давно исчезло сдержанное выражение. Прислонившись к дверям веранды, он страдальческим взглядом смотрел на дальние поля, на деревья сада.
Наконец отозвался Кудревич:
– Ваша речь, ксендз, заставляет нас призадуматься. Крестьяне – исполинская сила. И если когда-нибудь они поголовно восстанут, перед ними не устоит ничто в мире, Но пока они в разброде. Это войско без вождя. Если хотите, чтобы оно победило, организуйте его и ведите.
Мацкявичюс обратил взгляд на молчавшего все вреся Акелайтиса. Уже не раз замечал ксендз, как Акелайтио, пылко одобряя идею восстания, сразу же остывал, чуть кто заденет панов или заявит, что успех дела зависит от крестьян. Глубоко засела шляхетская ржавчина в сознании этого "хлопа", при всей его деревенской простоте!
А Акелайтис, словно подтверждая мнение Мацкявичюса, на слова Кудревича откликнулся фразами из своей "Грамоты вильнюсского деда":
– Если мы, господа, хотим сплотить народные силы, то объединим их вокруг идеала дворянства и пойдем вместе с поляками. "Ибо, коли с поляками встанем, сами шляхтичами станем".
Он не окончил фразы, заметив суровый, укоризненный взгляд Мацкявичюса.

XXXI
Вдруг за окном застучали колеса.
– Поглядите-ка, Стяпас, кто там приехал? – отрядил лакея пан Сурвила.
Вскоре в сопровождении Стяпаса в гостиную вошел Пянка. Все удивились позднему визиту. Пянка выглядел озабоченным, словно собирался объявить нечто из ряда вон выходящее.
– Прошу извинить за опоздание, – произнес он, здороваясь с хозяевами и раскланиваясь с гостями. – Задержался в пути. Я, паны мои, из Вильнюса. Сообщу вам нечто такое, что, я уверен, вас не только удивит, но и потрясет.
Все придвинулись поближе, Виктор и Ядвига отошли от окна, а Стяпас снова прислонился к дверям веранды.
Переведя дух, Пянка продолжал:
– Да, милостивые паны, возвращаюсь из Вильнюса.
Состоялось важное совещание. Подготовка к восстанию обретает конкретные формы. Простите, но не имею права оглашать фамилии. Однако движение вскоре охватит своим влиянием весь край. Прежде всего, мы устроили в Друскининкай патриотическую манифестацию и гулянье с участием множества дворян и простолюдинов. Ах, если бы вы видели, как великолепно выглядели пляски на поэтических берегах Немана! Играло два оркестра, до полуночи не смолкали национальные песни и мелодии. Господа танцевали с сельскими девушками и женщинами, а крестьяне, не конфузясь, кружили дам и барышень.
Кудревич скептически относился к братским манифестациям, затеянным ретивыми режиссерами. Он едко заметил:
– Не знаю, паны мои, насколько танцевальный патриотизм выдержит испытания огнем…
Пропустив мимо ушей эту реплику, Пянка восторженно делился своими впечатлениями:
– Подобное же гулянье под лозунгом братства сословий состоялось в день Люблинской унии и в Вильнюсе, в Бельмонтском лесу. Кроме шляхты, присутствовали преимущественно городские ремесленники. И скажу вам паны мои, что если в Друскининкай литовские селяне не слишком уразумели смысл празднества, то патриотический энтузиазм вильнюсских цехов возбуждал гордость! Какие там звучали речи, какие виваты и тосты! Как все целовались и обливались слезами, вспоминая о судьбах отчизны и ее невзгодах! Нет, пан Кудревич! Такие чувства бесследно не угасают! Они выстоят и под огнем!
Придвинувшись к стене, Мацкявичюс сидел, крепко стиснув зубы, зажмурившись, видно, погрузившись в свои мысли. Казалось, он не обращает внимания на речи варшавского витии.
Пянка принялся излагать, что произошло в тот день в Каунасе и как отозвался Вильнюс на каунасскую манифестацию.
– Манифестацию эту организовали шляхтичи – сторонники Речи Посполитой и унии. Символическое объединение Литвы и Польши должно было произойти на мосту через Неман. Ведь Каунасский край представляет Жемайтию, Литву, а Занеманье, Сувалкия – Королевство Польское. Под колокольный звон всех каунасских костелов огромная процессия со знаменами, с пением патриотических гимнов направилась через весь город к мосту. Полиция, уланский эскадрон и казачий отряд не сумели остановить толпу – было приказано не применять оружия. Процессия уже приближалась к Алексотскому мосту.
А по ту сторону Немана собиралась толпа из Гарлявы, Панемуне, Алексотаса. На мосту шествию преградили путь солдаты и казаки. Толпа попыталась прорваться, еле удалось избежать кровопролития. Тем временем солдаты успели убрать два понтона. Образовалась брешь, не позволявшая соединиться обеим процессиям. Казаки ретировались.
– Однако, паны мои, – продолжал Пянка свое повествование, – объединение свершилось! Нашлись смельчаки, отыскали эти два понтона и заполнили брешь. Произошло почти чудо. И люди верили, что это – подлинное чудо! Процессии соединились, все со слезами радости бросались друг другу в объятия, целовались и плакали, предчувствуя скорое освобождение объединенной отчизны.
Вдруг Мацкявичюс поднял голову. В глазах у него сверкнули насмешливые искорки.
– Вы говорите, – обратился он к Пянке, – что произошло без пяти минут чудо – символическое объединение Литвы и Польши на Алексотском мосту? Узкая и ненадежная основа для унии, господа мои… А кроме того, я не знаю, пожелают ли люди в Литве вообще отяготить себя новыми узами. Первая уния распалась, оставив нам одни лохмотья.
– Да что вы, ксендз! – высокомерно улыбнулся Пянка, словно замечание Мацкявичюса не заслуживало внимания.
А Ядвига с интересом взглянула на ксендза. Это – новая мысль!.. Потом обратила вопрошающий взгляд на Виктора. Тот незаметно пожал плечами. Вопрос казался ему любопытным, хотя далеко еще не ясным.
Пянка картинно живописал, как объединенная процессия направилась в Гарляву, затем в Вейверяй, как было отслужено молебствие, после которого занеманские "коронные" провожали жемайтийцев и литовцев обратно в Каунас.
Тут рассказчик изъявил желание передохнуть. Стяпас налил ему чаю, он отпил несколько глотков и минуту сосредоточенно молчал. Потом вновь повел рассказ об огромном впечатлении, которое произвели в Вильнюсе первые вести о каунасской манифестации. Неведомо откуда пронесся слух, будто каунасская процессия направляется в Вильнюс. Значит, следует их достойно встретить. Вильнюсцы стали собираться на каунасской дороге. Высчитали, что каунасцы должны прибыть 15 или 16 августа. Толпа их не дождалась, но излила свои патриотические чувства, посетив место казни Конарского.
Потом установили точно: каунасцы появятся в воскресенье 18 августа в восемь часов вечера.
Необозримая толпа от Остробрамских ворот устремилась на Погулянку. Туда стеклось множество парода, Кто-то крикнул: "Идут!" Все бросились вперед, прорвались сквозь кордон казаков, но у городских ворот толпу встретили солдаты со штыками наперевес. Толпа накинулась на них с дубинами и камнями, войска пустили в ход оружие. Во время стычки получили тяжелые штыковые ранения руководители манифестантов – шляхтич Крыжевич и ремесленник Вельц. На выручку солдатам подоспела конная казачья сотня, и толпа была рассеяна. С обеих сторон много раненых.
– Итак, паны мои, день ото дня все ярче разгорается боевой дух! – воскликнул Пянка. – Не угасить его ни штыками, ни винтовками, ни пушками! Когда наступит день, по данному знаку восстанут сыны порабощенной отчизны с оружием в руках, и вольность будет завоевана.
Сурвила-отец сидел, опустив глаза, Кудревич и Шилингас изумленно переглядывались, только Ядвига и Виктор горячо жали Пянке руку, безоговорочно поддерживая его пылкие чувства.
А хозяйка дома настойчиво уговаривала запоздалого гостя сесть за стол и приказала Стяпасу принести закуску поосновательнее.
Мацкявичюс воспользовался этим, извинился и сказал, что хочет побеседовать с Акелайтисом наедине. Когда они вышли на веранду, ксендз извлек из своих вместительных карманов сверток.
– Это поручил вам передать студент Буцевич. По поводу ваших изданий он уже дважды ездил в Клайпеду.
Печально, пан Акелевич! Царские агенты проследили, что Буцевич посещает типографию Хорха, и выкрали ваши рукописи. Российский консул запротестовал против печатания ваших прокламаций и "Времен года" Донелайтиса. Кое-что Буцевич вам здесь пересылает.
Развернув сверток, Акелайтис обнаружил две отпечатанные патриотические революционные песни, переведенные им с польского. Буцевич писал, что поэма Донелайтиса и воззвания Акелайтиса "Грамота вильнюсского деда" и "Сказка деда" угодили в лапы царских соглядатаев, а потому большая опасность грозит не только Буцевичу и Акелайтису, но и всем, кто был об этом осведомлен.
Новости повергли Акелайтиса в уныние.
– Давно знаю, что жандармы и полиция за мной следят. Теперь придется быть начеку. Если увижу, что дело дрянь, удеру за границу, во Францию. Там много наших людей.
– Что же получится, коли мы все разбежимся, а своих людей оставим на произвол панов и жандармов, – упрекнул Мацкявичюс.
– Ксендз! – оскорбленно вскрикнул Акелайтис. – Если меня теперь арестуют, я уже никогда и никому не принесу пользы. А если ускользну, то, как только начнется восстание, приеду сражаться за свободу края. Заверяю вас в этом своей честью и памятью отца и матери!
– Отлично, господин Акелевич. Верю вам. А пока что дайте-ка мне несколько ваших песен. Пригодятся на манифестациях и молебнах.
Мацкявичюс сунул листки в карман и предложил Акелайтису прогуляться по саду. По всему было заметно, что Клявай – имение средней руки, управляемое не магнатом, но толковым хозяином. Тут о хозяйственных постройках заботились больше, чем о жилых хоромах. Амбар и хлева – новые, просторные, содержатся в чистоте. А барский дом – старый, одноэтажный, деревянный, с мезонинами и верандой со стороны сада, фронтон украшен четырьмя деревянными колоннами. За ветхим зданием тщательно следят. Столетние липы, тополя, клены и каштаны вокруг панских хором очищены от сучьев, чтобы не заслоняли солнца. Да, здесь избегают роскоши, излишних трат, стараются вести дело практично, прежде всего в интересах хозяйства, а не во имя комфорта.
Акелайтис семенил за ксендзом, который крупными шагами подминал садовый гравий, и пробовал что-то втолковать ему про соседей Сурвилы. Но Мацкявичюс, поглощенный собственными мыслями, плохо слушал. Так вот каково имение, владелец которого по всей округе слывет не только хорошим, рассудительным землевладельцем, но и демократом, "хлопоманом", а сын его обучается в Петербурге и распространяет прогрессивные, революционные идеи! Да, из этого юноши, наверно, вырастет замечательный человек! Ксендз с восхищением вспоминает слова Виктора о положении простого народа во всей империи.
Но к старому Сурвиле Мацкявичюс не чувствует ни крупинки симпатии. Пускай этот пан – гуманный и якобы даже справедливый. Гуманность его – эгоистическая, справедливость – поверхностная. Грош цена такой справедливости, когда он богатеет крестьянским трудом. Сурвила – это Огинский в меньшем масштабе, пусть по-человечески и более порядочный, но такой же себялюбец. Правильно заметил Кудревич, наступило время, когда крестьянин и помещик становятся врагами. Непримиримы были они и прежде, но теперь об этом уже сами хорошо знают и соответственно строят отношения. Одно достоинство у Сурвилы – все ясно видит, сам себя не обманывает и других не надувает.
Пан Сурвила обещал поддержать восстание, ибо стремление свергнуть царскую власть объединяет всех, независимо от того, кто чего добивается. А чего бы хотел Сурвила и прочие помещики его масти? Восстановить Речь Посполитую в старых границах, закрепить господство шляхты, умиротворив крестьян жалкими подачками. Нет, с такими претензиями пусть лучше и не суются! Так загубят все восстание!
Солнце зашло, пора было думать о возвращении.
– Ну, господин Акелевич, пойдем в комнаты, чтобы не подумали, будто мы сбежали или гнушаемся панской компанией, – пошутил Мацкявичюс. – Останетесь у Сурвилы?
Акелайтис словно заколебался:
– Наверно, да. Впрочем, неизвестно, как пан Кудревич. Я ведь у него секретарем…
Он тяжело вздохнул, взглянул на ксендза печальными глазами и произнес с непривычной горечью:
– Ах, ксендз! И сам не знаю, у кого живу и где мой дом. Брожу по людям, питаюсь чужой милостью… Свет не без добрых людей… Но не раз кажется горьким хлеб скитальца!
Мацкявичюс сочувственно поглядел на собеседника:
– Понимаю, господин Акелевич. И я несколько лет так скитался. Такова уж доля нас, мужицких детей. Только вырвемся из родного гнезда – угодим в чужую среду. Ничего. Наступит время, и учение, свет станут легкодоступными и для крестьянских детей. Тогда не придется слоняться по чужим углам.
Уже подходя к хоромам, они увидели, как с веранды спустились Ядвига и Виктор и свернули на дальнюю дорожку, заросшую кустами сирени.
Мацкявичюс произнес с понимающей улыбкой:
– Пожалуй, господин Акелевич, у детей отношения складываются лучше, чем у отцов. Дымша мне не зря об этом говорил.
– В самом деле, – согласился Акелайтис. – Как бы только романтика юности не отвлекла их от сурового долга. Было бы обидно.
– Не думаю. Такая романтика скорее побудит к самопожертвованию, чем здравый смысл и сытая жизнь.
Когда они вернулись в гостиную, Пянка рассказывал, как успешно проходила подготовка к большой патриотической манифестации 12 августа. Вильнюс, Каунас и Паневежис пережили нечто невиданное. Особенно хорошо осознали важность этих манифестаций владельцы поместий и горячо их поддержали, но крестьяне пока довольно холодны. Надо их расшевелить. Кто же это может сделать? Ксендзы! Нужно вовлекать в движение как можно больше представителей духовенства.
– Ксендз! – воскликнул Пянка, увидев Мацкявичюса. – От вас зависит успех, ибо в ваших руках простой народ! Воздействуйте на него, убедите, воспламените его! Надо внушить братские чувства всем сословиям. Мы – сыны единой матери! Наступает час поднять меч. Победим или погибнем! Без вольной отчизны нет жизни!
– Справедливо, – согласился ксендз, – свобода для нас великая драгоценность. Лишь свободный народ создает прекраснейшие цветы культуры. За это мы будем бороться и других поведем на борьбу. Не согласен я только, пан Пянка, что без свободы нет и жизни. Даже и порабощенный народ иногда предстает изумительным творцом. Скорбь придает ему силы для больших свершений и еще больших дерзаний. Идеал свободы видится в высоте, оживляя, вдохновляя, возвышая не только избранных, но и толпу.
Услышав эти слова, Пянка воодушевленно провозгласил:
– Таков польский романтизм! Выдвинутый им идеал свободы уже заснял во всей чистоте. И нация претворит его в плоть.
А Мацкявичюс, словно не расслышав, продолжал свою мысль:
– Для того, чтобы и в рабстве стать творцом, народ должен быть сильным, стойким, сознательным. Созреть не только для независимости, но и для сопротивления рабству. Тогда он будет зрелым и для вечности.
– Неужели таков и литовский народ? – с еле заметной насмешкой осведомился Сурвила.
Мацкявичюс ответил на этот вызов:
– Литовский народ, вернее, литовский крестьянин до сих пор выдерживал тяжкие испытания. Его не сломило ни крепостное ярмо, надетое на него дворянством, ни гнет царской бюрократий и жандармов. Поэтому я без колебаний призову простой народ на борьбу.
Пянка в новом порыве воскликнул:
– Испытание рабством еще в большей степени выдержало дворянство. Объединим же силы дворян и простолюдинов! Разбудим братские чувства! На манифестациях в Друскининкай, Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе сделано многое. Продолжим это дело! Распространим призыв к братству всех сословий!
Мацкявичюс слушал громкие фразы варшавского агитатора со снисходительной улыбкой. Поощрять крестьян к восстанию, разумеется, нужно, но брататься со шляхтой – напрасный труд. Мацкявичюс не организовывал паневежской манифестации в память унии. Когда же она произошла, он использовал ее, чтобы произнести свою речь.
– Хорошо, пан Пянка, – ответил он и, переглянувшись с Дымшей, подошел к хозяевам прощаться.
Стяпас доложил, что бричка подана, и проводил Мацкявичюса во двор.
– Стяпас, – обратился к нему Мацкявичюс, – знаешь, я твоего племянника Пятраса свез к дяде в Лидишкес.
Стяпас поклонился.
– Слышал. Спасибо, что выручили. Тут ему жизни не было.
– А у тебя как?
– Ничего, ксендз, я доволен.
– Землю хотел бы получить?
– Землю? Сам не знаю! Отвык. А вот по свободе стосковался.
И, подумав, добавил:
– Мне-то еще полгоря. Пан по-человечески обходится. Но вот другим, таким, как я…
Не окончив фразы, безнадежно махнул рукой.
– Как думаешь, Стяпас, что для нас самое нужное, когда восстанем и скинем власть? – допрашивал ксендз.
Охотно откликается Стяпас. Он знает, Мацкявичюс не упустит случая потолковать с каждым, кто его заинтересует. И бояться его не нужно, он не станет злоупотреблять чужими тайнами. Потому Стяпас отвечает откровенно:
– Трудный это вопрос, ксендз. Нужно, чтобы жизнь стала легче. Людям нужна земля. Ученье нужно. Нужно, чтоб тебя считали человеком, а не скотом. Чтобы в своем краю можно было говорить на родном языке, чтобы за работу давали положенное вознаграждение. Многое нужно. Коли подумать, нужно все сделать иначе, чем теперь.