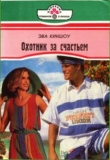Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)

XVII
Пятрас с сожалением провожал глазами Мацкявичюса, пока повозка не скрылась за поворотом дороги. В пути они сблизились, сдружились. Обычная крестьянская стеснительность парня стала быстро таять, едва оба сели в бричку.
– Первую милю я за возницу, а ты – за пана, – посмеивался ксендз. – Вторую милю тебе править, а мне – панствовать. Потом опять: ты – барии, а я – кучер. Не так скучно ехать… Эй, бабка, с дороги, раздавлю! – окликнул он женщину, которая брела впереди, взмахнул кнутом, натянул вожжи, и жемайтукас пустился бодрой рысцой.
Мацкявичюс все время был весел, оживлен, рассказывал молодому Бальсису про свою юность, про Вильнюс и Киев, взволнованно говорил о нищете народа и о ее причинах – панском произволе и беззакониях властей.
Интересовался житьем-бытьем Пятраса, расспрашивал о родителях, родне, особенно о дяде Стяпасе, про которого уже и сам ксендз немало знал. Слушал Пятраса и делал выводы – одно одобрял, за другое осуждал.
Очень по душе ему склонность Пятраса к чтению. Ксендз дивился знаниям молодого крестьянина, его способности подмечать и правильно оценивать многое в жизни.
– Эх, парень! – восклицал он. – Жалко, что не добился ты ученья! Смог бы открыть глаза землякам. Они бы скорее поняли, откуда их нужда, как ее уничтожить.
Потом Мацкявичюс вспомнил, как жадно слушала его слова Катре Кедулите, эта славная синеглазая девушка.
– Пятрас, очень тебе нравится Кедулите?
– Нравится, ксендз…
– Очень ты ее любишь?
– Люблю… очень, – конфузливо посмотрел на ксендза Пятрас и встретил открытый взгляд Мацкявичюса, одобряющую улыбку.
Хорошо, легко и приятно стало юноше, и он, уже не конфузясь, принялся рассказывать про Катрите, про их любовь, про то, как им трудно приходится из-за упрямства Кедулиса и происков Скродского.
Мацкявичюс слушал внимательно, сочувствуя, одобряя, потом стал утешать и подбадривать. Все пойдет хорошо. Пятрас устроится – не у дяди, так у другого. Работы в Жемайтии хоть отбавляй. А потом пускай женится. Оба с Катре молодые, крепкие. Нечего бояться нужды. И сам он, Мацкявичюс, поможет им в меру сил. И бог благословит. Правильно люди говорят: дал бог зубы, даст и хлеба.
Жадно ловил Пятрас эти слова, такие простые и душевные. Исчезали сомнения, крепла твердая решимость. Вспоминалась отцовская поговорка: не тот силен, кто бьет, а тот, кто выдюжит. Пятрас Бальсис выдюжит!
После этой поездки он чувствовал себя по-новому. Мысли, суждения, замечания Мацкявичюса, как добрые семена, запали в его душу, впечатлительную и жаждущую знания, и сразу проросли новыми всходами. Но душе нужен свет и тепло. А после отъезда необыкновенного ксендза молодой Бальсис словно очутился в холодной пустыне, такой одинокий у этого богатого дядюшки!
Он закрывает ворота и робко возвращается во двор, где дядя собирается обтесывать топором колья.
– Вот и проводили редкого гостя, – обращается старик к племяннику. – А ты-то как к нему пристал?
– Прослышал, что собирается в Титувенай, вот и попросился.
Дядя укоризненно глядит на племянника:
– Хватило совести просить ксендза подвезти?
– А чего ж, дядя? – удивился Пятрас. – Ксендз Мацкявичюс меня хорошо знает. А в дороге и вовсе сдружились.
– А-а… – промычал дядя. – Стало быть, не спесивый ксендз.
– Ничуть не спесив. Все больше с простыми людьми. Панов не жалует.
– Только, говорят, и за костелом плохо следит. Все его дома нет да нет, – едко заметил дядя.
– Э, сколько уж этих дел у нас в Пабярже… И Сурвилишкис рядом.
– И у епископа, я слыхал, он не в особой чести. Потому и прихода получше не получает, – не унимался старик.
– Может статься, – согласился Пятрас. – Говорят, и сам не хочет прихода получше.
Но дядя не смягчался:
– Семья небогатая. Был бы получше приход, смог бы родне помочь.
– А у вас, дядя, сколько земли? – спросил Пятрас, чтобы придать другое направление разговору.
– С лугами и корчемной будет примерно полтора надела, – горделиво стал объяснять старик. – Земли немало, потому и работы много. Держим запряжку волов, пять лошадей, шесть коров, не считая уж мелкой скотины и птицы.
– Лошадей как много! – дивился Пятрас.
Дядя стал набивать трубку, предвидя, что разговор с племянником затянется.
– Волов по привычке держим, – пояснил он, пуская первый дымок, – и то на мясо продавать. Пашем на лошадях. Другая выходит работа.
– И земли здесь другие.
– Земля неплохая. Рожь хорошо родится, а кое-где и мерку-другую пшенички посеем. Созревает. Только чинш душит.
Пятрас восхищенно оглядел двор, постройки, сад:
– И усадьба у вас, дядя, хороша.
Дяде по душе похвала племянника, но он прикинулся равнодушным:
– Ничего, жить можно, – процедил он, посасывая трубку. Видно, желая еще пуще изумить своим достатком, предложил:
– Идем, покажу, где что лежит.
На сеновале Пятрас поразился немалому запасу сена и еще большему количеству овсяной соломы. Видно, дядина скотинка питается на славу. И по другим постройкам можно судить о богатстве хозяина.
Но больше всего удивила Пятраса клеть. Здесь столько всякого добра – взглядом не охватишь: в закромах разное зерно – рожь, ячмень, овес, горох и пшеница, бочка муки, на стене висит много всякой одежды. Два огромных сундука, тоже, видать, не пустые, – в них, наверно, холсты и приданое Эльзе. На полке под потолком торчат мотки шерсти. В углу на крюках развешаны упряжь, седло, удила, поводья. Другой угол завален пряслами чесаного льна.
– Так не управляетесь, дядя, со своей семьей? – спросил Пятрас.
Дядя недовольно рукой махнул:
– Как же управишься? Сколько нас? Мы с матерью уже стареем, только за домом присматриваем. Савуте замуж выдали, не в этом, так в будущем году и Эльзите обвенчаем. Миколаса решили в ученье пустить. Пранукас пока что может только стадо пасти. Остается Юргис. Крепкий работник. Хочет жениться и хозяйство на себя взять, а мы все удерживаем, пока Миколас на ноги не встанет. И нам с матерью еще неохота быть при снохе. И время теперь беспокойное. Мы говорим – пускай малость уляжется, чтоб ясно стало насчет земли. Потому и приходится чужих нанимать. Девку рядим на круглый год, а работника – только в страду. Может, оно и к лучшему, что ты подвернулся. Трудно теперь с наемными.
Показав свои постройки и хозяйственную снасть, Бальсис полюбопытствовал:
– А батраком или лесничим в поместье не хочешь, коли жениться собираешься? Говорят – там житье неплохое.
– Все равно – поместье. Опостылело панам служить. Хоть и работать на такого, кто побогаче, все не на чужака. Лучше у своего человека батрачить, чем у какого-нибудь генерала прохлаждаться.
Дяде понравились слова Пятраса.
– Правильно. Мы все, деревенские, будто родня. Вместе работаем, из одной миски хлебаем. А пан нашего человека ненавидит, издали обходит. Разве что беда прижмет – деньги понадобятся или еще что-нибудь… И то не сам обратится, а подошлет комиссара либо управителя. А коли будешь дуралеем, поверишь ему, сунешь тысчонку – поминай как звали. Такая уж ихняя порода – гордецы и надувалы.
Пятрас подумал – не сам ли дядя сунул пану тысчонку, но спросить не решился.
После обеда Юргису опять понадобилось в поле.
– Кончу сеять, – сказал он. – А кто взборонят? Неужто так бросать?
Взборонить вызвался Пятрас. Ему не терпится познакомиться с полями, с севом в этих краях. Взяли лошадей и верхом поскакали в поле. Бороны нашли у лугов. Пятрас оглядел их с любопытством. Крепкие, с острыми железными зубьями, каких в Шиленай ни у кого нет. Они взрезали землю прямо, ровно, на комьях не выворачивались и не подскакивали, как деревянные, подвязанные путами и лыком.
Подвесив лукошко, Юргис зашагал по полю, мерными взмахами правой руки бросая ячмень во взрыхленную почву. Хороший был день для сева – тихий, спокойный. Ровным полукругом ложились зерна. А сеятель шаг за шагом подвигался к краю пашни. Вслед за ним шла Эльзите и ставила вешки – пучками соломы отмечала место, до которого падали семена. Дойдя до лужка, Юргис повернул обратно и начал засевать новый прогон, неторопливо, привычными размеренными движениями. Хмурое лицо Юргиса постепенно светлело. Работал он без куртки, с непокрытой головой. Солнце не пекло, а приятно согревало плечи и голову, рубаха еще не взмокла, только живительное тепло расходилось по суставам, словно соки вешней земли, от которых раскрываются листья и цветы и поднимаются всходы.
Опорожнив лукошко, он пошел в тот конец, где боронил Пятрас. Там с утра были составлены мешки с зерном. Юргис пристально поглядел на участок. Ничего, ладно работает Пятрас. Хоть и невелик труд – даже пастушка смогла бы. Но небось они в своем Шиленай ни плуга, ни бороны порядочной в глаза не видали!
Работа на одной пашне, тепло вешнего солнца, трели жаворонков, ароматный весенний воздух сближают обоих больше, чем родственная кровь. Проходя мимо Пятраса, Юргис останавливается, заговаривает:
– Как наши бороны? Хороши ли в деле?
– А как же? Такие зубья! – похваливает Пятрас. – Но мне больше хочется плуг испытать. Уговаривал я своего отца, чтоб завел. Но пока на панов спину гнем – не стоит.
– Испробуешь, – обещает Юргис. – Что ж, останешься у нас?
– Коли дядя позволит, останусь.
– Как не позволить! Работник нам нужен. Уже подыскивали наемного. Останови, потолкуем.
Пятрас осадил лошадей, и оба уселись на бороне.
– Нелегко тебе у нас придется, – продолжает Юргис.
– И дома нелегко. Тут тяжелее не будет.
– Увидишь… Жесткий у меня отец.
– Верно, не жестче пана, – возражает Пятрас.
После недолгого молчания Юргис заговорил:
– Вот ты сказал, что на своего, хоть и на богатого, не так тяжко работать, как на чужака… А я тебе напротив скажу. Свой кнут, братец, больнее сечет. И ярмо у своего труднее тащить. Против чужака и так и сяк, а против своего – и не пикнешь! Всю кровь высосут, последние соки выжмут…
Пятрас удивленно слушал и не знал, как отозваться.
Но Юргис не дожидался ответа. Захотелось, видно, излить скопившуюся на сердце горечь.
– Вот хоть я. Третий десяток на исходе, а батрачу на отца. Сестрам – выделы, приданое, братцу наука – все из моих рук. Люди говорят – дай бог одному уродиться, да не одному трудиться. А со мной наоборот: родился не единственный, а работаю один. Еще кто его знает, чем все кончится…
– А чем же кончится? – перебил Пятрас. – Женишься, заберешь в свои руки хозяйство, будешь родителей содержать. Чего еще надо?
Но Юргис думал иначе.
– Жениться? Легко сказать! А на ком?
– На тебя, братец, уж девок хватит. И красавиц, и с выделом. В такое хозяйство каждая будет набиваться.
– А тебе-то много ли выдела сулили?
– Я – другое дело. Мы, барщинники, за тем и не тянемся. У нас и девок нет с выдела ми. Откуда его взять, коли пан в имении все сжирает? Хоть бы приданого малую толику.
– Вот видишь, – продолжал Юргис. – Только пробьешься к богатству, сразу тебя по ногам-рукам и свяжут. В жены возьмешь не ту, что тебе мила, а которая побольше достатку принесет.
Теперь уже Пятрас с сочувствием поглядел на двоюродного брата:
– Невесту выбрал, а родители не пускают оттого, что бедная?
– Скажу тебе прямо – хочу на Морте жениться.
– Кто это – Морта?
– Да ты за обедом видел. Наша работница.
Пятрас скрыл свое удивление.
– Ничего. С виду – девушка хорошая.
– Очень хорошая, – обрадовался Юргис. – Уже третий год у нас. Свыклись мы, друг другу понравились. Вот я и говорю родителям: пора мне, третий десяток на исходе… Морта – девушка хорошая, в хозяйстве разбирается. Говорю – деньги нужны, но мы поработаем и сколотим. Женюсь, говорю, на Морте, а другой мне не сватайте. Как накинутся оба! Приглядели тут Каспарайте с тысячью рублей и большим приданым. А я на нее и смотреть не хочу. Уперлись родители, и я уперся. Хотели Морту выгнать. Но я пригрозил: коли так, работайте сами – уйду в поместье батрачить. Тогда и Морта – пара.
Облегчив сердце, Юргис принялся сеять. Пятрас продолжал боронить – и ему словно легче стало. Предупредил его Юргис, что придется не сладко, зато терпеть не в одиночку – будут у него друзья: Юргис с Мортой, а может, и Эльзите, и Миколас, коли тот когда-нибудь здесь появится.
Вечером, закончив работу, оба верхом поехали домой. Солнце заходило за пригорок. По ту сторону дороги по незнакомым полям тянулись тени. Слева – несколько лип, впереди – деревья села Лидишкес. Все незнакомо, неприветливо. По дороге пастушата с криками и щелканьем бичей гнали большое стадо. Серая туча пыли повисла в воздухе. Пранукас вернулся с коровами, пастушка – со свиньями. Дядя хлопотал по двору, следил, чтобы на ночь все как следует прибрали, заперли.
После ужина тетка с Эльзе затревожились: куда уложить гостя? В избе спали Морта и пастушка, в светлице – Эльзе, за перегородкой – родители, в клети – Юргис и Пранукас. Больше кроватей нет, а на лавке гостю негоже. Пятрас захотел ночевать на сеновале. Теперь уже не холодно, он привычный.
Получив от Эльзе подушку и одеяло, пошел, закопался в сено, но долго не засыпал. Набралось много новых впечатлений и мыслей. Но постепенно возобладал образ Мацкявичюса. В серой запыленной пелерине, сдвигая шляпу то на лоб, то на затылок, ксендз с горящими глазами все что-то говорил – оживленно и увлекательно.
Некоторые слова Мацкявичюса так врезались в память Пятраса, что и сейчас еще звучат в ушах:
–.. Люблю Литву и ей отдам все силы!
– …Как искупления, жду воли для своего народа.
– …Корень нужды – царская власть. Скоро все восстанут и освободятся от ее когтей!
– …Кто честен – того угнетают, негодяи – в почете.
– …Паны – это бич для народа. Наступит время, когда сотрем их в прах!
– …Пятрас, будь твердым, а коли понадобится – и беспощадным. Пан с жандармами тебя бы не пожалели. Придет пора – не пожалей их и ты.
И много подобных слов всплывает в его памяти. Возникают и снова тускнеют образы дяди Стяпаса, Акелайтиса, Скродского с Юрьевичем, но ярче всех – воспоминания о Катре. Теперь уже Пятрас не горюет. На чужом холодном сеновале хорошо думать, что и Катрите вспоминает, тоскует по нем. После тревог и мук дождутся они светлых, солнечных дней.
Размечтавшись о Катрите и о будущем, Пятрас незаметно погружается в сон.

XVIII
На следующее утро после кровавой расправы все крепостные поместья Багинай еще до восхода солнца собирались на барщину, как приказал войт. Из четырех деревень тянулись пахари с волами. Вслед за ними везли харчи, сохи и все необходимое – с нескольких дворов по повозке: панские поля далеко, и вернуться можно только через несколько дней.
Сурово хмурясь, впрягали в то утро волов шиленские землепашцы. Подневольный труд никогда не радовал, а что и говорить после такого страшного дня! Вышли на панские поля преимущественно старики отцы. Молодые, иссеченные в кровь, ворочались на лавках, отмачивали исхлестанные спины водкой, прикрывали мокрыми тряпицами с листьями подорожника, чтобы вытянуть жар.
Среди пахарей на этот раз не было самых первых шиленских парней – ни Пятраса с Вннцасом, ни Норейки, ни Янкаускаса, чьи затеи и шутки разнообразили тяжелый труд и веселили даже самых угрюмых.
Утро было туманное, небо насупилось. Низкие тучи поливали землю мелким дождиком. Пахари, скинув лапти и постолы, босиком топтали свежие борозды, не обращая внимания на дождь, только изредка утирая рукавом потные лица. Пахали молча, не щелкали кнутами, не свистели, не покрикивали, только налегали на сохи, брели за волами, словно чувствуя собственным затылком тяжесть ярма.
К завтраку погода прояснилась. На небе стали обрисовываться голубые просветы, белесый солнечный шар нырял в жидкие завесы туч, лучи желтоватыми полосами ползли по серой шири пашен. Веселее запели жаворонки, с лугов приветствовали пахарей чибисы, а в лесу звонко отдавалось кукование.
Но пахари ни на что не обращали внимания. Крепко держа сохи, мрачно шагали за волами и равнодушно измеряли прогоны, повернувшись, втыкали соху в новую борозду и снова двигались к противоположному концу.
Уже вспахали немалый участок и солнце показывало время завтрака, когда к окраине поля подскакали управитель и войт, чтобы проверить, кто вышел на барщину. Явились все, но управляющему казалось, будто работа идет медленно.
– Всего только и вспахали, проклятые лежебоки! – орал он, размахивая плеткой. – Когда же кончите? Ячмень пора высевать, а у нас еще овес не посеян – поле не вспахано! Вам бы только бунтовать против пана! Шевелись поживее, старая образина! – вопил он, гарцуя вокруг Бальсиса.
К нему-то больше всего и придирался управитель – видно, за Пятраса. Старик пахал, не обращая внимания на окрики, с горечью в сердце. Весь свой век работал прилежно, терпеливо влачил долю крепостного, образцово выполнял все повинности. Постройки и скот у него, как и у Даубараса, самые лучшие на селе. И чего он добился? Унижения, панской ненависти и мести, угрожавшей всей его семье.
Но в глубине души старик Бальсис сознает свое достоинство. Гордится братом Стяпасом и сыном Пятрасом, хоть и не всегда их понимает и не всегда соглашается с их мятежными речами. Винцас и Микутис – тоже хорошие дети. А жена и дочери – что за ткачихи! На несколько верст кругом таких не найти. Приятно об этом думать.
Лад и согласие в семье облегчают Бальсису крепостное иго. Жизнь его не сломила. Он остался прямым, хоть и чуть ссутулился. Не склонял голову и открыто смотрел человеку в глаза. Никому в ноги не кланялся и не хватал панских рук для поцелуя. Прежде управителю это было безразлично, но теперь Пшемыцкий не мог сдержать злобы при виде этого пожилого, седовласого пахаря в подпоясанной чистой рубахе, который спокойно шагал за сохой.
– Живее, старый обормот, и все вы, лоботрясы! – надрывался пан Пшемыцкий.
Никто не отозвался, пахали, как обычно, – всякий знал, что вола быстрее не погонишь. Накричавшись, оба панских прислужника поскакали дальше, а шиленские хозяева борозда за бороздой взрывали помещичью землю, протянувшуюся до самого леса.
Обедать направились к опушке, где было больше травы для волов, а под деревьями стояли повозки с едой. Каждый брал, что привез, и, усевшись в тени, молча жевал черный мякинный ломоть и прихлебывал постный борщ или щавель.
Полуденное майское солнце обильно проливало с небес тепло и свет на чернеющие пашни и луга, закурчавившиеся свежей травой. Было еще не жарко, но нагретый воздух уже поднимался от самой земли светлыми волнами, и верхушки дальних холмов дрожали в золотистом солнечном свете. Слепни и оводы еще не показывались, но мухи жужжали возле потертых мест на воловьих спинах. Поэтому волы толклись у орешника, искали тени погуще.
Когда волы кончили жвачку, пахари, позевывая, потягиваясь, отряхиваясь от дремоты, поднялись с лужайки и погнали их к сохам. Как раз вовремя – на закраине поля снова появился управитель, опять бранился, стращал розгами и новым увеличением барщины.
– Ты нас больно не ругай, пан управитель, – не выдержал Бальсис: пан Пшемыцкий, словно ястреб, больше всего крутился вокруг него. – Больно не стращай. Еще раз кинем сохи, так хоть целый полк солдат пригони, не запряжешь нас больше панскую землю пахать.
– Что?! – не веря своим ушам, заревел управляющий. – Опять беспорядки? Уж не только сыновья, а и отец против пана подзуживает? Велю тебя так отодрать, хлоп, что живого места не останется – на животе поползешь!
Бальсис выпустил соху, выпрямился во весь рост и, глядя в упор на Пшемыцкого, твердо проговорил:
– Меня уж ничем не запугаешь, пан управитель. Не ори. Недолго мне жить, не страшны мне твои розги.
Пахавшие поблизости Якайтис и Галинис, оба крепкие мужики, услышали угрозы управителя, оставили волов и направились к спорившим. Заметив это, Пшемыцкий подхлестнул своего жеребца и что-то пробормотал, но последних его слов пахари не разобрали. Пан Пшемыцкий счел, что в такое тревожное время безопаснее не раздражать больше хлопов.
На заходе солнца шиленские крестьяне кончили пахоту. Кто привязывал волов к телегам, кто у деревьев давал им мешанку с соломой – только на заре их пустят пощипать траву.
В сумерках стало прохладнее. С лугов поднимался туман. Вскоре весь простор между лесом и пашнями, молчаливый и таинственный, забелел, как озеро. Ни один звук не нарушал унылой тишины. Птицы, дневные щебетуньи, уже спали, только какие-то ночные хищники беззвучными призраками маячили у опушки. Внезапно с дерева или из кустарника раздался душераздирающий вопль. Бальсис вздрогнул, суеверно перекрестился. Верно, сова растерзала дрозда или синичку. Где уж отгадать, что означают эти нежданные и зловещие ночные звуки!
Управившись с волами, крестьяне на лужайке разложили костер. Потрескивая и шипя, горели сухие сучья ельника и осины, и красные языки пламени высоко поднимались в ночную тьму. Пахари доставали с возов узелки и сумы, кое-кто наливал в чугунок похлебку и ставил на раскаленные уголья. Поужинав, искали ночлега поудобнее – под кустом, под возом, поближе к костру, подстилали тулупы или сермяги и засыпали тяжелым сном истомленного человека.
Невесело прошел этот день и в деревне Шиленай. Дома оставались бабы и наказанные. Женщин заботили огороды – самая пора сеять мак, свеклу, бобы, репу и редьку, высаживать лук. Но кругом шныряли солдаты, и боязно оставить избу. У Бальсиса, Даубараса, у Нореек, Янкаускасов и других, владевших полным волоком, стояло по два драгуна с конями, у владельцев полуволока – драгун с лошадью.
Уже с первого дня начались распри с солдатами. Надо кормить людей и лошадей, а пищи и кормов нету. Поселившиеся у Бальсисов драгуны поставили лошадей на сеновал, а сами заняли светелку. Избитой до крови Гене и Онуте пришлось перебираться в клеть. Винцас лежал в черной избе на лавке. Там же ночевали Бальсене и Микутис. Как вернется отец с барщины, придется ему ютиться на гумне или в сушильне. Оттуда легче уследить, чтобы солдаты не заронили огня от курева.
Уже в первое утро возник спор из-за еды. Бальсене подала всем гороховую похлебку с постным маслом. Домочадцы смачно уписывали, но солдаты потребовали заправить салом или молоком. Ни того, ни другого у Бальсене не было, а никто из женщин не умел сговориться с солдатами.
Перед обедом женщины услышали во дворе шум и перепуганное кудахтанье. Выбежав во двор, мать увидела, что солдаты с обнаженными саблями гоняются у гумна за хохлатками. Драгун взмахнул саблей, и голова пеструшки покатилась на траву. Курица еще трепыхалась, но солдат потащил ее к плотничьему месту, где другой солдат разводил огонь.
Бальсене чуть не обмерла от злости и жалости. Размахивая руками, она напустилась на драгун:
– Бесстыжие живодеры! Самую лучшую мою наседочку! До сих пор еще неслась! Каждый день по яичку! Такой разор!
– Ничего, ничего, матушка! – паясничал криворотый драгун. – Поесть-то надо? Ась?.. Пожалела ты масла, сала, солонины – вот мы и сами найдем покушать. Не с голоду же подыхать…
– Подавиться вам, окаянные! Чтоб вам боком вышла эта хохлаточка! Саблями зарубили, лиходеи!.. – дрожа от обиды, честила их старушка.
А оба солдата уже ощипывали и подпаливали курицу. Потом принесли котелок, подвесили на жерди над огнем, опустили туда свою добычу, глумливо кривляясь.
У Якайтиса на дворе драгуны закололи свинью, у Григалюнаса – свернули голову утке, у Вашкялиса – отобрали все молоко, у Бразиса – отыскали спрятанное "ало, стали приставать к дочери Сташиса, к молодой жене Вашкялиса. Много горя было и с лошадьми. Для них забирали последнюю охапку сена, растаскивали семенной овес. Уже с первого дня чуть не на каждом дворе вспыхнули кровные обиды.
Но не меньшее разочарование овладело и солдатами. Облазив все дворы, они убедились, что у этих оборванцев дольше, чем несколько дней, не продержишься. Не все же рубить головы курам и колоть свиней! А во что превратятся кони от такой кормежки? Угнетала и зловещая крестьянская ненависть. У самого тупого сердце не вынесет, когда кругом нахмуренные лица, полные укоризны, презрение в глазах, когда тебя издали обходят молодухи и девушки, а бабы в голос честят почем зря.
Да и не все драгуны были такими уж тупыми. Большинство – сыновья крепостных. Разочарование в царском манифесте, выступления крестьян против помещиков и правительства взволновали не одно солдатское сердце. Не пропали даром и слова Мацкявичюса, сказанные двум драгунам в избе Даубараса. Оба в тот день вышли на улицу, глубоко задумавшись.
Командир эскадрона с войтом распределяли на постой. Оба драгуна попросили оставить их у Даубараса. Назавтра, когда пахари шли в поле, оба, побродив по опустевшему селу, вернулись во двор и, усевшись на бревна, беседовали:
– Знаешь, Данило, этот ксендз, что вчера с нами толковал, не такой, как другие попы.
– Верно. И Украину нашу знает, в Киеве учился. Эх, Тарас, когда мы со своими повидаемся?
Тарас печально покачал головой:
– Не скоро, брат. Лет через двадцать. И что найдем, как вернемся?
– Собачья жизнь! – сплюнул Данило. – Кто мы такие? Нагайка в наземной руке. Остер на язык этот ксендз!
– Заставляют нас пороть голодных, нищих мужиков за то, что они панов не слушают. Черт бы нас подрал! – выругался Тарас.
Оба замолчали.
– А коли бы и впрямь всем мужикам восстать, а, Данило? Ведь не выдержала бы власть? Как думаешь?
– Прикуси язык, – осознав страшный смысл этих слов, приструнил Данило. – Знаешь, что за это? В эскадроне всякие люди водятся. Другой так и норовит, как пес, исподтишка куснуть. Остерегайся.
Оба знали, что надо особенно опасаться палачей-добровольцев, которые при случае сами вызываются пороть мужиков. Нашлись такие любители и здесь, когда потребовалось наказать зачинщиков, осужденных паном Скродским. Из десяти драгун, гнавших арестованных в поместье, четверо добровольно пошли помогать Руби-кису под навес, где у корыт валялись охапки свежих прутьев.
Тут Данило рассказал Тарасу: он сам слышал – вернувшись после экзекуции, эти мастаки со смаком описывали во всех подробностях, как пороли бунтовщиков, а те орали и дергались от боли, как приятно наказывать преступников против царской власти.
– А нам-то самим сладко ли, когда палок отведаешь или тебе морду раскровенят? Мерзавцы! – возмущенно процедил Тарас. – Что же, надобно быть начеку. Жалко мне здешних людей. Убраться бы отсюда поскорей. Им голод грозит, и мы тут – как собаки.
Через два дня драгуны принялись открыто ворчать – невтерпеж, коли так дальше пойдет, начнутся болезни и падеж лошадей. На пастбищах за конями не угонишься, а корма уже на исходе.
Не мешкая, командир эскадрона поскакал с рапортом в Кедайняй.
На другой день он привез радостную весть. Ввиду того, что крестьяне поместья Багинай покорились приказам властей и пана и явились на работу, содержание войск в деревнях в качестве меры экзекуции отменяется. Командир велел драгунам готовиться к отъезду.
Тарас с Данилой, сложив свои пожитки и оседлав коней, пришли в избу попрощаться. Старый Даубарас, лежа в кровати, тяжело дышал, дочка Пятре что-то шила у окошка. Больной с каждым днем слабел, и уже нельзя было оставлять его без присмотра. Маленький Игнюкас играл подле матери.
– Ну, хозяюшка, – обратился к Микнювене повеселевший Тарас, – не поминайте нас лихом. Служба – ничего не попишешь. Коли еще доведется встретиться, не бойтесь. Мы с Данилой вас не обидим.
Подошли к отцу, но тот лежал с закрытыми глазами и, казалось, не слышал, что происходит кругом. Печально покачали солдаты головами – плохи дела у старика. Попрощавшись с молодой хозяйкой, приласкав Игнюкаса, вышли во двор, сели на коней и ускакали.
Словно тяжелый камень скатился с груди шиленцев. Женщины заторопились убирать, наводить порядок. Даже наказанные, сняв прилипшие к пояснице тряпки, вышли на солнышко лечить раны.