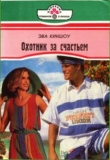Текст книги "Повстанцы"
Автор книги: Винцас Миколайтис-Путинас
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Подобные разговоры слыхал и Акелайтис. Он знает, что эти идеи исходят из Петербурга и Москвы, из русской эмигрантской революционной прессы. Кто их проповедует, Акелайтис хорошо не помнит, но в ушах его звучат имена Чернышевского и Герцена.
Все это, правду сказать, приемлемо и для него. Ведь он сын крестьянина, сам крестьянин, своего происхождения не скрывает – наоборот, даже гордится им. В письмах к знакомым дворянам часто подписывается "хлоп", иногда именует себя и "Хлопицким". Но, учительствуя в дворянских домах, он сжился со шляхтой – трудно теперь порвать эти узы. И притом, некоторые польские шляхтичи и помещики в Литве благосклонны к его заветной мечте – создать литературу на литовском языке, издавать книги и газеты. Это горячо одобрили паны Балинский, Крашевский, а помещики Огинский, Радзизилл, Карпис, Бистрамас, Шемета немало пожертвовали денег. Огинский приглашал его к себе в Ретаву, обещал учредить типографию для печатания книг и газет. Все это расстроилось из-за враждебности царского правительства. Нет, нелегко Акелайтису возбуждать вражду против дворян, помещиков, но зато против императора всероссийского, против правительства злые чувства в нем так и кипят.
И сейчас Стяпас Бальсис и крестьяне ведут разговор против помещиков, а Акелайтис – против власти. Крестьянам хотелось бы услышать от него – идти им на барщину или нет.
– Как вы думаете, – допытывается Даубарас, – не вышвырнет нас Скродский из наших дворов, ежели завтра пахать не выйдем?
Акелайтис боится ответить что-нибудь определенное. Да и откуда ему знать? А Стяпас рубит как топором:
– Не вышвырнет! Права такого не имеет. Кто каким полем владел в день манифеста, столько и получит. Скродский сам не соблюдает инвентаря, и мы можем не соблюдать. Пускай в суд подает – там и решат.
Даубарас только сплюнул. До сей поры суды так решали, как пану желательно. Может, теперь по-другому? Но покамест о том никому не ведомо.
Стяпас их подбадривает. И у него пробуждается обида. Разве есть у него чему порадоваться, чем утешиться? Разве он не беднее даже брата Иокубаса, хоть я вкуснее ест, и чище одет? Что с того, что пан его не ругает, не порет. Все-таки он – всего лишь барский лакей. В нем нетрудно заметить внешние признаки профессии лакея: бритое лицо с бакенбардами, безразличное, но угодливое выражение лица, чуть наклоненное вперед туловище, осторожные движения рук, тихую, плавную походку.
Но в глубине души он сохранил мужицкое упорство. На панов своих смотрит снисходительно, немного насмешливо, хотя никогда этого не выказывает. Паны все равно паны, хоть и называют себя демократами и друзьями крестьян.
Но про молодого паныча Виктора Стяпас ничего плохого не скажет. Паныч редко появляется в Клявай. Но когда приезжает, то есть, что послушать, – и про господ, и про царя. И теперь, подбадривая шиленских крестьян, Стяпас, сам того не сознавая, повторяет обрывки речей Виктора:
– Не бойтесь, мужики, вы не одни! По всей Литве и Польше народ поднимается против панов. Да чего там – по Литве! По всей России крестьяне не желают больше помещикам покоряться, готовятся бунтовать против царя. Миллионы восстанут! Потребуют земли и воли. Много ученых людей даже в самой столице чувствуют, чего крестьяне хотят, понимают: царь с панами в одну дудку дудит.
Крестьяне глядят на Акелайтиса. Тот подтверждает:
– Действительно, будет восстание. В Польше и в Литве поднимутся не только крестьяне, но и паны. Все вместе пойдут проливать кровь за свободу отчизны.
– Так и Скродский пойдет? – не выдержал Пятрас.
Ему поспешил ответить Стяпас:
– Скродский уж нет. Этот царя боится. Пойдут Виктор Сурвила, Вивульский, Далевский, Яблоновский и многие другие. Они за то, чтобы крестьянам дали землю и волю.
Из всего этого крестьянам ясно одно: пришло время всем подниматься. И у них крепнет решение не ходить больше на барщину. Все равно нет больше панщины, не могут уж их сечь управители, войты и приказчики.
Солнце скрылось за сеновалом, тень доползла до скамей, где сидели Бальсисовы гости, и с поля дохнуло прохладой. Акелайтис и Стяпас заторопились в путь. Вдруг на улице снова залаяли собаки, послышался топот, во двор въехал верховой. Стяпас с удивлением узнал кучера из их поместья.
– Откуда взялся, Юргис? – спросил он.
Юргис, отведя в сторонку Стяпаеа и Акелайтиса, объяснял:
– Пан Сурвила меня прислал – может, встречу вас на обратном пути. Приперся к пану какой-то жандарм и давай расспрашивать насчет пана Акелевича. Пап Сурвила говорит, чтоб пан Акелевич взял мою лошадь и скакал куда-нибудь подальше отсюда. Чтоб жандарм его лучше не видал.
Стяпас сразу сообразил, в чем дело, и принял решение: пусть Акелайтис берет коня и скачет в Пабярже, к ксендзу Мацкявичюсу. Тот уж будет знать, куда его спрятать. А они с Юргисом вернутся в поместье. Спросит жандарм – скажут, что Акелевич отправился в Паневежис.
Вскоре с Бальсисова двора выехал всадник, а вслед за тем в противоположную сторону свернула желтая бричка. Соседи еще выжидали, не расходились. Всякий чувствовал, что надвигается какая-то угроза, но никто еще толком в ней не разбирался.
Не успели крестьяне поделиться впечатлениями, как во двор влетел Ионукас Бразис. Задыхаясь, еле вымолвил:
– Е… е-дет…
– Кто? Говори же!
– П-пан Скродский с другим паном.
Все опешили, засуетились, но никто не кинулся прятаться. Даже женщины и девушки остались кучкой стоять у крыльца.
Пан Скродский со своим юристом задумали осмотреть поля Шиленай и, усевшись в фаэтон, отправились в объезд по крестьянским пашням. Поля панам очень понравились: ровные, с небольшим наклоном, хорошо возделываемые уже много лет, годятся для любых хлебов, а самое важное – расположены возле имения. Непременно нужно непокорных мужиков выдворить в Заболотье, а их наделами округлить поместье.
Помещик приказал вознице возвращаться через село, чтобы взглянуть на крестьянские хаты. В деревне они сразу же встретили желтую бричку. Седоки со Скродским не поздоровались. Человек, одиноко стоявший в воротах, униженно поклонился проезжающему пану.
– Как звать? – окликнул Скродский.
– Сташис, вельможный пан.
– Сташис? А, тот самый, которого войт и управитель хвалят за верную службу. – Скродский велит остановить лошадей. – Скажи, кто такие проехали и со мной не раскланялись?
– Брат Иокубаса Бальсиса – Стяпас, пана Сурвилы лакей, а второй, верно, ихний дворовый, вельможный пан.
Скродский злобно нахмурился:
– Жаль, что раньше не знал. Велел бы своему кучеру вытянуть их кнутом. Чего они тут кружатся?
– Брата Иокубаса проведывали, вельможный пан. Туда чуть не все село сбежалось. Не иначе – насчет барщины советовались.
– Поезжай и остановись у Бальсисова двора, – приказал вознице Скродский.
Там помещик вылез из фаэтона.
– Ну, пан Юркевич, – обратился он к юристу, – проводите-ка меня на это хлопское сборище. Видите, сколько их тут набралось.
Опираясь на тросточку, он важно вошел в ворота – высокий, с поднятой головой, с выпяченной острой бородкой. Юркевич неохотно брел сзади – в двух-трех шагах.
Скродский, окинув крестьян взглядом, отрывисто спросил:
– Кто хозяин этого двора Иокубас Бальсис?
– Я, пан. – Старый Бальсис протолкался вперед и поклонился помещику.
– Что у тебя за сборище?
– Да просто, пан, брат навестил, так и несколько соседей зашли.
– Чтоб у меня с Сурвиловским поместьем – ни родства, ни кумовства! – прикрикнул помещик.
– Не знал я, пан, – тихо произнес Бальсис.
– Вам вчера было приказано с лошадьми и телегами в поместье прибыть. Отчего не явились?
Крестьяне безмолвно стояли, понурив головы.
– Отчего не явились? – зло прохрипел Скродский.
После недолгого молчания вперед выступил Пятрас.
В руке он держал дубовый кол – после отъезда дяди собирался подпереть ворота. Скродский и Юркевич подозрительно поглядели на рослого, крепкого парня с непокрытой головой. Небрежно откинутые русые волосы, вызывающий взгляд, крепко сжатые губы и немного высту-лающая вперед челюсть говорили о силе и упрямстве. Он встал одним боком к Скродскому, другим к крестьянам – так, чтобы видеть и своих, и панов. Широко расставил ноги, словно врос в землю, большими, жилистыми руками сжимая дубину.
Поглядев на односельчан, устремивших на него взгляд, Пятрас обернулся к пану и заговорил, медленно взвешивая слова:
– Вчера, пан, потому на работу не вышли, что два последних дня недели никогда не ходили. В эти дни свои поля обрабатываем. А завтра не пойдем потому, что слишком далеко нас гонят, да опять же на всю педелю. Ночи теперь холодные и травы мало. Куда деваться с волами без кормов и без харчей?
– Харчей можете забрать из дому, сколько влезет! Не мое дело вас кормить! – орал Скродский. – Барщинные дни я прибавил потому, что вы других повинностей не выполняете. Управляющий и войт это знают.
– Неправда, барин, – возражал Пятрас. – Все выполняем, а коли что еще не исполнили, так и время на то не приспело. Правда, братцы? – обратился он к поселянам.
– Правда!.. Чистая правда! – кричали все, подбодренные словами Пятраса.
– Ты кто таков? – гаркнул Скродский и шагнул в его сторону. – Бунт против меня затеваешь?
Но Пятрас не испугался.
– Я – Пятрас Бальсис, барин. Я не бунтую. Мы только правды добиваемся.
Слово "правда" больше всего взбесило пана Скродского.
– А! Ладно! Покажу вам правду! Сотню… нет, две сотни горячих! Взять!.. Связать!
Но Пятрас и теперь не испугался. Никто его здесь не схватит и не свяжет. Он продолжал дерзко прекословить пану:
– Нет уж, пан. Больше нас пороть не будете. И в царской грамоте сказано – крепостное право отменено навеки.
Юркевич, однако, подробно объяснил Скродскому статьи манифеста. Помещик знал: за ним пока сохранены суд и расправа.
– Все село будет наказано! – выкрикнул он, взмахнув тростью, словно собираясь собственноручно пороть крепостных. – А те, кто здесь, – вдвойне!
Он оглядел стоявших перед ним крестьян, перевел взгляд подальше, на кучку женщин у крыльца. И вдруг лицо его преобразилось. Злоба сменилась интересом, любопытством, и глаза сверкнули восхищенным огоньком.
В первом ряду женщин стояла Катре Кедулите. Синеглазая, с венком русых кос, изумленная и напуганная, прижимая к груди край сползшей косынки, она была очень хороша и выделялась в толпе.
Пятрас проследил за взглядом Скродского и все понял. Он решительно выступил вперед, и перед паном вместо пленительного девичьего образа внезапно возникло горящее гневом лицо парня. Одно мгновение казалось, что пан ударит его тростью – рука Скродского уже замахнулась, а рот исказился от ожесточенной ярости.
Но глаза и весь вид непокорного парня обличали страшную решимость. Пятрас стиснул дубину – даже мускулы напряглись. Минуту оба врага стояли лицом к лицу: помещик посинел, у него от злобы дергался подбородок, а парень, побледнев, напрягся, чтобы одним ударом дубины размозжить череп ненавистному пану.
Скродский не выдержал. Хлестнул тросточкой по лакированным ботфортам, повернулся и, сопровождаемый Юркевичем, зашагал на улицу.
– Ну, проклятый хлоп, тебе это так не пройдет, – процедил он, садясь в коляску.
Кучер пустил лошадей, и Скродский, преследуемый лаем собак, укатил из села.
Когда соседи Бальсиса опамятовались и начали расходиться, Пятрас нагнал Кедулите.
– Испугалась пана, Катрите? – спросил он, заботливо заглядывая ей в лицо.
– Ах, Петрялис, как увидала его страшные глазищи, что в меня впились, – чуть со страха не померла.
– Плохо дело, Катрите, приглянулась ты пану. Теперь берегись. Огибай поместье издали, а коли вызовут на работу, не ходи. Знаешь, что там ждет пригожих девушек.
Катрите покраснела и насупилась.
– Не дождется он! Я бы ему глаза выцарапала, нос расквасила!
Пятрас с восхищением улыбнулся;
– Ладно, Катрите, не робей, только в поместье – ни ногой.
– Пятрас, до чего я струсила, как увидела, что ты на пана – с дубиной. Неужто решился бы?
– А вот провалиться мне на этом месте, Катрите! Только бы он меня тронул. Так двинул бы – больше не потребовалось бы. Будь что будет! Довольно этой собачьей жизни!
Некоторое время они шли молча, задумавшись.
– Катрите, – снова заговорил Пятрас уже более спокойно. – Дождемся осени – повенчаемся.
– Отец противится, – вздохнула Катрите.
– С отцом мы поладим. Коли понадобится, так и ксендз Мацкявичюс за нас заступится. Самое главное – пан.
Они дошли до двора Кедулисов, но расставаться еще не хотелось. Катре знала: отца нет дома – верно, в корчме торчит, а мать была бы даже рада выдать дочку за Пятраса. Поэтому они побрели дальше, не боясь злых языков: всей деревне известно, что Пятрас Бальсис – парень не ветрогон, в любой день может посвататься к Катре Кедулите.
Помещика Катре боялась, как и все девушки в селе. Но до сих пор видела его только издалека, когда он проезжал или прогуливался. А сегодня очутилась от него совсем близко. Еще и сейчас она ощущает плотоядный взгляд, и ужас пронзает сердце.
Катре невольно прижимается к Пятрасу. Он защитит ее от Скродского. Полюбился Катре Пятрас за отвагу, за силу, за светлый ум и доброе сердце. Ведь не кто иной, как он, раскрыл ей глаза, научил ее разбирать и по-печатному и по-писаному. И теперь дает ей книжки, которые она жадно читает тайком от отца.
Шагая по просохшей обочине улицы, Пятрас чувствует близость Катрите, и в груди поднимается тепло, Давно Катре ему по душе. Он полюбил ее раньше, чем она его. Пятрасу нравились ее косы, открытые, смелые глаза, носик с легкой горбинкой, полные красные губы и еще эта ямочка на подбородке. Нет, милее девушки Пятрас не встречал. А до чего трудолюбива, находчива, услужлива.
Некоторое время они шли молча. Деревня тонула в закатных тенях, только навстречу им от Галинисовой липы доносились голоса собравшейся молодежи. Ни Пятрасу, ни Катре туда не хотелось, они повернули обратно и остановились на площадке под Сташисовым явором.
Пятрас ощутил странную тревогу и, взяв девушку за руку, вымолвил:
– Слышала, Катрите, о чем толковали господин Акелайтис и дядя Стяпас? Говорят, восстание против власти начнется, может, уже на будущий год. И Дымша про то же самое нашептывает.
Слухи о близком восстании доходили до них и раньше. Ксендз Мацкявичюс тоже усердно их распространяет. Пятрас с Катрите не слишком обращали на это внимание. Но сегодня, когда Акелайтис так поспешно уехал, а Пятрас столкнулся со Скродским, да еще односельчане не выполнили панского приказа, слухи стали совсем осязаемы.
– А ты бы пошел, Пегрялис? – спросила Катре, еще сильнее прижимаясь к нему.
– Пошел бы, Катрите, – отвечал он без колебаний.
Она задрожала.
– А как же я без тебя?
Он нахмурился и стиснул зубы. "Скродский!.." – защемила страшная мысль. Но он подавил тревогу и беззаботно махнул рукой:
– Ну, про это пока думать рано. Восстание, может, еще не скоро начнется. Тогда успеем все уладить… Да ежели восстание, так и Скродского заставим поплясать, – успокаивал он ее, хотя сам не знал, когда все это произойдет.
Теплое чувство захлестнуло его сердце. Обняв девушку, он притянул ее к себе.
– Что бы ни было, Катрите, я тебя не оставлю.
– И я тебя тоже, Пятрас, – откликнулась она, поднимая глаза на его ставшее серьезным лицо.
Не много говорили они, но ощутили, как эта далекая, пока неясная опасность словно сблизила их.
Пора домой! Они отошли от явора и молча повернули по улице. У Кедулисова двора Пятрас повторил:
– Дождемся осени – повенчаемся.
Девушка крепко сжала ему руку:
– Ах, Петрялис, чует мое сердце, придется еще слезами умыться.
– Ничего, Катрите, – утешал ее Пятрас. – Коли понадобится, все вынесем. Но уж никто нас с тобой не разлучит.
Она поглядела на него с благодарностью, укуталась в платок и распрощалась.
Уже темнело. В вечерних сумерках село еще больше приникло к земле, слилось в сплошную черно-серую полосу. На деревья садились запоздалые вороны, где-то скулила собака, где-то заблеяла овца, промычала корова, расплакался ребенок, в некоторых избушках засветились крохотные оконца. В хатах зажигали лучину, доедали оставшуюся с обеда картошку, ломоть хлеба, миску простокваши и собирались ко сну.
Гнетущая тишина охватила Шиленай после погожего, но тревожного весеннего дня.

VIII
До Пабярже Акелайтис добрался уже к вечеру. Подскакав к настоятельскому дому, привязал коня, поднялся по скрипучему крыльцу и постучал. Пожилая женщина, открывшая двери, сообщила, что ксендз дома, В то же время в дверях прихожей показался и сам Мацкявичюс с дымящейся трубкой в руках. Это был мужчина в расцвете сил, лет тридцати пяти, среднего роста, худощавый, немного сутулый, с продолговатым лицом, с темными волосами, зачесанными набок, с сосредоточенным и внимательным взглядом.
Акелайтис назвал себя, сказал, что прибыл от пана Сурвилы по важному делу. Ксендз пригласил зайти.
Комната была просторная, с белеными стенами и потолком, с некрашеным, чисто вымытым полом. Посредине стоял большой стол и несколько стульев, у стены – старый, выцветший диван и книжный шкаф. За столом трое мужчин разглядывали развернутую карту. Шипел самовар, дымились стаканы с чаем, на тарелках лежал нарезанный хлеб, кусочек масла, два ножа.
Единственной роскошью была большая, выбеленная, жарко натопленная печь. Приятное тепло уютно настроило Акелайтиса.
Один из сидевших за столом обернулся, и Акелайтис узнал Дымшу. Несколько раз доводилось ему встречать шляхтича у Сурвилы и Кудревича. Двух других он видел в первый раз. Сидевший с края низкорослый, широкоплечий мужчина встал, прислонился к печке и с нескрываемым любопытством смело разглядывал Акелайтиса. Второй, худощавый, с костлявым лицом, помешивал чай; он исподлобья осмотрел прибывшего и, снова опустив глаза, притворился, будто все свое внимание сосредоточил на стакане. Но Акелайтис чувствовал: и этот наблюдает и изучает его.
Все трое попали в Пабярже каждый по своему делу и встретились у Мацкявичюса совершенно случайно, зная, как радушно ксендз принимает всякого, особенно прибывшего издалека. Так как же не зайти и не посоветоваться с ним! А советоваться было о чем. После манифеста заволновались крепостные, еще яростнее стали паны, не оберешься всяких вестей и кривотолков. А Мацкявичюсу интересно и важно – где что творится. Не с сегодняшнего дня болеет он душой за крестьян. Знает, что близится пора великих потрясений, что в Польше назревает восстание. До него дошла весть, что и в Вильнюсе организовался центр будущего движения.
Своим сегодняшним гостям он доверяет. Дымша – его старинный приятель. Другие двое – тоже давние знакомые. Бите – плотник, отважный и толковый человек, который, как еж, щетинится против власти. Лукошюнас – крестьянин из казенного поместья – точит зубы на панов, наглядевшись на житье соседских крепостных.
А этот приезжий?.. Фамилию Акелевича ксендз уже слышал, но хорошо не припомнит, при каких обстоятельствах.
Дымша встал со своего места и подошел к прибывшему:
– А, господин Акелевич! Здорово!.. Позвольте, ксендз, познакомлю его с вашими гостями, потому что сам всех хорошо знаю. Господин Акелевич – писатель, литератор, педагог.
Он показал рукой на стоявшего у печи мужчину и полушутливо представил:
– Адомас Бите, презнаменитый мастер, закадычный друг пана Винцента Белазараса из поместья Гринкишкяй.
Потом кивнул головой на сидевшего за столом:
– Антанас Лукошюнас, забияка из Зарасайского уезда.
Акелайтис поклонился и, воспрянув духом от такой сердечной встречи, спросил Мацкявичюса, может ли он изложить свое дело.
– Пожалуйста, господин Акелевич, говорите откровенно, – подбодрил ксендз. – У нас тут секретов нет. Кроме того, надеюсь, что ничего страшного нам не скажете.
Тогда Акелайтис вкратце объяснил причину своего прибытия. Мацкявичюс внимательно выслушал и, не вдаваясь в подробности, сказал:
– Хорошо, господин Акелевич. Сегодня переночуете у меня тут на диване, а завтра дам проводника, который кружными путями доставит вас к господину Кудревичу. Полиция и жандармы теперь следят за каждым новым человеком. В Варшаве – патриотические манифестации, у нас крестьяне волнуются. Вам лучше без надобности не попадаться жандармам на глаза.
Он приоткрыл боковую дверь и крикнул:
– Марцяле! Дай-ка еще стаканчик. Пожалуйста, господин Акелевич, закусывайте, пробуйте, что есть на столе. Не большой я барин, плохо гостей принимаю. Зато от чистого сердца. Ну, господин Дымша, какие еще сегодня новости принес?
Шляхтич отпил глоток чая и пододвинулся со своей картой к ксендзу.
– Только что вернулся из Расейнского уезда. Невеселые вести, ксендз. Просто удивительно, как этот манифест быстро возбудил людей. Они не слушаются панов, а их наказывают розгами. Кому от этого будет польза, ксендз?
Мацкявичюс сурово насупился.
– Велико долготерпение литовского мужика, господин Дымша. Но когда оно иссякнет, тогда увидим, кому от этого польза. Что ты слышал?
Шляхтич откашлялся, вытащил маленькую записную книжку и стал ее листать:
– Манифест когда объявили? 24 марта. Всего через неделю в Каунасском и Расейнском уездах, между Юрой и Дубисой взбунтовались крепостные двенадцати имений. Знаешь, может, ксендз, в Расейнском уезде Лабгиряй? Большое поместье – две с половиной тысячи душ. Генеральши Кайсаровой. Ой, пакостная баба! Задумала устроить новый фольварк и пятьдесят крестьян вышвырнула из усадеб, многих освободила без земли, а остальных донимала барщиной и повинностями сверх всякой меры. Поэтому лабгирцы, только услышали про царский манифест – все как один отказались от барщины и прочих обязанностей. Говорят: режьте нас на куски, гоните на каторгу – больше так жить не будем, на барщину к Кайсарихе не пойдем! Пускай нас немедля на чинш переводят.
– Знаю это имение, – подтвердил Мацкявичюс. – Что ж, перевели их на оброк?
– Эх, ксендз! – махнул рукой шляхтич. – По требованию Кайсаровой прибыл жандармский полковник Скворцов и флигель-адъютант Манзей с двумя ротами пехоты и эскадроном драгун. Всех солдат и лошадей распределили по лабгирским дворам. На каждого хозяина пришлись четыре пехотинца или три кавалериста. Солдаты и кони быстро сожрали все харчи, корма, даже посевные семена. Когда и это не помогло, Манзей приказал пороть бунтовщиков – от пятидесяти до полутораста горячих. Ой, что делалось! И все осталось по-старому, ксендз.
– Ты так думаешь? – мрачно отозвался Мацкявичюс. – В подобных случаях ничего не остается по-старому. А в других местах?
– И в других местах в том же роде, – продолжал Дымша. – Флигель-адъютант Манзей и жандарм Скворцов рьяно радеют о помещиках. Расправились с крепостными Кайсарихи и пустились в другие поместья, где крестьяне не слушаются панов. В имении Гелгуде тоже розгами погнали людей на барщину.
Приземистый Адомас Бите, с живым интересом следивший за рассказом Дымши, подошел к столу.
– У меня сведения из Шяуляйского уезда, – он четко выговаривал каждое слово. – Тут военной экзекуции первым потребовал Владислав Комар. У него в поместье кавалерийский эскадрон и местный исправник наводили порядок. А что они там навели, и без слов всякому понятно.
Он торопливо отхлебнул чаю и снова отошел к печке.
Лицо ксендза все мрачнело, а пальцы правой руки нервно барабанили по кромке стола. Потом он встал и, сильно дымя трубкой, принялся крупными шагами расхаживать из угла в угол. Акелайтис заметил: несколько нижних пуговиц кургузой сутаны расстегнуты, сквозь полы видны голенища сапог.
После краткого молчания, помешивая чай, заговорил Лукошюнас:
– А у меня вести из Зарасайского уезда. Там взволновались крепостные панов Мейштовича, Беганского, Минейки, Зандера, Лопатинского, а особенно – у графини Платтер и князя Мирского. Это большие поместья – у Платтерши четыре тысячи душ, у Мирского – тысяча шестьсот. И здесь потрудились Манзей и Скворцов с эскадроном улан. А в Палепяй у помещика Костялковского и в других соседних имениях бунтовщиков не только выпороли, но кое-кого еще арестовали и посадили в тюрьму.
Пока говорил Лукошюнас, Дымша водил пальцем по карте, а Мацкявичюс смотрел через его плечо, чтобы заметить расположение этих мест.
Тем временем проголодавшийся Акелайтис пил чай. Когда Лукошюнас умолк, Дымша отодвинул карту и заговорил:
– В Кедайняй к графу Марьяну Чапскому приезжал его знакомый из Ошмянского уезда. Оказывается – и там то же самое. Там большое поместье с четырьмя тысячами душ – графини Замойской, есть и имения поменьше – Милевского и других. Крестьяне отказались от барщины, и в местечке Вия собралась большущая толпа – около двух тысяч. Царь, говорят, дал нам волю, на барщину больше не пойдем, а коли захотят нас заставить – будем защищаться. Двое суток шли переговоры с властями, а толпа все растет. Тогда вызвали войска и окружили бунтовщиков. И знаешь, ксендз, кто привел войско? Сумского гусарского полка поручик граф Тышкевич, разрази его гром!
– Который? – заинтересовался ксендз. – Тышкевичей много.
– Юзеф Тышкевич из Паланги и Кретинги, адъютант виленского генерал-губернатора. На что Чапский жестокий тиран – и тот ругался, что Тышкевич позорит дворянство Литвы.
– Так чем же кончилось с крепостными Замойской? – спросил Мацкявичюс.
Дымша горько вздохнул:
– Плохо кончилось, ксендз. Когда толпа отказалась повиноваться и выдать вожаков, Тышкевич с войсками и конными жандармами напал на людей. Кого ранили, кого растоптали насмерть. Многих арестовали, выпороли, другие разбежались.
– Ничего, ничего, – процедил сквозь зубы Мацкявичюс. – Наступит день – они снова соберутся, уже с косами, топорами, ружьями. Припомнят свои обиды и панам-дворянам, и губернаторам.
– Таким же образом подвизался граф Тышкевич и в Вильнюсском уезде – в имениях панов Котвича, Домейки и других. Всех не перечтешь. Такие же известия идут и из Швенченского уезда, – добавил Лукошюнас. – Просто удивительно – будто кто в одно время поднял наших людей против панов.
Мацкявичюс мимоходом стукнул по столу косточками пальцев:
– Нужда, голод, порка, несправедливости помещиков и начальства – вот кто поднял наших людей!
– Скажу еще про вотчину пана Скирмунта – Шементовчизну в Швенченском уезде, – продолжал Лукошюнас. – Там на манер графа Тышкевича постарался граф Олсуфьев, ротмистр императорской гвардии.
– Графам оно и к лицу, – озлобленно усмехнулся Мацкявичюс. – Чем именитее пан, тем меньше у него человеческих чувств.
– А крепостные пана Милачевекого, имения Жодишкяй собрались, ксендз, возле сельского распятия и принесли присягу – никаких крепостных повинностей больше не выполнять. Вот каких людей воспитали панские розги.
– Верно, Лукошюнас, – поддержал ксендз и вдруг улыбнулся: – Не зря нас отцы учили: "Розга здоровью вредить не может, розга ум в голову вложит".
– Ну, теперь наша очередь, ксендз, – перебил Дымша. – Вот крепостные пана Скродского уже отказались идти на барщину.
Ксендз проницательно глянул на шляхтича:
– Это вы их взбунтовали, господин Дымша?
– Нет, сами, собственной головой до этого дошли.
– Оно и хорошо, что своей головой. Подстрекать их ни к чему. Успешнее всего поднимают их панские розги и обиды, чинимые царской властью. Об этом мы не должны умалчивать.
– Но появляются и подстрекатели, ксендз, – заметил шляхтич. – Недавно заявился ко мне с самого Биржам некий Мулдурас, беглый солдат. Прежде я встречал его у пана Белазараса. Удивляюсь, как он до сих пор не попался в лапы жандармам. Наверно, знаешь его, мастер Бите?
– Как не знать! – отвечал Бите. – Пан Белазарас сколько раз его выручал. Думаю, он сам свою голову жандармам в пасть сунет.
– И что же этот Мулдурас? – нетерпеливо допытывался Мацкявичюс.
– Оказывается, приволокся ко мне из села Шиленай, где разъяснял манифест крепостным Скродского.
– Такой ученый?
– Ах, ксендз! Наговорил кучу всякой бессмыслицы. Вбивал людям в голову, будто паны спрятали подлинный манифест, а огласили фальшивый.
– И те поверили?
– Ксендз, нет сегодня такой нелепости, в которую бы не уверовали люди.
– А это означает, господин Дымша, что жизнь становится невыносимой и народ начинает верить небылицам.
Мацкявичюс большими шагами прошелся по комнате и снова остановился у стола. Голос его зазвучал твердо и внушительно.
– Правильно говорят люди: манифест фальшивый, ибо не удовлетворяет их надежд. Подлинный манифест объявим мы! Да, господа. Наступит день – и он не за горами, – когда мы дадим людям и волю, и землю! Подлинный манифест уже составляется – под боком у царя. Это будет боевой манифест. Готовят его не императорские комитеты, по борцы за народное освобождение – Чернышевский со своими друзьями в Петербурге, проповедует его герценовский "Колокол" в Лондоне. Слыхали о них? Я преклоняюсь перед Герценом. Благородное сердце, светлый ум! – приподнятым голосом, со сверкающими глазами продолжал Мацкявичюс. – Погодите, кое-что вам покажу.
Ксендз вышел в соседнюю комнату и минуту спустя вернулся с несколькими тонкими книжками.
– Вот это "Колокол", – сказал он, кладя книжки на стол.
Он открыл одну книжку и, водя пальцем, прочел:
– "В Москве и губерниях непрерывно секут розгами крепостных, особенно дворовых, за то, что они толкуют об освобождении". Крепостному нечего ждать милости от царя и панов, – продолжал ксендз, вертя в руках книжки. – Три года назад в "Колоколе" прозвучал суровый голос: "Слышите ли, нуждающиеся, ваше доверие к царю – бессмысленно. Кому теперь доверять? Помещикам? Никогда! Они – заодно с царем, а царь их явно поддерживает. Доверяйте только себе, только силе собственных рук: точите топоры, и – за дело! Разрушайте крепостное право, как сказал царь, снизу!"
Стальная нотка зазвенела в голосе Мацкявичюса.
– Разве не замечательно? – обратился он ко всем. – Это то, что нам нужно и сегодня. Слова словно вырваны из наших сердец!
– А крепостное право упразднили и без топоров, и не снизу… – отозвался неуверенно Дымша.
– Это мнимая отмена крепостного права! – воскликнул Мацкявичюс. – Так отменили, чтобы розги остались! Верховный комитет по реформе и проектировал: упразднить крепостное право, а оставить порку! Казалось – это бессмыслица, враки. Послушайте, как отозвался на этот проект Герцен ровно три года назад.
Ксендз взял у Дымши книжку и прочел:
– "Если это правда, пусть же первый топор, который они, господа, заставят подняться этим постановлением, падет на головы преступников!" Сегодня мы видим, что это правда. Розги остались! Топор обрушится на головы преступников! – крикнул ксендз и стукнул книжкой по столу.
На лице Лукошюнаса, между бровями, обозначилась крутая морщинка, а узкие губы сжались еще крепче. Бите глядел вдаль, а Дымша нервно барабанил по столу. Акелайтис почувствовал, как холодная дрожь прошла по спине.
Мацкявичюс, понурив голову, закинув руки за спину, тяжелыми каблуками стучал по полу. Потом снова заговорил низким голосом: