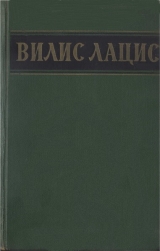
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 3. Буря"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
1
– Слышали? – еле переводя дух, выпалил Прамниек и сел за столик между Освальдом Ланкой и Гартманом.
В погребке гостиницы «Рим» было необычно малолюдно. Посетители, не задерживаясь болёе пяти минут выпивали кружку пива, закусывали и торопились уйти! Что-то гнало их на улицу, домой, к друзьям, все были чем-то возбуждены.
Эрих Гартман лениво потянулся к пепельнице, стряхнул пепел и удивленно посмотрел на Прамниека. Вид у того был взбудораженный, густые волосы прилипли к влажному лбу; концы галстука выбились из-под старого, испачканного красками пиджака, – очевидно, он выбежал из дому в чем был.
– Вы это про Зандарта спрашиваете? – широко улыбаясь, спросил Ланка. – Да, он у нас вчера выиграл в тотализатор тысячу семьсот латов. Вот угощает теперь друзей, – и он похлопал Зандарта по жирной спине.
Толстяк, не сводя восторженного взгляда с Эдит, самодовольно хохотнул:
– На собственного рысака поставил. Я своих лошадок знаю…
Прамниек возмущенно перебил его:
– Ах, да не о том вы… Неужели вам в самом деле ничего не известно?
Все вопросительно уставились на него. Прамниек говорил охрипшим голосом, как будто у него горло пересохло от жажды:
– Сегодня утром немецкие войска вторглись в Польшу. Мне знакомый из телеграфного агентства звонил, сказал, что ждут речи Гитлера по радио. Сейчас весь вопрос в том, будут ли Англия и Франция выполнять свои обязательства… Чехословакию же бросили в пасть волку, неужели и Польшу предадут? Ну и ну… Официант, кружку пива!
– Значит, вон уже до чего дошло, – несколько театрально закусив губу, протянул Ланка, – свершилось. Заговорили пушки, льется кровь, города превращаются в пепел.
– Ну, полякам достается поделом, – с авторитетным видом сказал Зандарт. – Позарились на чужое, отхватили… как ее… эту самую Тешинскую область. Когда Гитлер прибрал к рукам Чехословакию, он, будьте уверены, знал, что в скором времени заграбастает всю Польшу, потому и не мешал им! Нет, это здорово получилось, ей-богу здорово!
Он хотел еще что-то сказать, но не нашелся, торжествующе оглядел стол и потер руки.
– Господин Зандарт в известной мере прав, – сказал Гартман, насмешливо поглядев на него. – Поляки действительно подавились этим кусочком и оскандалились перед всем миром. Боюсь, что сейчас они ни в ком не вызовут сочувствия.
– Рыдз-Смиглы [14]14
Рыдз-Смиглы– один из ближайших соратников лидера польского фашизма Пилсудского. После его смерти (1935) – генеральный инспектор польской армии.
[Закрыть]и Бек [15]15
Бек– один из главарей польских фашистов. В 1932–1939 гг. – министр иностранных дел Польши, агент гитлеровской Германии.
[Закрыть]– это еще не вся Польша! – ударив кулаком по столу, крикнул Прамниек. – Только сумасшедшие или преступники могли вести такую политику, как они. А отвечать за этих продажных панов придется польскому народу.
– Так вы не считаете Бека польским патриотом? – спросил Гартман.
– Я уверен, что он гитлеровский агент в польском правительстве – ни больше ни меньше. А эта старая рухлядь Мосьцицкий [16]16
Мосьцицкий– ближайший соратник Пилсудского и один из главарей польских фашистов. В 1926–1939 гг. – президент Польской республики.
[Закрыть]служит для них вывеской.
– Пожалуй, крепковато сказано о главе дружественного государства, – заметил Ланка. – Хотя здесь нет никого из поляков, но вы бы все-таки поосторожнее…
– Через месяц за этого главу никто гроша ломаного не даст, – не унимался Прамниек. – А за свои слова я готов отвечать хоть перед Лигой наций.
– Ну, это еще не так страшно, – засмеялся Гартман. – Кажется, там скоро не перед кем будет отвечать. Невилю Чемберлену не увильнуть от руки судьбы. Его зонтик не укроет Европу от свинцового дождя, никто не станет искать под ним убежища. И вообще, должен вам признаться, хотя мне и пришлось покинуть из-за Гитлера родину, хотя по его милости мне негде издавать свои книги, но временами я просто восторгаюсь им.
– Ого! – покачал головой Прамниек. – Чем же это вы восторгаетесь? Его жестокостями? Истерическим кривлянием? Проповедью ненависти ко всем народам, потому что они не немцы? Вы что же, значит, тоже думаете, что латыши способны только к физическому труду? Так ведь он, кажется, сказал?
Но Гартмана нимало не смутили язвительные нападки художника.
– Подождите. Я только хотел сказать, что меня поражает его уменье добиваться поставленной перед собой цели. У него сверхчеловеческая воля. Обратите внимание, как он действует на массу. И главное – достигает осязаемых результатов. Вообразите себя хотя бы на секунду немцем. Тяжелые, унизительные послевоенные годы… инфляция, репарации, оккупация Саарской области… Какие перспективы на ближайшие тридцать лет были у Германии? Никаких. Теперь посмотрите, что сделал Гитлер… Как же после этого не считать его великим человеком, почти гением, как же не восторгаться им среднему немцу!
– А себя, господин Гартман, вы тоже причисляете к средним немцам? – спросил Прамниек.
Гартман развел руками:
– Если бы это было так, я не сидел бы здесь, а жил бы где-нибудь в Мюнхене, издавал бы большими тиражами по две книги в год и…
– И маршировали бы в строю штурмовиков, – смеясь, закончила Эдит. – Воображаю, какая это тоска – быть женой штурмовика. Ведь ему непременно каждый год подавай ребенка. Не принимайте это на свой счет, господин Гартман, но в общем я терпеть не могу немцев. Такие они надутые, так надоедают разговорами о своей миссии, о своей расе!
– Да, есть этот недостаток у моих соотечественников, и вы это очень остроумно заметили, – любезно согласился Гартман.
– Пожалуй, в конце концов и поверишь, – задумчиво сказал молчавший все время Ланка, – что они завоюют весь мир. Что-то не видно силы, которая могла бы противостоять им. Янки вряд ли сунутся, Англия насквозь прогнила, а русские слишком слабы. Фанерные танки, которые Ворошилов показывает на маневрах, никого не введут в заблуждение. Нет, кто хочет удержаться, тот должен искать опоры в Берлине.
– Ну да, надо идти на поклон к щуке: сделай милость, проглоти меня, коли есть аппетит, – буркнул Прамниек.
Официант принес пиво, и все замолчали, потягивая из кружек холодный, приятно горьковатый напиток.
Гартман встал из-за стола первым и ушел, не дожидаясь остальных.
– Интересный человек, – глядя вслед ему, сказал Ланка. – Притом какая широта взглядов, если он может испытывать гордость за успехи Германии, несмотря на то, что в будущем они грозят ему гибелью. Попадись он в лапы нацистам, они его живо повесят.
– Боже, какие ужасы, – поморщилась Эдит, – право, не довольно ли об этом?
– Когда же вы приедете посмотреть мои конюшни? – вполголоса спросил ее Зандарт. – Я недавно несколько лошадок купил. Ах, что за лошадки! С вашего позволения хочу одну гнедую кобылу назвать Эдит. Она у меня на будущий год первый приз на дерби получит.
Эдит погрозила ему пальчиком:
– Называйте как хотите, но моим именем не сметь! А лошадок я посмотрю с удовольствием.
– Как подвигается ваша картина, дружище? – спросил Ланка Прамниека, который уже несколько минут сидел молча, подперев кулаками щеки.
Прамниек словно расцвел. Угрюмый взгляд его просиял, даже голос стал мягче.
– Да вот натурщица заболела, иначе бы я ее за две недели окончил. У Олюк сложение не то, она больше на девочку походит. Тут нужна женщина высокая, величавая, вроде Эдит.
Эдит только молча взглянула на него – розовая, свежая, нарядная.
В дверях погребка Прамниек распростился с компанией и быстро зашагал домой. У всех прохожих в руках были еще сырые листы газет. Экспедиторы носились на велосипедах от киоска к киоску, подвозя их большими пачками. Весть о войне с быстротой молнии распространилась по городу, все только о ней и говорили. Лишь дети по-прежнему беззаботно играли: строили замки из песка, пускали бумажные кораблики, столпившись у фонтана, да у главного почтамта старый чистильщик сапог кормил хлебными крошками голубей.
«Когда ты образумишься, жестокое, безумное человечество? – думал Прамниек. – У тебя все есть для счастья только бы мирно работать, жить в согласии с интересами общества… Ведь всем хватило бы места под солнцем. А сейчас в Варшаве уже воют сирены воздушной тревоги, пикирующие самолеты бомбят и обстреливают по дорогам толпы женщин и детей, бегущих на восток от гитлеровской армии…»
Придя домой, Прамниек достал из почтового ящика вместе с газетами конверт с извещением, что на него наложен штраф в пятьсот латов за то, что он, художник Эдгар Прамниек, в недопустимых выражениях отзывался о главе государства и порицал существующий государственный порядок.
«Учись держать язык за зубами, дурак, – сказал он, потирая шею. – В стране интенсивного свиноводства скоро проходу не станет от свиней. Интересно знать, кому же это я обязан этим сюрпризом? Кому из приятелей должен показать на дверь?»
Но сколько Прамниек ни ломал голову, ответа на этот вопрос он не нашел.
2
– Тридцать лет работаю в порту, а таких чудес еще не приходилось видеть, – говорил старый Рубенис сыну Юрису, идя утром на работу. – Видать, всю Латвию хотят увезти. Ну и жадность!
Время у них еще было, и они остановились, наблюдая с насмешливым удивлением бесконечный караван фур, грузовиков, фургонов и ручных тележек, который тянулся от спортивной площадки «Унион» до самой Экспортной гавани. Горами громоздились грубо сколоченные ящики, окованные железом лари, старинные сундуки с толстыми железными скобами, обвязанные ремнями чемоданы, брезентовые мешки, узлы с тряпьем… Старые, источенные жучком платяные шкафы, комоды с потускневшими зеркалами, полосатые матрацы, продавленные диваны, обшитые мешковиной гарнитуры старинной стильной мебели, солидные кожаные кресла, старые кухонные столы и табуретки, скатанные ковры, половые щетки, вешалки, птичьи клетки, эмалированные ведра, умывальные тазы и ночные горшки – все, что можно найти и в квартирах богачей и на толкучке, было представлено в этом пестром обозе.
– Ну и жадность! – повторил за отцом Юрис. Опершись, как на трость, на обернутый брезентовым фартуком крюк, он провожал взглядом вес новые и новые подводы и грузовики.
Портовый грузчик, обязанный своим воспитанием не столько начальной школе, сколько десятилетнему рабочему стажу, Юрис, однако, отлично понимал значение этого зрелища. Немцы покидали Латвию, немцы, которые в течение семи веков, с того самого дня, как их предки вторглись в эту страну, не переставали измываться над ее народом.
У старика Рубениса вся спина была исполосована рубцами, – эти рубцы не давали ему забыть о карательных экспедициях 1905 года. Зеленые холмы Латвии еще осквернялись развалинами ястребиных гнезд немецких баронов; по улицам древней латышской столицы, никому не уступая дороги, задрав головы, расхаживали белобрысые сопляки, в брюках гольф и белых шерстяных чулках, и их папаши – седые усатые господа в зеленых шляпах с петушиными перьями, прогуливающие надменных супружниц и любимых собачек. И все они громко кричали «хайль» и все поднимали руку, по-фашистски приветствуя при встрече друг друга.
Столетиями они жирели на латышских хлебах и вдруг объявили всему свету, что их отчизна по ту сторону Немана. Но, уезжая по зову Гитлера, с надеждой вернуться сюда полными господами, они не гнушались ни ветхими кроватями, служившими приютом для многих поколений клопов, ни измятыми чайниками, – подбирали все до последней веревочки. Оставались, правда, дома, фабрики, земельные участки, но за них обещал щедро расплатиться Ульманис.
Скатертью дорога, по крайней мере воздух чище станет, – приговаривал старик Рубенис. – Эх, жалко, отцу не привелось дожить до этого.
Всю дорогу, идя мимо обоза, Юрис читал немецкие надписи, выведенные на ящиках. Иногда он подталкивал локтем отца, чтобы обратить внимание на какую-нибудь фамилию, изобличавшую онемечившегося латыша.
– Гляди, гляди: Катарина Граудинг… Иоганна Пакул… Эрнст Озолинг… и эти туда же! Весь век немцам руки лизали, как же теперь отстать от этой собачьей привычки! Ну, в фатерланде могут лизать сколько влезет. Гитлер им за это обглоданную кость бросит: «Ешь, песик, вот тебе в награду».
– Недаром моряки говорят, что с тонущего корабля крысы бегут, – сказал старик Рубенис.
– Ну, они еще надеются вернуться на насиженные места. Вернуться и опять народ оседлать. Они иначе не могут. Но если уж так случится, тогда нам и подавно жизни не будет. Лучше, кажется, быть негром в Африке.
– Всяк утешается, как умеет… – старый Рубенис выколотил трубочку о ноготь большого пальца и смачно сплюнул. – Радости им, конечно, мало, раз приходится уезжать от латышских колбас и масла. Разве мы не видим, какой бурдой их кормят на пароходах…
– Нет, они на этом не успокоятся, – продолжал Юрис, – сегодня на Польшу напали, а завтра еще что-нибудь придумают.
Дорогу им загораживали несколько репатриирующихся белочулочников и петушиных хвостов. Сбившись в кучку, они оживленно, перебивая друг друга, обсуждали что-то. Юрис, не опуская глаз, шел прямо на них, слегка выдвинув вперед одно плечо и помахивая своим крюком.
– А ну, посторонитесь! Живей, живей! Стоят здесь, как будто всю землю в наследство получили!
Немцы недоумевающе глядели на плечистую, словно из бронзы вылитую фигуру парня и, встретив его открытый презрительный взгляд, расступились, ворча сквозь зубы.
Большой серый пароход «Гнейзенау» пришвартовался у нового мола, в самом конце гавани. Он точно принес с собой дыхание разыгрывающейся на западе войны. Борта его и высокий капитанский мостик были камуфлированы коричневой и зеленой краской. На верхней палубе, на носу и корме стояли зенитные пулеметы, укрытые брезентом.
На берегу суетились агенты Утага [17]17
Утаг сокращенное название штаба по репатриации немцев из Латвии.
[Закрыть], комиссары по репатриации, одетые в военную форму. Десятки мелких «фюреров» – штурмовиков – резкими, лающими голосами выкрикивали приказания. Свастики были у них на рукавах, свастика на германском флаге извивалась от ветра на корме парохода.
«Ну, на меня они не покричат», – подумал Юрис Рубенис.
– Вот потекут теперь чаевые! – радовался какой-то грузчик. – Сами подбегают, просят: «Осторожней мой шкафчик, не разбейте о борт, я заплачу, заплачу!»
– Пошли они к дьяволу со своими чаевыми! – закричал Юрис. – С деревом будем обращаться, как с деревом – это не стекло.
Ровно в восемь часов открыли грузовые люки. Грузчики, разделившись на группы, спустились в трюмы; их сопровождало несколько немцев. Загромыхали подъемные краны и лебедки, завизжали блоки.
– Берегись! – крикнул такелажник, подходя к люку.
Высоко в воздухе плыла платформа с ящиками и тюками. Покачавшись над люком, она стала опускаться и, не дойдя метра на два до дна трюма, остановилась. Множество рук уперлось в нее и стало отводить ее в сторону. Платформа тихо, осторожно поставлена на дно; тяжелый крюк поднят, и грузчики проворно берутся за работу – таскают, волочат, кантуют груз в дальний угол трюма.
Немцы показывали, куда что поставить, и в начале погрузки что-то отмечали на плане трюма, но вещей было так много, что их невозможно было отметить на плане.
– Пока до места дойдет – в кашу превратится, – с довольным видом заметил старик Рубенис, силясь втиснуть ночной столик между двумя ящиками. Столик не входил. Тогда грузчик вскочил на него и подпрыгнул. Столик затрещал, но, наконец, стал на место.
– Берегись! – снова закричали сверху.
Нагруженная платформа, раскачавшись, с силой ударилась о край люка. Весь груз заходил ходуном, а один шкаф и два чемодана соскользнули с платформы и полетели с пятнадцатиметровой высоты в трюм. Шкаф разлетелся в щепки, а у одного чемодана отскочили замки. Из-под обломков грузчики извлекли два бочонка масла и мешок колбасы.
– Ишь, прорвы, – засмеялся старик Рубенис, – на год хотели запасти…
Остальные грузчики обступили раскрывшийся чемодан и с хохотом разглядывали его содержимое. Вещи были самые добротные: кожаный портфель, наполненный золотыми часами и кольцами, два куска тончайшего сукна и ворох отлично выделанных замшевых шкурок.
– Беритесь, ребята, за крюки, пока не поздно! – крикнул кто-то. – Золотые часы не каждый день с неба валятся.
– Не надо мне их дерьма, – сплюнул Юрис, – пусть на зиму засаливают.
Немцы сбились поодаль в кучку, не зная, что делать. Обнаруженные грузчиками вещи не были внесены ни в какую опись, за них не уплатили вывозной пошлины. Конечно, их соотечественник, вздумавший поживиться на счет Латвии, был сам виноват, – не сумел упаковать лучше. Но как бы это пригодилось фюреру и «Великогермании»!
Бочонки с маслом, портфель с золотыми вещами и все остальное подняли с платформой на палубу. Когда на сцену появились таможенники в зеленых фуражках, господа с петушиными хвостами стали горячо объяснять им что-то; начался настоящий базар.
– Ничего, они между собой поладят, – сказал Юрис. – Ворон ворону глаз не выклюет. – Но он заметил, что некоторую толику взыскали и грузчики, прежде чем контрабанда вернулась на палубу.
– Эх, ребята, не туда вы смотрите.
В трюме все росли и росли горы разномастного хлама. И каждый раз, когда на платформе появлялось что-нибудь подозрительное, она раскачивалась чуть посильнее и непременно ударялась о край трюма. И каждый раз из разбитых чемоданов и ящиков вываливалось много интересных вещей. В одном сундуке оказалось огромное количество жестянок с консервами, в другом – целая коллекция всевозможного оружия – револьверы последних образцов, старинные, украшенные драгоценными камнями пистолеты, кинжалы в роскошной оправе, охотничьи ружья.
В одном чемодане было несколько мундиров офицера гвардии царских времен, одеяние капитана латвийского военно-морского флота, френчи командира айзсаргов со всеми знаками различия, а на самом верху – новешенький мундир майора немецкой армии. Тут же, под этой коллекцией, свидетельствовавшей о некоей исторической метаморфозе, в маленькой шкатулочке лежали ордена: царские – Анны и Станислава с мечами, Лачплесиса, айзсарговский крест, орден Трех звезд и еще какие-то значки с немецкими надписями.
– Надо думать, усердный служака, – смеялся Юрис, разглядывая их, – всяким властям успел послужить. Правда, с кем угодно поспорю, что хозяин-то у него один был, какой бы мундир он ни носил. Сам здесь жил, а душой – где-нибудь у Рейна. Оттаскивай, ребята, в сторону, у меня нос нафталинного запаха не терпит. – Ты как хочешь, – сказал он, подходя к отцу в одну из коротких передышек, когда грузчики ждали очередной платформы, – а я завтра на работу не выйду, тошно стало. Они увозят награбленное у нас добро, а мы для них стараемся. Лучше на дрова пойду.
– Ты что, маленький? – ответил отец. – Все равно и без тебя увезут со всеми клопами и жучками-древоточцами. А за десять латов можно и потрудиться. – И он опять притоптывал, встав на вешалку или на зеркальный шкаф: старый квалифицированный грузчик старался использовать каждый кубический сантиметр помещения трюма. Недаром от его трудов уже треснуло несколько зеркал.
Работали сверхурочно, и лишь поздно вечером Юрис с отцом пошли домой. Вереница повозок и машин все еще тянулась к Экспортной гавани. Возчики дремали на козлах и готовы были дремать всю ночь: им платили почасно.
На площадке «Унион» гремела музыка. Штурмовики танцевали с дочками местных немцёв рейнлендер; сквозь щели забора глазели на них мальчишки. И везде виднелись подводы, возле которых суетились репатрианты.
– Что-то не нравится мне эта музыка. Это они неспроста, – сказал Юрис. – Придется нам еще поработать кулаками, когда они поползут обратно. – И, встряхнув каштановыми запыленными волосами, уже весело закончил: – Ну что ж, за это дело я возьмусь с удовольствием.
3
Как-то посреди недели Ольга Прамниек приехала с дачи за покупками в Ригу. Набегавшись по магазинам, она на минутку заглянула домой, на улицу Блаумана, и еще в передней услышала телефонный звонок.
– Это ты, Олюк? – услышала она голос Эдит. – Какое счастье, что ты в городе… Умоляю тебя прийти ко мне, сейчас же, сию минуту. По телефону сказать ничего не могу. Ты мне очень, очень нужна.
– Видишь ли, меня ждет на вокзале Эдгар, мы с ним условились… – начала было Ольга. Она не присаживалась с самого утра и еле дышала от усталости.
– Олюк, если бы ты знала, в каком я отчаянии… – тихим, упавшим голосом сказала Эдит. – К кому же мне еще обратиться? Олюк, дружочек!
– Сейчас же прибегу, не волнуйся.
«У нее в самом деле какое-то горе, я сразу и не поняла… ужасная эгоистка! Но что же случилось?» – думала Ольга, сбегая по лестнице.
Эдит она знала с детства, и та даже на школьной скамье удивляла всех своим спокойствием, самоуверенностью. Ей и двенадцати лет не было, а она уже отлично знала себе цену. Она принимала как должное восторженную привязанность Ольги, всегда считавшей себя посредственностью, а всех подруг – умницами или красавицами. Правда, став взрослой, Ольга постепенно начала замечать в Эдит черты себялюбия (на многое ей открыл глаза муж), но по-прежнему дружила с ней и восторгалась ее красотой, уменьем держать себя, одеваться.
Ольга взяла извозчика и поехала на Виландскую улицу. Дверь ей открыл сам Ланка. У него было такое ледяное выражение лица, что она побоялась заговорить с ним.
– Эдит в гостиной, – сухо сказал он, поклонившись, и, проводив Ольгу до двери, снова вернулся в переднюю.
– Эдит, милочка, что с тобой? – бросаясь к подруге, спросила Ольга.
Эдит сидела на диване, опустив голову, опершись лбом на ладони. Она молча протянула Ольге руки. Лицо у нее побледнело, глаза блестели.
– Что у вас случилось?
– Ах, сейчас все расскажу. Я так устала! – Эдит взяла Ольгу за руку. – Я знаю, как это поразит тебя и всех наших друзей… Мы с Освальдом развелись. Подожди, не перебивай. Мы уже были сегодня в суде, и теперь он мне больше не муж. Вот и все. – Она нервно усмехнулась.
– Разводитесь? Так, ни с того ни с сего? – Ольга не могла найти слов от удивления. – Но как же это понять? Вы так дружно жили, так любили друг друга… просто уму непостижимо…
Эдит провела рукой по глазам.
– Да, я и сама не могу опомниться. Причина возникла так внезапно…
– Он что… изменил? – шепотом спросила Ольга.
– Да, он изменил. Не мне, конечно, – Эдит надменно улыбнулась, – он изменил родине, Латвии.
– Тут я совсем ничего не понимаю. Как это изменил родине?
– Он уезжает в Германию. Ре-па-три-ируется. Понимаешь? Оказывается, он не считает себя латышом. Наговорил мне, что в Германии у него живут родные, что он связан с ней разными там духовными и кровными узами и тому подобное… Вот теперь скажи мне, Олюк, скажи откровенно, что бы ты сделала, если бы это случилось с Эдгаром?
– Нет, с Эдгаром этого не могло случиться. Ты сама знаешь, как он ненавидит гитлеровскую Германию!
– Да, конечно… хотя и мой… хотя и господин Ланка тоже всегда говорил о немцах с презрением. А вот я узнаю на днях, что он давным-давно зарегистрировался в германском посольстве и внесен в списки. Он мне сказал об этом, когда началось это великое переселение. Думал, что я с ним поеду, и сначала слушать меня не хотел, но я сразу заявила: «Поезжай хоть на край света, если жена для тебя ничего не значит. Раз я родилась латышкой, латышкой и умру. Детей у нас нет, никакие обязательства нас не связывают». Вот что я ему сказала. По-твоему, я правильно поступила, Олюк?
Когда Эдит начала свой рассказ, у нее на глазах навернулись слезы, но постепенно она поборола нахлынувшее на нее волнение и стала улыбаться.
– Да, ты поступила правильно, – тихо сказала Ольга, – я тебя понимаю. Ты удивительная женщина, Эдит. Скажи мне только одно: неужели Освальд в самом деле немец?
– Ну какой там немец! – Эдит пренебрежительно махнула рукой. – Он приживальщик, как и все прочие, которые прицепляют к своим фамилиям окончания «инг». Если бы ты знала, как я его презираю. Он мне за эти дни до того опротивел, что я дождаться не могу его отъезда. От прежней любви во мне ничего не осталось. Слава богу, теперь уже не долго ждать. Пароход стоит в гавани, завтра будут отвозить вещи.
«Какой сильный характер! – думала, глядя на нее, Ольга. – Она настоящая героиня. А Эдгар считал ее бесчувственной куклой. Но как ей тяжело сейчас, бедняжке…»
– Мне сейчас пришла в голову славная мысль, – сказала она, обнимая подругу. – Почему бы тебе не пожить немного с нами на даче? Первое время одной тебе будет тяжело, а у нас места хватит.
– Спасибо, Олюк, ты у меня добрая подружка. – Эдит нежно потрепала ее по руке. – Мне и самой пришло это в голову, но я постеснялась начать разговор… Потом вот еще что: я хочу попросить тебя об одной вещи, только не знаю, согласишься ли ты…
– Чего же меня-то стесняться?
– Видишь ли, у нас сегодня должен произойти раздел имущества. Пришлось вызвать полицию, чтобы обставить это необходимыми формальностями. Нужен еще свидетель с моей стороны. Ужасно неприятная история. Из знакомых звать никого не хотелось, я не могла придумать, как быть…
– Хорошо, я останусь. Но неужели Освальд и здесь показал себя непорядочным человеком? Разве нельзя поделить мирно?
– Он готов драться из-за каждого стула. Впрочем, теперь я могу признаться тебе, что он всегда был скуповат… ну, да что об этом говорить, раз у меня с ним покончено…
Эдит замурлыкала припев какой-то модной песенки. Эта напускная беззаботность еще сильнее растрогала Ольгу.
– Перестань огорчаться, Эдит, он тебя не стоит.
– Я и не огорчаюсь, Олюк. Но мне никто не запретит презирать его… и ему подобных. Жалкие пресмыкающиеся. – Голос у нее стал хриплым и низким, большие голубые глаза метали искры. – Пусть они поскорее вылетают из Латвии… скоро они увидят, какие блага ждут их в Польше.
– Почему в Польше? Разве он не в Германию уезжает?
– В Германию их не пустят, – с неприятным смешком ответила Эдит. – Их поселят в оккупированной Польше. Там уже поляки каждый день то одному, то другому перерезают горло. Ха-ха-ха! Так им и надо.
Раздался звонок, в передней послышались шаги. Освальд постучал в дверь и приоткрыл ее.
– Пора начинать. Полицейский надзиратель пришел.
Ольге Прамниек пришлось стать свидетельницей довольно неприглядной сцены, продолжавшейся около часа. Она внутренне ежилась, глядя, как два человека, прожившие вместе несколько лет, любившие друг друга, торговались и спорили не хуже базарных торговок из-за каждой скатерти, из-за каждой табуретки.
– Этого я не дам, это мое! – выкрикивала Эдит.
– Эта вещь куплена на мои деньги, – хладнокровно повторял Освальд.
– Тогда можешь брать все, мне ничего не надо…
Но, наблюдая за результатами раздела, Ольга вынуждена была признать, что Эдит напрасно поднимала такой шум: Освальд претендовал лишь на самую незначительную долю имущества; большая часть его – мебель, посуда, серебро – оставалась у Эдит. Заупрямился он только, когда дело дошло до беличьей шубки и чернобурой лисы: эти вещи он во что бы то ни стало хотел взять с собой, хотя сам же подарил их когда-то Эдит.
– Все понятно. Собираешься повезти в подарок какой-нибудь Гретхен? – съязвила Эдит.
– Вам это безразлично теперь, милостивая государыня, – так же язвительно ответил Освальд, и оба замолчали. Полицейский надзиратель потерял терпение:
– На кого же записывать?
– Хорошо, пусть остается у нее, – махнул рукой Ланка.
Наконец, акт был составлен и скреплен подписями. Ольга дождалась ухода полицейского и стала прощаться с подругой.
– Когда ты приедешь? Лучше бы завтра.
– Приеду, если он успеет убраться до вечера. Без меня он может обчистить всю квартиру.
– Мы с Эдгаром будем ждать тебя, – заторопилась Ольга, чтобы не говорить больше на неприятную тему. – С друзьями тебе станет легче.
Ольга ушла. Эдит направилась было в кабинет, но в это время зазвонил телефон. На звонок из соседней комнаты вышел Освальд и вопросительно взглянул на Эдит.
– Ты подойдешь или я?
– Может быть, это к тебе, – сказала Эдит.
Освальд взял трубку.
– Кого? Да, она дома. Кто просит? А, здравствуйте, здравствуйте, господин Зандарт, пожалуйста, сейчас передам ей трубку. – Передавая трубку Эдит, он многозначительно улыбнулся. Она подмигнула ему.
– Господин Зандарт? Добрый день. Как поживают ваши лошадки? Ах, меня ждут? Да, пожалуй, им теперь долго ждать не придется. Кстати, можете меня поздравить: я развелась с мужем… Я шучу? Ну, знаете, это не тема для шуток… Да, совершенно серьезно. Он репатриируется в Германию, а я, как настоящая дочь латышского народа, остаюсь на родине… Удивляет? Вы меня плохо знаете… Да, скоро… Завтра?.. Сейчас подумаю… Послезавтра можно будет посмотреть и ваших лошадок. Хорошо, буду ждать вашего звонка. До свиданья. До послезавтра.
Эдит положила трубку и задумчиво уставилась в темный угол передней. Потом упрямо встряхнула головой и улыбнулась.
– Ну что же, я думаю, справлюсь.
Ланка взял ее за руки и посмотрел в глаза.
– Ты должна справиться. – Он вытянулся, точно при команде «смирно». – Этого требует фюрер. Действуй любыми способами, тебе все дозволено.
– Я знаю, милый. – Эдит прильнула головой к плечу Освальда. – Я буду ждать тебя.
– Долго ждать тебе не придется. Я скоро вернусь. – И сразу перешел на шутливый тон: – Но какова сцена с Ольгой? Разыграна безупречно.
– Артистически, – захохотала Эдит. – Бедная дурочка развесила уши, поверила каждому моему слову!
– Они должны поверить, поверить всему, что мы будем говорить. Этого хочет фюрер.
4
Бунте, карапуз Бунте сиял от сознания собственного благополучия. К чему он ни прикладывал за последнее время руки, все ему удавалось. Немецкий Юрьев день [18]18
Немецкий Юрьев день– то есть день переселения. В старой Латвии в этот день (23 апреля) батраки переходили от одного хозяина к другому.
[Закрыть]для человека с коммерческими задатками оказался на руку. Нельзя сказать, чтобы заработок так прямо с неба и валился, надо было и разнюхать вовремя и побегать, не жалея ног. Бунте целый день носился по городу высунув язык, лазил по лестницам, разыскивал квартиры репатриантов, рылся в грудах вещей, предназначенных на продажу. Не все же немцы тащили за собой весь хлам; некоторые сочли более благоразумным отправиться налегке.
Громоздкие люстры, массивные позолоченные рамы для картин, аквариумы с золотыми рыбками, подержанные мотоциклы – все могло пригодиться, и все это Бунте свозил в подвал к Атауге, где был устроен склад. Оборотный капитал предоставил сам хозяин, оговорив законные четыре процента; прибыль, за вычетом накладных расходов, условились делить пополам. В общем по наблюдениям Бунте, Атауга оказался далеко не мелочным человеком, но он подозревал, что немалую роль сыграла здесь и его дочь.
Фания давно уже перестала питать иллюзии относительно своей наружности. Правда, с ее приданым можно было кое на что надеяться, но Фания трезво рассудила, что особенно высоко забираться не стоит. Характера она была независимого и, решив, что главное – всегда чувствовать себя хозяйкой, обратила свой взор к более скромным сферам. Отец часто похваливал Бунте за его деловитость, но тут прибавилось еще одно обстоятельство. Рассудок рассудком, а когда мужчина глядит на тебя с немым обожанием, когда он не может скрыть радости при твоем появлении, – тут уж невольно заговорит о своих правах сердце. Фания все реже и реже вышучивала Бунте, а когда он – нечаянно или нет, кто знает, – дотрагивался до ее руки, делала вид, что не замечает этого.








