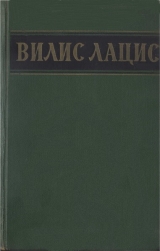
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 3. Буря"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Все надо было делать быстро, в несколько часов. Гуго из кожи вон лез, как угорелый носился по Риге, лётом летал по квартирам. И хоть бы похвалила раз. Какое там: Эдит делала недовольное лицо даже тогда, когда выпадала удача. Члены свиты Шуленбурга требовали от нее в десять раз больше, чем она от Зандарта. Те нажимали на нее, а она на своих агентов. Вся шпионская сеть была наэлектризована. Напряжение не ослабело и после отъезда Шуленбурга, – в Риге оставался бывший посол Германии фон Котце.
– Гуго, ты имей в виду, что сейчас придется работать больше прежнего, – сказала как-то Эдит. – Многие из наших уезжают. Сеть редеет, а улов не должен уменьшаться. Придется работать за пятерых, за десятерых. Руководство этого не забудет.
– А ну, как провалюсь? – забеспокоился Гуго. – Что будет тогда со мной, с моей семьей? Мне ведь тоже жизнь дорога.
– УТАГ пока еще не ликвидирован, и репатриация продолжается. Твою семью включат в число репатриантов и увезут в Германию.
– А меня возьмут?
– Ну еще бы. Но за это тебе придется поработать, не жалея себя, на пользу Великогермании. Насколько мне известно, тебя включили в списки кандидатов на один из высших орденов. Еще получишь на старости лет рыцарское звание.
– Орден орденом, а попадать в лапы чекистов охоты у меня мало, тогда мне крышка.
– Действуй с умом и не попадешься.
И Гуго старался до седьмого пота. Клуб художников всегда был переполнен. Конечно, не ради богемы приходили сюда люди из прежнего высшего общества, а для того, чтобы встретиться за чашкой кофе с какой-нибудь таинственной личностью и после короткого секретного разговора разойтись. Здесь все официантки выполняли определенное задание, и в их блокнотах рядом с записями о заказанном кофе, пирожком и папиросах можно было бы увидеть заметки, не имевшие ничего общего с клубным меню. По дороге на кухню эти заметки попадали в руки буфетчика, который их систематизировал, превращал в шифрованное донесение и отправлял куда следует.
Вскоре после Нового года рижские литературные круги облетела неожиданная новость: в Германию репатриировался прогрессивный писатель и злейший враг нацистов – Эрих Гартман. Изгнанник, еле избежавший террора гестапо, возвращался в свое отечество. Находились простодушные люди, которые жалели бедного Гартмана и уговаривали его не лезть в пасть зверя, – ведь это же чистейшее безумие, писателю с такими левыми настроениями отдаваться в руки врагов. Более дальновидные сразу смекнули в чем дело, вспомнив некоторые его высказывания. Довольнее всех были те, кто никогда не скрывал своих симпатий к Гитлеру.
– До свиданья, – говорили они Гартману. – Не забывайте нас. Мы еще вам пригодимся, когда настанет момент.
– До свиданья, – отвечал им Эрих Гартман.
Он сердечно простился с Эдит и обещал передать привет ее мужу, который был где-то в Польше.
– Жаль, что не могу остаться с вами до конца. Небезопасно. Чека что-то пронюхала. Надо убираться, пока не поздно. Но ты, Эдит, держись, не попадайся. На тебя возлагаются самые большие надежды. Если продержишься до конца, представь, как торжественно мы встретимся здесь, в Риге.
– Не попадусь, Эрих, – шептала Эдит, хотя разговор происходил в тихом приюте Оттилии Скулте, вдали от любопытных взоров и ушей. – Я знаю, как работать среди них. Меня ведь многие считают активисткой, а это имеет большое значение. Главное же, я сама оставляю их в покое, ничего не допытываюсь, ничем не интересуюсь, чтобы отвести малейшие подозрения. Что мне надо узнать, я добываю через других. Есть у меня сейчас на примете лакомый кусок.
– Из коммунистов?
– Да, один комиссар.
– Желаю удачи, – сказал Гартман.
Он обнял Эдит и поцеловал в губы.
– И ты такой же, как все мужчины.
– Почему мне нельзя быть таким, как все мужчины?
– Ведь ты писатель, возвышенная душа.
– Где сказано, что писатель должен обладать рыбьей кровью?
Эдит вздохнула. Зандарт, Гартман, даже ее муж, Освальд Ланка, давали лишь дешевую подделку того счастья, к которому рвалась ее алчная до наслаждений натура. Вернее всего, это была постыдная пародия счастья, оскорбившая бы более гордую душу. Силениек – вот о ком тайно мечтала Эдит. Она несколько раз видела его издали, во время демонстраций, на собраниях. Высокий, широкоплечий, с загорелым лицом – как он выделялся среди остальных людей… Как приятно было вслушиваться в его мужественный голос, наблюдать во время речи его спокойные жесты, его красивое лицо, ловить его ясный, открытый взгляд. Чем громче звучал голос Силениека в это богатое замечательными событиями время, тем больше он увлекал Эдит. Она следила за каждым его шагом, собирала все, что о нем было напечатано в газетах, все, что появлялось из-под его пера. И странно – те же убеждения, те же мысли сразу вызывали в ней чувство ненависти, если их высказывали другие, и только Силениека она слушала с каким-то угрюмым, завистливым восхищением.
Но встреча у Прамниека так и не состоялась. Силениек несколько раз в самый последний момент откладывал свой приход, а теперь и Прамниек на вопрос Эдит, когда же к нему придет Андрей, лишь неопределенно хмыкал в ответ.
Глава восьмая1
Старый Вилде повернулся на другой бок, натянул одеяло на голову, но заснуть ему больше не удавалось. Давно уже была пора вставать. Сквозь щели в ставнях бил яркий утренний свет. Со двора доносилось мычанье коров, кудахтанье кур и веселый лай собаки. Но над этими привычными звуками властвовал какой-то новый, необычный шум. Он заполнял весь мир, врывался в комнату хозяина, приводя в расстройство папашу Вилде. Нигде не найти ему покоя от этого наваждения.
На бывшей земле Вилде работал трактор, настоящий гусеничный дьявол, которому любая залежь была нипочем. Вчера он тарахтел по соседству, вспахивая землю новохозяина, а сегодня блестящие лемехи переворачивали пласт за пластом на поле Пургайлиса. Как будто не по полю, а по сердцу Вилде шел лемех и проводил глубокую, кровоточащую борозду. Он переворачивался с боку на бок, пытался думать о других вещах, но гул трактора все время возвращал его к действительности.
– А, чтоб их черт… – рассердился хозяин и сбросил с себя одеяло. – Все равно покоя не будет.
Он поднялся с кровати и, ворча, стал натягивать брюки. Отхлебнул простокваши – жена поставила на стол полную кружку – и вышел во двор. Напрасно старый пес потягивался и вилял хвостом, в надежде что его погладят, – хозяин смотрел поверх телячьего загона, в самый конец поля. Ага, вон он где… серый, постылый. Ветром донесло до двора запах выхлопных газов, и он защекотал ноздри Вилде. «Эка насмердил на весь свет».
За трактором шли два человека. «Пургайлис с женой… теперь не знают, что и делать от радости. И гребешки кверху… Это им за их нахальство первым начали пахать. Пашите, пашите! – злорадно думал Вилде. – Неизвестно еще, кто жать будет. Земля на месте останется. Моя земля!»
Из-за угла дома показалась сгорбленная фигура Бумбиера.
– Ты еще дома? – спросил хозяин. – Гляди, как Пургайлис старается. В один день весь свет перевернуть хочет.
– Уж он такой, – закряхтел Бумбиер. – Что и говорить, хозяин, как на свою землю стал, таким работягой заделался, таким ненасытным. Теперь ему дня мало, ни сна, ни отдыха не знает.
– Пускай его, пускай, – усмехнулся Вилде. – Пусть подымет старую залежь. Все какая ни на есть польза будет.
– Вот и я про то же, – угодливо поддакнул Бумбиер. – Пусть, пусть подымет, когда выдалась такая возможность. Не знаю, хозяин, как вы на это поглядите, а право, пока этот трактор здесь, не вспахать ли заодно и мой участок? И лошадей не надо мучить. Никто ведь не узнает, что это ваша земля.
Вилде задумался. Предложением Бумбиера пренебрегать не следовало. Хоть этот трактор и смердит и гремит, а все же штука дельная. Почему бы не попользоваться? А то все для одних голодранцев. Уж если не исполнились предсказания, что из машинно-тракторных станций ничего не выйдет, что это одни враки и сказки, – надо хоть урвать что-нибудь для себя.
– Как же без договора с машинно-тракторной станцией? Он ведь пахать не захочет, – сказал, наконец, Вилде.
– Вы не подумайте чего, хозяин, только я без спросу… – снова закряхтел Бумбиер. – На прошлой неделе, когда ездил на базар, я этот договор подписал. На пять гектаров, хозяин.
– Скажи, какой продувной, – благосклонно засмеялся папаша Вилде. – Тогда чего же? Валяй, пусть заодно и тебе вспашут. Моим же лошадям меньше работы.
– А ничего я придумал, хозяин? Думаю, казенное ведь имущество. Пусть поработает и на нас.
– Правильно, Бумбиер, пусть поработает и на нас. Чем мы хуже всяких там Пургайлисов? Хе-хе… Пойдем посмотрим, как у них там дело идет.
Влажная еще местами земля дымилась под теплыми лучами солнца. Стояли последние дни апреля. На шлепанцы Вилде налипли комья земли. Позади плелся Бумбиер в стоптанных постолах. Проходя по своим полям, хозяин думал: «Как это так выходит, что ни одно наше предсказание не сбывается, а большевики в конце концов что задумают, то и сделают?» Не раз уже он говорил об этом и с писарем Каупинем, и с Германом, и с Вевером, но они сами путем не могли объяснить. Во время выборов надеялись, что народ не пойдет голосовать. Сами только любопытства ради пошли, вычеркнули фамилии кандидатов, а помогло это? Девяносто восемь процентов проголосовало за новых депутатов. «Где у людей разум, чего им надо? Вот и с машинно-тракторной станцией… Баловством называли, зубоскалили по всем корчмам, у всех церквей. Кто мог – вредил всякими способами: и с ремонтом помещений и с постройкой хранилищ для горючего, – только бы ничего у них не вышло. По рассуждению иных мудрецов выходило, что на нашихполях тракторам нельзя работать – завязнут, как в болоте, горючего больше сожгут, чем наработают. А вот, пожалуйте – гудит себе и отваливает пласт за пластом. За что ни возьмутся, все им удается, и если не хочешь быть посмешищем, лучше гляди да помалкивай».
– Помогай вам бог, – умильно сказал Вилде. – А что, лучше так, чем конягой?
Ян Пургайлис с женой переглянулись. Глаза у них сияли.
– Да ты хоть скажи ему что-нибудь, – шепнула Марта мужу. – Подумает еще, что загордились.
Пургайлис медленно шагал по гладкой, блестящей борозде.
– Нельзя пожаловаться. До вечера все поле будет вспахано. Останется еще время кое-что сделать по дому.
– Что верно, то верно, – согласился Вилде. Подбоченившись, он внимательно смотрел, как переваливается через лемех пласт земли и ложится в ровный ряд с другими. – А что же вы сами здесь делаете? Не червей ли ищете? Как будто рановато… Хе-хе…
Марта покраснела, улыбка сбежала с лица Яна Пургайлиса. Он гневно посмотрел на своего бывшего хозяина и сплюнул:
– Ну, ты… кулак. Проваливай с моейземли! Сам-то почему до сих пор не пашешь? Я тебе больше не подневольный.
Глаза у Вилде налились кровью, но он сдержался и, ничего не сказав, пошел прочь. «Я тебе это припомню… Ты у меня завизжишь…»
В сердцах он отшвырнул ногой попавшийся на дороге камень. Старый пес, который приплелся за хозяином на поле, жалобно взвизгнул и отпрыгнул в сторону, решив, что камень предназначается ему.
А Бумбиер пошел к трактористу переговорить о вспашке своего поля.
– Помойная бочка, – сердился Ян Пургайлис, глядя вслед Вилде. – Что ему здесь надо?
Марта дотронулась до руки мужа, стараясь его успокоить.
– Ты не гляди на него, на это чучело. Лучше подумай, что тут будет, когда взойдут яровые.
Пургайлис посмотрел на нее и засмеялся.
– Правду говоришь, Марта. Не стоит кровь себе портить. Нам ведь есть на что порадоваться. Эх, жизнь, жизнь! Теперь ты только для нас и начнешься. Тридцать лет тебя ждал, вот ты и пришла.
– Половину-то сбрось, – засмеялась Марта. – Не до рождения же ты ждал ее.
– Ладно, половину сброшу, – согласился Ян. – Хотя что ты думаешь, – разве батрацкий год можно равнять с хозяйским? Встаешь до зари… Солнце зашло, а ты все на работе. Так ведь было?
– А сейчас разве собираешься меньше работать? Знаю я тебя: так ты и успокоился на этом! – покачала головой Марта.
– А что поделаешь, когда у меня такая жадная жена?
– С каких это пор? Как это у тебя язык поворачивается жену позорить?
Они смеялись и шутили от избытка счастья. Весеннее солнце слепило глаза.
2
Апрель месяц на заводе, где директорствовал Петер Спаре, закончился праздником. Всю зиму продолжалось строительство и оборудование нового строгального цеха, и сейчас он был готов – первые доски проходили через станки. Рабочий коллектив обязался сдать новый цех в эксплуатацию к Первому мая, но обязательство было выполнено до срока.
Старик Мауринь, назначенный начальником нового цеха, круглые сутки проводил на работе, совсем позабыв про дом. Он, как детей, гладил своими жесткими руками новые станки, смахивал с них каждую пылинку, и его сердитое лицо светилось ласковой, отцовской улыбкой.
– Милые вы мои, – говорил он. – Ну, и поработаем мы теперь. Покажем, что мы умеем. Досочки будут выходить целыми стандартами, гладкие, без сучка и задоринки, а потом пароходы повезут их в разные стороны. Кто такую дощечку получит, будет только похваливать. «Гляди, скажет, как ладно сработано. Дай им бог здоровья». А мы за это здоровье опрокинем сегодня по изрядной чарке, – Петер Спаре не поскупится.
Петер Спаре действительно не поскупился. Товарищеский ужин в заводском клубе прошел весело, с подъемом. Старик Мауринь сидел рядом с директором, и когда ему предоставили слово, аплодисментам не было конца.
– Зря вы мне хлопаете, дорогие товарищи, – начал он. – Сами знаете, как я говорю. Еще между старичками туда-сюда, а когда вот на таком торжестве – дух замирает, легче, кажется, целый день доски таскать на самые высокие штабеля. Так как же обстояло дело с этим строгальным цехом? Пока здесь распоряжались старые владельцы, дальше ученых разговоров дело не шло. И то им дорого и это не окупится, а для точки строгальных ножей придется, мол, специалиста-точильщика из Норвегии выписать, – где же простому латышу освоить такую тонкую работу. Норвежцу жалованья требуется побольше, чем главному инженеру, но о том, чтобы он свое искусство кому-нибудь показал, – и не думайте. Давно ли у нас советская власть, а поглядите, что сделано! Они мудрили годами, а мы вот взяли и построили в четыре месяца. Без всяких там норвежцев. И разве наши доски будут хуже? Да ничуть. Пусть их теперь смотрят, пусть лопаются от зависти. Нет на свете такого трудного дела, чтобы рабочий человек при советской власти не мог его одолеть. Почему так выходит? Да потому, дорогие товарищи, что эти заводы сейчас наши собственные, и если хотите знать, то этот директор тоже наш питомец. Как же тут не пойти делу? Вот за это все, за нашу новую жизнь я хочу сказать спасибо русским товарищам. Вы думаете, они не знают, как у нас дела идут, как мы работаем? А кто нам прислал эти новые станки? Давайте же будем работать так, чтобы им не пришлось за нас стыдиться. И чтобы это было в последний раз, чтобы больше никто не смел плевать в новом цехе на пол. Это все равно, что плюнуть на свою работу. Я таких выходок не потерплю… Ну, сегодня не будем уж говорить про это – я только, чтобы предупредить. За наши успехи, за удачу, дружки!
Все зааплодировали и выпили стаканы до дна, выпил и тот, к кому относилось сердитое замечание Мауриня.
Петер Спаре поехал домой, когда ужин кончился и все разошлись. Завтра воскресенье – можно будет вволю отоспаться за много дней.
Ему открыла Элла. Он хотел обнять ее и поцеловать, но она уклонилась от ласки.
– Погоди, Петер, у нас гости.
– Разве? – Петер отстранился и взглянул на вешалку. Он узнал пальто тещи. – Не сердись, что я так поздно. Знаешь, какой горячий день. Мне жалко, что ты не могла прийти.
Элла ждала через несколько месяцев ребенка.
Теща довольно ласково встретила Петера. Пусть и коммунист и многое понимает на свой лад, но человек он все же приятный, славный. Никто не скажет, что Элле достался плохой муж. Однако приветливость мамаши Лиепинь имела и другую подоплеку. Об этом Петер узнал за ужином.
Вначале она плакалась на тяжелые времена:
– Мы с отцом ума не приложим, как в этом году быть с землей. Беднота и батраки теперь получили землю и работают на себя. Старый Лиепниек на прошлой неделе пошел было к Закису, хотел его нанять… и чего только он не сулил, а Закис знай смеется: пускай, мол, поищет, может и найдется такой дурак. У нас тоже с Юрьева дня ушла батрачка, которая из Латгалии. В городе, говорит, жизнь легче. А как мне одной справиться с коровами? Отец еле разыскал одного старичка, ну, тот за плугом еще пройдется, а коров доить его не заставишь. Что же будет дальше? Не может разве правительство объявить такой закон, чтобы горожане помогали нам обрабатывать землю? Мы ведь не просим даром. Сколько будет нужно, столько и заплатим… деньгами или продуктами. У Лиепниека один сын бросил работу в городе и приехал к отцу. Такое хорошее было место, по письменной части, а теперь приходится пахать и боронить.
– Видите, что получается? – сказал Петер. – Пока Закис батрачил у Лиепниека, сын его в городе мог руки холить, маникюр делать. За эти годы он хорошо отдохнул, теперь сможет заменить двух Закисов.
– Ну, какой он пахарь, – вздохнула мамаша Лиепинь. – Кто уж привык к перу, тому плуг не по силам.
– Ничего, привыкнет. Всякой работе можно научиться, было бы желание.
– Я не говорю, что нельзя, но им без этого можно обойтись, – не сдавалась теща.
– Мало ли чернорабочих на свете, – вступилась за нее Элла. – Тогда и не стоило учить детей.
– Закису тоже хочется учить своих детей, – ответил Петер. – И прав у него на это больше, он их учит на средства, заработанные собственными руками. О Лиепниеках этого не скажешь. Кто же, как не Закис, помог ему обучить сыновей и дочерей?
Теща вздохнула.
– Зачем нам до всего докапываться? Этак выйдет, что мы все нечестные. Ну, а что с землей-то делать? Не оставлять же незасеянной…
– Это верно, – согласился Петер. – Нельзя оставлять.
– Не знаю, право, как ты на это посмотришь, а я кое-что надумала… Ты на заводе директор. У тебя сотни рабочих. Если бы ты человек пять-шесть прислал недели на две? Мы заплатили бы, сколько полагается. Завод от этого не развалится… Элла говорила, вы там какой-то ремонт будете делать. За это время и мы бы все вспахали и засеяли.
– Можно ведь, Петер? – спросила Элла. – Никто и не заметит, что на заводе не хватает нескольких человек. Можно сделать так, что они уйдут в отпуск. Рабочему ведь выгодно будет, он что-нибудь заработает.
Петер чувствовал на себе взгляды женщин, устремленные на него с мольбой и надеждой. Он покачал головой:.
– Нет, этого я сделать не могу, да и не хочу.
– Своим родным и то не желаешь помочь, – медленно сказала Элла, и в голосе ее послышались слезы. За последнее время она расстраивалась из-за каждого пустяка.
– Успокойся, милая, – еле сдерживаясь, сказал Петер. – Если уж там так тяжело, я возьму на несколько дней отпуск и сам приеду помочь. Больше ничего сделать не могу.
Мамаша Лиепинь нахохлилась. Элла обиженно молчала.
3
У него была седоватая, клинышком бородка, подстриженные усы, и лицо напоминало правильный треугольник. Треугольник этот опирался на плотное туловище с короткими, втиснутыми в яловые сапоги ногами. Не легко было портному одеть такую нескладную фигуру – пиджак из серого домотканного сукна топорщился, а брюки были так туго натянуты на большой, раздавшийся зад, что казались надутыми пузырями.
Он вошел неожиданно, во время телефонного разговора, – без приглашения, без стука. Кивнул головой и с застывшей улыбкой на широком розовом лице остался стоять у двери. Жубур вопросительно взглянул на вошедшего и указал рукой на стул, но тот энергично замотал головой.
«Странный тип… чего ему нужно?»
Жубур разговаривал с заместителем наркома об учебных пособиях, о новых учебниках, о высшей школе. Разговор затянулся, и ему было неудобно, что посетитель так долго стоит у двери, но и после вторичного предложения присесть тот отказался так же категорически, как и в первый раз.
«Стеснительный, скромный человек…»
Наконец, разговор кончился. Жубур поднялся и вышел на середину комнаты. Посетитель только того и ждал. Он вдруг мгновенно преобразился: стеснительность и неловкость слетели с него, как высохшая чешуя. С выражением самозабвенного восторга он широко раскрыл объятия, ринулся к Жубуру, схватил его, как ястреб добычу, и, громко закричав: «Карл, милый ты мой!» – звонко расцеловал в обе щеки. Не обращая внимания на удивление Жубура, он взял его обеими руками за голову и стал поворачивать в разные стороны, как покупатель, рассматривающий приобретаемую вещь.
– Вот ты каков, дорогой родственничек, – разнеженно бормотал он. – Ничего, молодец. Сколько же тебе лет? Ведь ты мне в крестники годишься.
– Что все это значит? – спросил Жубур, стараясь высвободиться из его объятий. – Кто вы такой?
Но незнакомец крепко, как в тисках, держал его за плечи, словно опасаясь, что он от него убежит.
– Ишь, какой здоровенный вырос! А жена есть? Если нет, я тебе такую хозяйскую дочку сосватаю, что твоя печка. У наших соседей как раз такая есть. Кровь с молоком, скажу тебе. У отца пятнадцать коров и четыре лошади. Не усадьба – хорошее именьице…
– Скажите, наконец, кто вы такой? – взмолился Жубур. – Я вас не помню.
– Да что ты? – удивился крестьянин. – Разве тебе мать не рассказывала про своего двоюродного брата из Больших Тяутей? Вот я и есть тот самый Большой Тяутис. Только не путай с Малыми Тяутисами. Такие у нас тоже имеются, но они на побережье живут, рыбачат. Мы их прозвали «смерть салаке». Один в прошлом году, под Мартынов день, утонул.
Жубуру, наконец, удалось освободиться. Опасаясь повторения только что происшедшего, он отошел на свое место за стол, потирая помятое плечо.
– Садитесь, пожалуйста, и начнем с самого начала. Так скорее разберемся.
– Можно и так. – Большой Тяутис грузно сел на стул, положил картуз на стол и достал кисет из свиного пузыря, побуревший от долгого употребления. – А ты что? Постоянно в городе? Как живется?
– Я прошу вас сказать, кто вы такой, – сдержанно сказал Жубур. – Как ваша фамилия?
– На побережье до самых Лимбажей меня прозывают Большим Тяутисом, по названию усадьбы, а по паспорту – Ерум… Симан Ерум. Мать моя была родной сестрой отцу твоей матери. Выходит, что мы с твоей матерью родные кузыны. Отец твой родом из другой волости, уж и не упомню, как они там поженились. Вот поди ж ты, я и не знал, что у меня такой родственник в Риге. Племянница рассказала – она учится на адвоката и знает тебя. Тогда мы со старухой и порешили, что надо поехать в Ригу и проведать родственничка. Слыхал, ты в коммунистах, близко к властям стоишь? Может, вспомнишь родственников, раз уж ты по этой части определился. Родственникам сам бог велел друг за дружку держаться.
Пока он говорил, Жубур вспомнил рассказы матери о богатых родственниках в Видземе, но в ее рассказах не содержалось ничего такого, что бы заставило радостно забиться сердце при встрече с этим «кузыном». В трудные времена, когда старику Жубуру пришлось три месяца сидеть без работы, он однажды на попутных санях съездил к родственникам попросить в долг мешок картошки. Большой Тяутис заставил его целую неделю возить дрова из лесу, после чего действительно насыпал ему мешок гнилой картошки и выпросил долговую расписку: «так, порядка ради, чтобы не забыть про должок». Через полгода старый Жубур вернул долг деньгами, а расписку хранил до самой смерти.
– Так что же вам угодно? – спросил Жубур. Я очень занят, и если вы по делу, выкладывайте сразу.
Симан Ерум, он же Большой Тяутис, сделал вид, что не замечает холодности Жубура.
– Занят, говоришь? Ну, конечно, у тебя много работы. У больших людей работы невпроворот.
– Я вовсе не большой человек, а обыкновенный студент. Учусь и работаю.
– А разве не коммунист?
– Да, я коммунист.
– Мне того только и надо. – Ерум повернулся всем своим грузным телом к Жубуру, буравя его наглыми глазами. – У тебя ведь своего хозяйства не имеется?
– Откуда ему у меня взяться?
– Я так и знал. Ну, ты, конечно, не думаешь весь век прожить без кола, без двора? При одной только должности человек еще не человек. Вспомни, как бывало при Ульманисе, – у каждого министра, у каждого директора что-нибудь да было в деревне. Или там мельница, или именьице, или дача. Без этого нельзя. У кого земля, тот на ногах крепче стоит. Земля никогда не пропадет, какие бы времена ни наступили. Тебе, милый родственник, тоже надо подумать о себе. Если пожелаешь, могу это устроить без всяких хлопот. У меня в Больших Тяутях сорок гектаров. Десять прошлой осенью отрезали и зачислили в государственный фонд, но еще никому не передали. Почему бы тебе не истребовать их для себя?
– Что мне с ними делать? – нехотя усмехнулся Жубур.
– Погоди, погоди, пусть она хоть считается за тобой. Тогда никто больше не сунется, а земля останется за Большими Тяутями. Если ты еще холостой, женись, пусть там хозяйничает жена. Мы бы тебе нашли хорошую девку, хозяйскую дочь. Круглую, мягкую, как слива… Спокойнее ведь, когда земля не в чужих руках. Как ты на это смотришь?
«Сразу видно – беспардонный нахал», – подумал Жубур.
– Если вам тяжело глядеть на бесхозяйную землю, я пошлю письмо в волисполком и попрошу скорее передать эти десять гектаров кому-нибудь из безземельных.
– Никак ты с ума сошел? – разволновался Ерум. – Прошлой осенью еле уговорил волостного писаря, чтобы скрыл в актах… отвез за это целую кадку масла, свиной окорок… Ишь, какой торопыга! Если тебе самому не нужно, пусть лучше останется как есть. Как-нибудь вывернусь. Карл, сынок, а ты бы все-таки подумал… У тебя знакомства с набольшими. Замолви словечко, пусть меня назначат председателем в волость. При Ульманисе я четыре года проработал помощником. Опыт изрядный. Не все же одной мелкоте управлять.
– Крупные достаточно повластвовали. Пусть поработают и бедняки.
– Родственникам не грех бы и помочь, – не унимался Ерум. – Соседи мне все уши прожужжали: «Что ты за человек, при таких родственниках и не можешь получить в волости хорошее место». На смех подняли. А если бы меня назначили председателем, все бы устроилось. Нельзя же так, надо кому-то заступаться и за старых хозяев. Порадей уж, милый.
Жубур еле сдерживался. Откровенный цинизм старика граничил с простодушием.
– Знаете что, – медленно сказал он. – После смерти родителей у меня родственников больше не осталось. Для меня существуют только хорошие люди и плохие, честные и мошенники. Вы принадлежите к последним.
– Кто это про меня так говорит? – вздыбился Ерум.
– Я, черт возьми, говорю! Уходите-ка вы лучше! Берите шапку и вон отсюда!
– С чего это ты? – удивился Ерум. – За что ты на меня так? Что я тебе плохого сделал?
– В глаза вы плюете народу – вот что! И я постараюсь, чтобы для этих десяти гектаров нашелся хозяин нынешней же весною. Ну, чего вы еще ждете? Можете идти.
– Господи, зазнался-то как, – покачивал головой Ерум. – Ну, не ожидал. Я к нему как к родному, а он как зверь…
Бормоча и вздыхая, он вышел. Жубур откинулся на спинку стула и вытер лоб платком.
«И каких только подлецов не бывает на свете… Нашелся милый родственничек…»
Раздался телефонный звонок. Жубур снял трубку.
– Слушаю. У телефона Жубур.
– Почему ты такой сердитый? – Жубур узнал голос Мары, и дурное настроение его мигом улетучилось. – На работе что-нибудь?
– Ты угадала. С кем только не приходится сталкиваться за день.
– Оказывается, не вовремя позвонила. Я хотела попросить тебя зайти сегодня вечером, хотя бы ненадолго. Врач велел несколько дней полежать, и я эти дни никуда не выхожу. Наверно, немного переутомилась, готовили постановку к декаде.
– Почему ты раньше не позвонила? Конечно, приду, сегодня же вечером приду. Но ты уж извини, не раньше десяти.
– Приходи, когда освободишься. Я знаю, сколько у тебя дел. Ну, всего…
4
Его впустила мать Мары.
– Заходите, заходите, вас давно ждут, – весело сказала старушка. Несмотря на свои шестьдесят лет, двигалась она проворно, а в волосах у нее лишь чуть проступали седые нити.
– Что с Марой? – спросил Жубур, снимая пальто. – Может быть, нехорошо, что я ее тревожу?
Умные, улыбающиеся глаза старушки ласково глядели на него.
– Не так уж плохо. Сегодня голова не болит. Хочет завтра идти на работу, а вы постарайтесь уговорить ее, чтобы полежала до понедельника.
И снова она стала воплощением простодушия, по Жубур понял, что она, со своим опытом повидавшего жизнь человека, уже все угадала: и то, что было, и то, что может когда-нибудь сбыться. Ему стало чуть-чуть неловко.
– Хорошо, мамаша, – ответил он. – Сделаю все, что от меня зависит, чтоб Мара осталась дома несколько дней. За год наработается.
Он тихо вошел в маленькую спальню и, пожав теплую, влажную руку Мары, сел возле кровати.
– Так-то ты вспоминаешь про своих друзей?
Мара улыбнулась. Лицо ее залилось лихорадочным румянцем.
– Нельзя же поднимать на ноги весь свет из-за того, что немного поднялась температура.
– Что врач, аккуратно навещает?
– Сегодня приходил. Да ничего серьезного, сильная головная боль – вот и все. Приходится принимать порошки и лежать. Наверное, в понедельник ночью простудилась, когда шла из театра. Мне ведь не много надо… Ну, а как твои дела? Скоро экзамены?
– Через неделю начнутся.
– И со вторым курсом будет покончено?
– Да, как будто. И хотя нас пока еще пичкают школой профессора Балодиса, – у старого Атлантика [57]57
Атлантик– псевдоним латышского буржуазного экономиста Балодиса.
[Закрыть]здесь много приверженцев, – однако советская политэкономия начинает укореняться, и я полагаю, что по окончании факультета мы уже не будем такими невеждами.
– Ты и следующую, зиму собираешься учиться? Работать и заниматься?
– И следующую после нее тоже. Пока не кончу.
– Откуда у вас всех такая сумасшедшая выдержка? Как вы это можете?
– Все мы росли в суровых условиях, Мара. Жизнь нас раньше не баловала, потому мы такие крепкие.
Зазвонил телефон. Жубур опередил Мару и снял трубку.
– Квартира Мары Павулан. У телефона врач. Кто? Здравствуйте, товарищ Калей. Нельзя сказать, что хуже. Скорее бы сказал, что дело идет к улучшению. Только что измерили температуру – 38,2. Советую пробыть дома до понедельника. Понятно, понятно, товарищ Калей… Вполне сможет выступить в приемочном спектакле. Даю вам честное слово врача, что сделаю все возможное. Привет, товарищ Калей.
Он положил трубку и посмотрел на Мару.
– Ты с ума сошел, Карл, – испуганно зашептала она. – Что ты ему наговорил? Что мне еще надо лежать до понедельника?
– Да, и Калей принял это без всяких трагических переживаний. Сказал, что до понедельника ничего особенного не предвидится.
– А приемка пьесы к декаде латышского искусства? Я не могу допустить, чтобы ее принимали без моего участия. Раз в жизни выпало счастье играть в Москве, в центре непревзойденного театрального искусства… Нет, я свою роль никому не уступлю.








