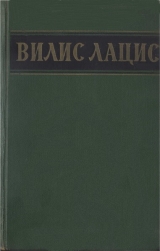
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 3. Буря"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
1
Только после настоящей суровой зимы можно по-настоящему почувствовать приход весны, а зима 1939–1940 года так властно пользовалась своими правами, что навсегда осталась памятной для жителей Прибалтики.
В Латвии не было живого существа, которое не ждало бы с нетерпением весны. К посвисту первого скворца, севшего на ветку березы, люди прислушивались с такой нежностью, какой вряд ли когда удостаивался представитель этого пернатого племени…
Что принесла весна Жубуру? Новые заботы и новые возможности. Как ни охотились за ним ищейки Штиглица, а он всегда ухитрялся доставлять по назначению нужные книги. Конечно, не пошлые бульварные издания Тейкуля, которые Жубур неизменно таскал в чемодане, – нет, это были творения Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, утолявшие алчущие правды души, ярким светом озарявшие пути грядущей борьбы.
Со времени последнего провала на плечи Жубура легла такая гора обязанностей, что ему не хватало суток. Сами того не замечая, они с Юрисом Рубенисом стали во главе организации. Главное, им удалось, наконец, наладить связь с Силениеком, – правда, случайную, редкую, но время от времени они получали от него драгоценные указания, как работать дальше. И каждый раз оба не переставали удивляться тому, что он, находясь в тюрьме, предвидит ход событий и знает, как надо действовать, гораздо лучше, чем они, оставшиеся на свободе. Воочию убеждался теперь Жубур, какое мощное оружие в руках коммуниста – революционная теория.
Жубур несколько месяцев уже присматривался кое к кому из наборщиков типографии Тейкуля. Там нашлось несколько дельных парней, и в конце зимы заработала новая подпольная типография. Каждую неделю выходил номер газеты или воззвание на животрепещущую тему. Тут главное было в том, чтобы не оставлять рабочих и интеллигенцию без живого слова, суметь вовремя дать им правильный ответ на насущные вопросы, объяснить международную обстановку и положение в стране. Не позволять правительственной клике дезориентировать народные массы в решающий исторический момент.
Организация работала в полную силу. Вновь наладилась связь с ячейками на всех предприятиях. На место арестованных зимой товарищей в строй становились новые люди, и, незримая для посторонних глаз, но для всех ощутимая, работа борцов за новую Латвию не прекращалась. Трудновато только было научить молодежь выдержке, терпению. Она рвалась в бой, часто не считаясь с обстановкой, с необходимостью согласованных действий, а эта горячность могла сыграть на руку врагам.
Товарищи все время получали предупреждения о шпиках и провокаторах, которые кишмя кишели на каждом шагу. Очень важным по последствиям в этом смысле оказалось разоблачение деятельности Вилде. От него протянулись нити еще к двум-трем провокаторам, орудовавшим среди портовых рабочих и чуть-чуть не затесавшимся в ряды организации. Выявить их удалось уже Юрису Рубенису и его товарищам.
Жизнь стремительно шла вперед. Каждый день нес с собой новые события…
В один из первых теплых дней Жубур встретился на улице с Бунте. Карманы его пиджака по-прежнему оттопыривались от иностранных газет, но в остальном он сильно изменился. Во-первых, одет он был в новый, сшитый у лучшего портного костюм, без всяких следов «последнего крика моды», к которому Бунте всегда питал неодолимую слабость, – разве только ваты в плечах было подложено чуть-чуть больше, чем следовало бы. Ботинки на толстой подошве и каблуках настолько прибавляли ему росту, что его уже нельзя было назвать карапузом. Но глазное – в каждом его движении, в улыбке, в голосе появилась какая-то торжественность.
Жубуру сразу стала понятной причина этого превращения.
– Поздравляю, Джек. Давно? – сказал он, кивнув на обручальное кольцо, украшавшее руку его бывшего сослуживца.
Бунте так и просиял.
– С середины февраля. Да ты разве не читал в газетах?
– Проглядел, наверно.
– Ну как же, наши фотографии напечатали в нескольких газетах. «Еще одна свадьба в кругах нашей интеллигенции», – процитировал он.
– На ком же это ты? – спросил Жубур, чтобы только не молчать. Далекими-далекими казались ему теперь нудные послеобеденные разговоры с Бунте и тогдашние гнетущие мысли о бесцельности собственного существования. «Насколько я изменился за эти немногие месяцы», – с удивлением подумал он.
– Ну, на ком же еще… С прошлого лета эта история тянулась. Не помнишь разве?
– Фания Атауга? – улыбнулся Жубур.
– Она самая. Влюбилась ведь. Ну, думаю, в конце концов чего еще надо? И вот живем. Квартира из четырех комнат. Хорошая мебель, рояль, шестиламповый приемник. Устроились ничего. Лето собираемся провести на Взморье.
– А с работой как? Больше, наверно, не охотишься за квартирами?
– Этого еще не хватало! Чего ради тогда бы я женился? Нет, брат, забирай выше. Мне старик все дела по посредничеству передал, я всем бюро теперь заправляю. А как ты поживаешь?
– Торгую книгами у Тейкуля.
– Тоже дело. Но на книгах далеко не уедешь. Жениться надо, Жубур. Только говорю как другу: гляди на приданое. Без этого никак нельзя.
– Надо будет подумать, – засмеялся Жубур.
– Чего тут думать, – загорячился Бунте, – действовать надо, а не думать. Ты уже в летах, конечно, но еще недурен. Найди подходящую вдову, с домиком, с капитальцем – не откажет. Ну, прощай, старина. Мне надо бежать. Хочу приобрести собачку для Фании. На улице Кришьяна Барона продается щенок – шотландский терьер. Боюсь, как бы не перехватили…
Весеннее солнце, скворцы, новый костюм, рояль… Нет, иначе, как счастливчиком, Бунте нельзя было назвать.
Правда, счастье ему не с неба свалилось, как можно было бы заключить из его рассказа. Когда Фания поведала родителям о своем романтическом выборе, Атауга чуть не присел от неожиданности и несколько секунд хватал ртом воздух, точно, вытащенная из воды рыба.
– Бунте? Этот карапуз в широких штанах? Фани, дочка, да ты не бредишь ли? Ты бы лучше температуру измерила…
– Папа, может быть, тогда ты сам скажешь, за кого мне выходить замуж? – с ехидным смирением спросила Фания. – Ты же сам все время говорил, что лучшего агента, чем Джек, на свете нет. А теперь он плох стал?
Этот вопрос сбил с толку Атаугу. Он больше не стал умалять достоинств Бунте (ничего не скажешь – шустрый, шустрый малый!), а попробовал направить ее помыслы в другую сторону.
– Неужели ты не могла выбрать в мужья человека с положением? Из своего круга? Неужели в Латвии вывелись образованные и состоятельные люди? – кричал он.
– Я люблю Джека, – упрямо повторяла Фания. – Мне он и без образования и без положения нравится. И вовсе он не плохой.
В самый критический момент Фания увеличила вес своего Джека несколькими слезинками. Соответствующая чашка весов сразу потянула вниз, а тут еще подоспела на помощь мадам Атауга.
– Чего ты ее донимаешь, отец? – раздался ее внушительный голос. – Хочешь, чтобы она старой девой осталась? Или за старика думаешь отдать? Знаю я тебя, ты бы не прочь выдать ее за кого-нибудь из прежних дружков, с которыми бражничал в молодые годы. Об этом лучше и не думай… А этих лоботрясов-корпорантов, с которыми водится Индулис, мне и даром не надо. Бунте ничем не хуже других женихов – вежливый, скромный, от работы не бегает. Раз они полюбили друг друга – пусть и поженятся. Тебе же самому легче будет, когда знающий человек будет присматривать за делами. С тебя хватит уж – достаточно на своем веку потрудился.
– Так где же он тогда? – закричал окончательно сбитый со своих позиций Атауга. – Подавайте его сюда, если уж иначе нельзя. Эх, женщины, женщины!
Через месяц была отпразднована свадьба. Брат Фании Индулис демонстративно уехал в этот день к какому-то комильтону в Тукум и возвратился только через неделю. Знакомясь с зятем, Индулис не счел нужным скрывать от него свое пренебрежительное отношение. Первый его разговор с Бунте можно было бы охарактеризовать как единоборство язвительного остроумия и ослиного долготерпения. Конец ему положила Фания: – Поди лучше донимай своих буршей, а в моем доме веди себя повежливей…
Словом, Фания с первых же шагов семейной жизни обнаружила задатки бой-бабы. Во всяком случае шотландский терьер был вполне заслуженным подарком.
2
Юрис Рубенис чувствовал весну не только в природе, – весна была и в его сердце.
Посвистывая, спускался он в трюм парохода и втыкал свой крюк в крепежный лес или в балки, перекатывал с ребра на ребро, двигал спрессованные кипы льна и связки фанеры.
– Чему ты все радуешься? – спросил его как-то форман [35]35
Форман– старший рабочий, бригадир грузчиков, ответственный за правильную укладку грузов в трюм.
[Закрыть].– В лотерею, наверно, выиграл?
– Нет, форман, не в лотерею, – с веселой наглостью ответил Юрис. – У меня богатая тетушка собирается умирать. Вот я и думаю, как наследством распорядиться.
– Откуда же она у тебя взялась? Не в Америке ли объявилась?
– Нет, она в Латвии проживает – и в Риге и в других городах, – везде. У нее есть и заводы, и фабрики, и магазины, и пароходы. Скоро это все будет моим.
– Как же ты думаешь распорядиться своим наследством? – так же шутливо спросил его кто-то из грузчиков. – Придется тебе позвать на подмогу господ, – без них дело не пойдет.
– Пожалуй, на этот раз обойдусь и без них. Своих людей, что ли, не хватит? Взять хоть бы вас, друзья. Работенка для всех найдется! А вот ответь мне на такой вопрос: ты знаешь, почему памятник у киоска с колоннами назван именем Свободы?
– Ну, в честь свободы, наверно?
– Не угадал. Анекдот это старый, по правде говоря, но раз уж ты не слыхал – расскажу. Когда ставят памятники? Обычно, когда помрет кто-нибудь из великих людей. Например, был у нас великий поэт Райнис [36]36
Райнис– Ян Плекшан (1865–1929) – величайший латышский поэт и драматург, автор сборников стихов «Далекие аккорды синего вечера» (1903), «Посев бури» (1905), «Тихая книга» (1909), «Конец и начало» (1913), трагедий «Индулис и Ария», «Огонь и ночь», драм «Вей, ветерок!», «Золотой конь» и др.
[Закрыть]– ему после смерти поставили. Или вот тоже была у нас лет двадцать тому назад свобода. Много лет она болела и хирела, а в 1934 году скончалась. Тут ей и поставили памятник.
– Берегись! – раздается сверху окрик.
Визжат тросы и блоки, громыхает лебедка, сквозь окутывающие палубу облака пара в трюм подаются грузы. Но сегодня тяжелый труд уже не кажется таким утомительным: Юрис прозревает очертания завтрашнего дня. Этот пароход в будущем – его пароход. Все эти богатства, которые подвозятся грузовиками к пристани, скоро будут принадлежать ему. Все, все будет его. Вчерашний бедняк, у которого ничего не было, сегодня он чувствует себя богаче всех в мире. Его день грядет: народ – создатель всех богатств – вновь обретет похищенное у него добро. Старое уже не в силах удержаться, это ясно каждому человеку, читающему газету, слушающему радио. Люди, еще зимой распространявшие выдумки о советских «фанерных» танках, теперь молчат, словно воды в рот набрали. Вместе с линией Маннергейма Красная Армия разрушила бастионы международной лжи, и когда речь заходит о военной мощи Советского Союза, демагогам приходится помалкивать, чтобы не очутиться в смешном положении. Фанерные танки… Фанерные головы у тех, кто этому поверил, а вместо мозгов – опилки.
Народ чувствует рядом с собой присутствие могучего, непоколебимого друга, который не оставит его в часы испытаний, не позволит мракобесам растаптывать самые священные его права. Чаша долготерпения народного переполнилась, народ больше ждать не хочет. Не хочет и не может. Он постепенно выпрямляется во весь свой богатырский рост, грозно глядит в глаза своим угнетателям. Хватит, подлецы, сейчас мы требуем отчета!
– А вот еще анекдот про Ульманиса, слыхал? – продолжает шутить с товарищами Юрис. – Приходит он раз на прием к самому Саваофу и заявляет: «Я потомок короля Намея». Бог чин-чином встает с престола, чтобы поздороваться, и только он привстал, как Ульманис – раз на его место. Бог и так, и сяк, и стыдит его, и по-хорошему – только чтобы сошел с престола, а наш Карл и ухом не ведет. Тут его начали уговаривать и ангелы, и апостолы, и ветхозаветные пророки – с Карла все как с гуся вода. Наконец, бог велел позвать апостола Петра, – может, старик даст совет, как быть. Петр почесал за ухом, подумал немного, подошел к престолу и что-то шепнул Ульманису. И что вы думаете? Карл вскочил как ошпаренный – и без оглядки выскочил из райских ворот. «Что ты ему такое сказал?» – спрашивает бог у Петра. «Я только сказал, что в аду всех фотографируют», – ответил апостол Петр. На небесах все за животы держались от хохота.
Здесь, в трюме, тоже посмеялись: все знали, как любил Ульманис позировать перед фотоаппаратом.
– Лучше бы он там и остался на веки вечные, – говорили грузчики. – Совсем плох стал на старости лет Саваоф, если пускает на небеса всякую шваль.
Так они потешались в свободные минутки, поглядывая, нет ли поблизости формана или еще кого из хозяйских прихлебателей.
Но тут же можно было услышать и более серьезные разговоры:
– Говорят, фабрикант Аун грозился своим рабочим, – пусть, дескать, не радуются раньше времени и на его фабрику не зарятся. Если дело дойдет до больших перемен и крупные предприятия придется передать государству, он камня на камне от нее не оставит. Станки велит разбить, а корпуса взорвет.
– Так же вот грозился и Мелибренцис, – это у которого текстильная фабрика. «Готовую продукцию подпалю, а машины переломаю. Моя собственность, куда хочу, туда ее и деваю. Вы со мной ничего не поделаете».
– Да, если мы будем глазами хлопать, так оно и случится, – сказал Юрис. – Они рады будут оставить народу одни развалины, довести страну до разрухи. Но уж тут нам, рабочему классу, придется глядеть в оба.
Он понизил голос, и товарищи теснее сдвинулись вокруг него.
– На всех предприятиях сейчас организуются группы самозащиты. На каждой фабрике, в каждом складе и магазине, на электростанциях и на телефонных узлах. Надо, чтобы рабочий глаз все время следил за нынешними хозяевами. Неужели мы им позволим портить наше же добро? Нет, народ должен получить его в целости. Только придется соблюдать строжайшую тайну: если это до хозяйских ушей дойдет, они только хитрее будут действовать.
Такие группы самозащиты стихийно возникали в те дни на многих предприятиях. Задолго до решающих боев рабочий класс встал на страже своего достояния. И ничто не могло укрыться от зоркого ока этой невидимой, молчаливой стражи.
Юрис Рубенис рос, как росла большая часть портовой молодежи. Едва окончив школу, он уже стал помогать отцу на работе. Семнадцатилетним юношей наравне с другими грузчиками таскал на спине тяжелые кули сахару, муки и соли, задыхался от пыли на складах льна. Ловко носился по сходням с тяжело нагруженной углем тачкой. Подобно своим товарищам, он тоже мечтал поплавать по морям, побывать в чужих странах, посмотреть, как люди живут. Но с него хватило одного рейса до бельгийских и французских портов: несмотря на крепкое здоровье, он при малейшем волнении валился с ног от морской болезни. Тогда Юрис решил, что надо крепче держаться за землю.
В тяжелом труде проходили годы. Сейчас, в двадцать семь лет, Юрис давно постиг все тонкости и тайны своей профессии. Он с одинаковой ловкостью справлялся с погрузкой и льна, и угля, и сплавного леса. Вполне освоился он и с работой на складах и на товарной станции. Несколько зим Юрис пробыл на лесоразработках, а по веснам сплавлял плоты. На сплаве у него и завязалась тесная дружба с Петерем Спаре, а немного спустя и с его сестрой Айей. Первое время ему было просто приятно посидеть с ней, поговорить о людях, о книгах, пойти вдвоем в парк «Аркадию» или в Саркандаугаву, хотя ни он, ни она не были любителями танцулек.
Хотя Айя окончила среднюю школу, считалась интеллигенткой, это не мешало их дружбе. Да и не так велика была между ними разница в развитии. У обоих мировоззрение формировалось на работе в подпольной коммунистической организации, оба они росли под идейным влиянием Силениека. К тому же Юрис много читал, а жизненный опыт, опыт революционной борьбы помогал ему осмысливать прочитанное лучше, чем иному его сверстнику аттестат зрелости. Каждый раз накануне революционных праздников – Первого мая и Октябрьской годовщины – Юрис должен был прятаться у своих друзей, потому что обычно в это время его арестовывали и держали целую неделю в кутузке. Точно такие же меры предосторожности полиция принимала против многих активных рабочих: ведь красные знамена, появлявшиеся на заводских трубах, на крышах высоких зданий, расклеиваемые на стенах плакаты с лозунгами и листовки с воззваниями пуще всего пугали в эти дни охранителей ульманисовских порядков.
Юрис любил Айю. Судьба девушки ни днем, ни ночью не давала ему покоя. Он дышал живительным воздухом весны, а она задыхалась в тюрьме. «Лучше бы я был на ее месте, – часто думал он. – Здесь она делала бы не меньше моего, а я бы легче перенес тамошний режим. Я здоровее, крепче ее».
Он старался как можно чаще бывать в Чиекуркалне, у ее стариков. Последние дни всех троих донимала одна забота: как быть дальше, кто будет носить по пятницам передачу в тюрьму? Старик Спаре должен вот-вот уехать на сплав, а мать могла ходить только раз в две недели, когда работала в ночную смену, – да и то у них поговаривали, что летом вторая смена будет совсем отменена. Старикам трудно было перебиваться на три-четыре лата общего дневного заработка, и не раз уже случалось, что перед уходом Юрис отзывал в сторону мать Айи и всовывал ей в руку десятилатовую бумажку.
– Купите им чего-нибудь, когда пойдете туда… Если в этот раз пустят на свидание, не забудьте и от меня привет передать… Теперь уж им недолго ждать. Об этом мы здесь позаботимся.
В сумерках все предметы в комнате кажутся синеватыми. Или это дымит трубка Мартына Спаре? Они сидят и беседуют вполголоса о приближении весны и новой жизни. Иногда кажется, что и Айя и Петер здесь же сидят на своих обычных местах: один в углу комнаты, другая – у окна. Снова все вместе. Какое это было бы счастье! И оно придет… Должно прийти… В двери Латвии стучится весна!
3
Прамниек решил окончить свою большую картину до наступления лета, поэтому все дневные часы проводил в мастерской. Два-три часа работал с натурщиками, а остальное время – по эскизам и мелким наброскам углем. Он до того втягивался в работу, что Ольге только после усиленных уговоров удавалось вытащить его к вечеру на воздух. Но и во время прогулок он не мог ни говорить, ни думать о чем-нибудь постороннем, мысли его все время возвращались к картине. Заметив в толпе какое-нибудь характерное лицо, он дергал за локоть Ольгу, заставляя смотреть на него. Он мог по часу простаивать на месте, наблюдая за группой рабочих, перешивающих трамвайные рельсы, или у извозчичьей стоянки, глядя на какого-нибудь старичка, мирно дремлющего на козлах в ожидании седоков. Ольга давно привыкла к этому и терпеливо ждала, не надоедая разговорами.
Если кому из друзей хотелось повидаться с Прамниеком, тот должен был сам идти на улицу Блаумана. Чаще других заглядывал сюда редактор Саусум. Его длинные ноги легко взлетали по бесконечным ступенькам до пятого этажа, – вот только сердце за последнее время стало пошаливать. Зато в мастерской он находил настоящий отдых, отводя душу в долгих разговорах с художником. Прамниек обычно показывал ему на удобное большое кресло, а сам продолжал работать у мольберта – в этом отношении он не делал исключения даже для Саусума.
Что сблизило этих людей? Во-первых, они работали в одной газете. Прамниек сотрудничал у Саусума в отделе искусств, писал о живописи и скульптуре. Кроме того, несколько месяцев тому назад их обоих довольно чувствительно оштрафовали за излишнюю откровенность. И так как охоты к разговорам случай этот у них не отбил, да и поговорить за последнее время находилось о чем, безопаснее всего было отводить душу с проверенным товарищем по несчастью. В редакции, в кафе, в фойе театра нельзя было вымолвить ни слова, не рискуя быть подслушанным. А там опять донос, и опять страдает карман. Тут никакой бюджет не выдержит.
– Слишком уж душно становится, – начинал Саусум. – Иной раз и сам не знаешь, что можно печатать, чего нельзя. Если в газете нет славословий Ульманису и дифирамбов пятнадцатому мая, то никогда не можешь быть уверен, что тебе не влетит от Валяй-Берзиня. Как ни расшаркивайся, как ни ползай на брюхе – им все мало.
– Надо больше писать про солнце, про цветочки, – не оборачиваясь, ответил Прамниек, – или еще о дамских модах, о новом галстуке принца Уэльского… Тема благодарная.
– Да мало ли мы печатаем подобной дряни!.. – Саусум снял роговые очки и долго протирал платком стекла. Как все люди, постоянно носящие очки, без них он казался старше; глаза у него были усталые, веки припухли. – Хочется дать народу что-нибудь посущественнее, над чем можно было бы поразмыслить, донести до него правдивые слова, а тут на тебе… Ведь все честные писатели и журналисты постепенно отходят от нас. Нейтральная тематика давным-давно исчерпана, да ведь и не в ней дело. Писателю хочется говорить с народом откровенно и говорить о самом насущном… Ты знаешь, что происходит с пивом, когда оно перестаивается в бутылке? Оно закисает и покрывается плесенью. Боюсь, что то же самое произойдет и с нашей творческой интеллигенцией: она скиснет и заплесневеет, если ее будут оттирать от жизненных проблем, заставят пережевывать собственные мысли. Вчера пригласил я к себе в редакцию Калея и попросил его написать статейку о походе студенческой роты, нечто вроде эпизода из времен «становления» [37]37
Времена «становления»– так латышские буржуазные националисты именовали период образования буржуазной Латвийской республики (1919).
[Закрыть]. Я знаю, что у Калек каждая копейка на счету: что заработает, то и съест. Вот и хотелось немного помочь. И можешь представить, что он ответил? Он-де не желает деквалифицироваться, ему, видишь ли, про студенческую роту ничего заслуживающего внимания не известно. Отказался, мошенник. И так со многими. И сила есть и талант, а приложить не к чему. В конце концов внутри все перебродит и заплесневеет.
– Не заплесневеет, Саусум. Скоро выскочит эта пробка – да еще с каким треском! Сам-то ты не чувствуешь разве, чем веет в воздухе?
– Чувствую, чувствую. Конечно, что-то должно произойти… Скажи, почему у тебя эти знамена до сих пор не закрашены, когда вся картина уже почти готова?
– Знамена я отделаю в самом конце. Видишь ли, они у меня должны составлять самое яркое пятно в картине. Надо найти соответствующие тона, а пока это трудно сделать.
– Вероятно, это будут красные тона? – хитро улыбнулся Саусум.
– Вполне возможно, – с той же хитрой улыбкой ответил Прамниек, – это видно будет потом.
– Выжидаешь пока? Гм… да… все мы так. Ну, а, по-твоему, красный цвет действительно окажется для нас самым подходящим? Будет он гармонировать с расцветкой национального букета?
– Смотря на чей вкус… А ты что – боишься, Саусум?
– Я не знаю, Прамниек. Пока я ничего не знаю. Старым я сыт по горло, но вопрос в том, будет ли новое лучше старого. Я не знаю, каким оно будет, и это меня пугает. Ведь не забудь, что мы с тобой латыши, любим свой народ, свою культуру, свои обычаи – словом, все, из чего складывается самобытный облик нации. И я буду любить свой народ до гробовой доски.
– А кто же тебе не велит любить его? – спросил Прамниек. Он на минуту отложил в сторону палитру, чтобы набить трубку. – Назови мне такого человека. Кто же захочет слушать такого выродка?
– Никто тебе так прямо и не будет говорить, но мне кажется, что это новое веяние, этот интернационализм, или как там его, несет с собой какой-то трафарет. Может быть, я романтик-националист. Не из тех, конечно, которые норовят сейчас скроить из национальных костюмов знамя реакции, – ну их к черту! И пусть они водят свои хороводы, пока постолов не растеряют, – я в них участия принимать не стану. Но мне дорог язык моего народа, дорог латышский быт, народные обычаи, пляски и песни в ночь под Янов день [38]38
Янов день,день Лиго (24 июня) – латышский народный праздник, соответствующий дню Ивана Купала.
[Закрыть]с дубовыми венками, с полыхающими смоляными бочками. А у интернационализма нет еще своих обычаев и традиций, он может дать только что-нибудь сшитое на скорую руку, не имеющее связи с прошлым, что-нибудь вроде выращенного в горшке комнатного растения, корни которого никогда не соприкасались с почвой.
– Слушай, Саусум, где ты нахватался такой чепухи? Не исходят ли все эти откровения из министерства общественных дел, не навеяны ли они академическими речами Аушкапа? [39]39
Аушкап– министр просвещения ульманисовского правительства.
[Закрыть]Тебе бы лучше, чем кому другому, следовало знать, что у них там, на Столбовой улице, специально посажен один предприимчивый специалист на фабрикацию самых нелепых слухов. Говорят, что сам Валяй-Берзинь просматривает каждый его проект, а после утверждения эти слухи распространяют в народе. Ох, боюсь, что ты, сам того не зная, напился из этого зловонного источника. Смотри, Саусум, так можно испортить себе желудок.
– Ну, а ты сам как? Ждешь чего-нибудь от этого… нового? Знаешь, что оно тебе принесет?
Прамниек пожал плечами.
– Я знаю, что тогда мне не придется писать одни натюрморты и голые тела. Искусство выйдет, наконец, из столовых и спален на солнце, на простор. Мои картины больше не будут служить украшением одних гостиных и кабинетов денежных тузов или министерских приемных, где их подбирают в тон к мебели. Пора уж поработать и для народа. Я сознаю, конечно, что ему не натюрморты нужны, – он потребует подлинного содержания, мысли… И я буду думать, буду искать. Вот тогда, Саусум, моя совесть художника будет спокойна. И ты не позволяй себя запугивать огородными пугалами. Почитай советские книги, послушай московское радио, узнай, как там живет народ. Сто народов в одной семье, и каждый сохраняет свое лицо, свои традиции. Нашим ура-националистам, конечно, не очень хочется повалить прогнивший националистический забор, который заслоняет от народа остальной мир. Они боятся, как бы он не заметил тогда тесноты нашего двора. Пескарю и пруд кажется океаном, а себя он мнит самой крупной рыбой в этом океане. Так почему же мы с тобой должны ограничиваться кругозором пескаря? А я вот не желаю прозябать в прудике. Я хочу в море.
Быстро, будто в сердцах, работая кистью, Прамниек оставлял на полотне резкие мазки. Клубы дыма окутывали его буйную шевелюру. Саусум поднялся с кресла, стал прохаживаться по мастерской взад-вперед.
– Если бы знать наверное, что будет… Ведь ты и сам толком ничего не знаешь, Прамниек. Ты все представляешь соответственно собственным желаниям.
– Возможно. Но мне кажется, что осуществление наших желаний в значительной мере зависит от нас самих. А пока что нам и желать-то запрещают. Пока мы должны довольствоваться тем, что нам преподносит клика пятнадцатого мая.
– Но ведь Калей вот не довольствуется этим. О студенческой роте писать не взялся.
– Что уж там говорить, Саусум, все мы только и делаем, что занимаемся болтовней. А это новое придет помимо нас, хотим мы его или не хотим. И не мы его принесем. Другие принесут его на своих сильных плечах. Принесут те, кто борется за это новое. Мы только языки чесать умеем, когда уж очень приспичит. А для честного человека этого маловато.
– Нас с тобой, значит, и честными людьми назвать нельзя?
– Во всяком случае мы могли бы быть почестнее. Может быть, со временем и станем такими. Будущее покажет.
Весеннее солнце пробивалось и сюда.
4
Официально Никур принимал посетителей два раза в неделю, но на практике дело обстояло иначе. Один приемный день выпадал потому, что по пятницам «превосходительство» выезжал на охоту и, следовательно, отсутствовал. Но и по вторникам дело обстояло не легче. Иной провинциал раз по десять приезжал в Ригу и часами сидел в приемной в тщетной надежде, что секретарь вызовет его, наконец, на прием к министру. В известной степени это делалось с умыслом: посетители могли собственными глазами убедиться, что Никур всегда по горло занят работой, что министром быть – дело не простое.
Нет если Никур принимал далеко не каждого встречного-поперечного, зато с теми, кто удостаивался такого внимания, он просиживал по часу и больше. Рассказывал анекдоты, расспрашивал о семье, а мимоходом решал и само дело, лишний раз подкрепив таким образом свою репутацию обаятельного человека. Что еще могло так польстить какой-нибудь учительнице, которая приехала из провинции попросить господина министра пожаловать на торжественный выпуск учеников ее школы, как проявленный им интерес к ее личной жизни? «Есть ли у вас семья? Как здоровье ваших деток? Из какой волости вы родом?» После такого приема она целый год без устали рассказывала всем своим друзьям и знакомым о том, какой очаровательный человек господин министр, пека это не становилось известным всей округе.
Именно по этим причинам Никуру никогда не удавалось принять более трех-четырех человек в неделю, хотя в телефонной книге и на дверях его приемной и уведомлялось, что принимает он по вторникам и пятницам от часу до четырех дня. Однако последнее время «превосходительство» стал несколько доступнее, в особенности для приезжих из провинции. Даже секретарь его не взялся бы объяснить причину такого внезапного интереса к этой категории посетителей. Известно было только, что министр не делает ничего без тайного расчета, – был, следовательно, какой-то смысл в приеме всех этих командиров айзсаргов, лесничих и председателей рыбачьих обществ.
Зазвонил телефон. Спрашивал голос Гуны Парупе. Никур сделал знак секретарю, что хочет остаться один.
– Ну что у тебя, золотце? Что слышно нового?
– Альфред, милый, я хочу тебя спросить… Правда это, будто нынешнее правительство и ты тоже, милый, долго не продержитесь?
– Кто это тебе рассказывает такие глупости?
– Да все так говорят: И в кафе, и в театре, в трамвае – везде только об этом и шепчутся. Меня даже зло берет – почему все так радуются? Да еще смеются: «Интересно знать, куда удерут самые главные…» Альфред, объясни мне, за что они нас так не любят?
– За что им любить нас? – ответил Никур словами английского короля Эдуарда VII [40]40
Эдуард VII(1841–1910) – английский король в 1901–1910 гг., один из наиболее активных представителей политики империализма накануне первой мировой войны.
[Закрыть]. – Да ты не волнуйся, золотце…
– Значит, правда?
– Лучше отложим этот разговор до вечера. Я к тебе заеду.
Положив трубку, Никур облокотился на поручни кресла. Его одолевали мрачные мысли. «Конец недалек. Скоро придется давать ответ. За все, за все».
«Ты будешь висеть в петле… От нас ты не уйдешь…»
Ни день, ни ночь не давали покоя Никуру эти слова, как будто их выжгли в его мозгу раскаленным железом. Воздвигнутый шесть лет тому назад на лжи и на грубом насилии балаган пятнадцатого мая шатался, трещал и расползался по всем швам, грозя похоронить под развалинами своих строителей. Агенты ежедневно доносили о симптомах распада даже в той прослойке, которая считалась опорой режима. Крупные чиновники, состоятельные люди сломя голову спешили менять фамилии. Министр внутренних дел не успевал подписывать решения об утверждении новоиспеченных латышских фамилий. Так они старались запутать свои следы, изгладить из людской памяти свое прошлое. Как будто Фрейберг, превратившись в Бривкална, становился поэтому иным человеком, с иной биографией.








