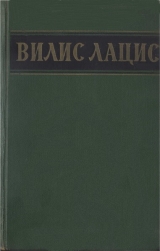
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 3. Буря"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Никур не рассказывал – он действовал. Документ – заграничный паспорт на вымышленную фамилию со всеми необходимыми визами – лежал у него в кармане. Некая сумма, достаточно кругленькая, чтобы привыкший к удобствам экс-министр мог, не зная забот, проводить время в обществе приятной дамы, находилась уже по ту сторону меря. Оставалось только проводить даму.
Никур усадил Гуну Парупе на небольшой белый пароход, который вечером должен был отплыть в Стокгольм. Багаж у Гуны был, пожалуй, великоват для одинокой пассажирки, но на этот счет никто не донимал ее расспросами. Даже самым любопытным деньги заткнули рот раньше, чем они успевали его открыть.
– До свидания в Швеции, – сказал Никур, в последний раз поцеловав Гуну в хорошенькие губки. – Я скоро буду с тобой. Не волнуйся за меня, золотце.
И «золотце» уехало, захватив в многочисленных чемоданах и ящиках награбленное государственное добро. Никур избрал Гуну в качестве единственной спутницы грядущих странствований.
Все было готово и к бегству самого Никура. Адреса его рижской конспиративной квартиры не знал ни один человек. В тайне держал «превосходительство» и предмет своих разговоров с некоторыми прибрежными рыбаками.
А его «кошечке», как он называл жену, даже во сне не снилось, что Альфред может потихоньку, не простившись, оставить ее.
4
День семнадцатого июня был полон солнца, тепла, щедрого цветения. Легкие белые облачка скользили по небу, и так глубока была его синева, что художник взял бы для ее изображения самый густой чистый тон. Ряды деревьев в свежей молодой листве склонялись над городским каналом, заглядевшись в воду, и от их отражений она казалась совсем зеленой.
Вой автомобильных сирен, трамвайные звонки, стук подков о мостовую сливались с голосами людей, щебетом птиц и еле заметным шумом ветра в одну мощную, полнозвучную симфонию.
Но скоро в этом потоке привычных звуков стало слышаться что-то новое. Люди останавливались на тротуарах, внимательно вглядываясь в ту сторону, откуда долетали эти новые, не слышанные раньше звуки. Они становились все ближе, ближе, вот уже они напоминают рокот морских волн. Над звоном металла взмывали людские голоса, сотни, тысячи ликующих голосов.
Они и заставили Эдгара Прамниека прервать разговор с Саусумом и выглянуть на улицу. Людской поток стремился в сторону Старого города. И на всех лицах лежал отблеск внутреннего радостного волнения.
– Что там происходит? – проговорил он про себя, уже заражаясь этим волнением, этой радостью. – Что-то необычное, праздник какой-то.
– Действительно, похоже на праздник, – сказал Саусум. – Пойдем и мы с ними.
За какую-нибудь минуту кафе опустело. Сам Зандарт, всегда такой болтливый, благодушный, молча, угрюмо глядел вслед расходящейся публике. Он был и возмущен и испуган всеобщей, охватывающей всех людей радостью.
– И вы за ними? – язвительно спросил он Прамниека. – Бегите, бегите, дело ваше. Только вы вон новые полуботиночки обули, как бы их не разделали в такой толпе, там глядеть на это не будут.
– Почему ты нынче такой сварливый, Гуго? – спросил Прамниек, направляясь к двери.
– А что же, танцевать мне прикажете? – грубо отрезал Зандарт. – То-то мне радость – русские танки вошли в Ригу!
– Правда? Саусум, как же это мы ничего не знаем? Идем, скорей, скорей!
– Провалиться им со всеми их танками, видеть я их не желаю и никуда не пойду… – у самой двери услышал Прамниек непривычно тонкий, плачущий голос Зандарта, точно жужжанье навозной мухи в рокоте морского прибоя. Дверь за ними захлопнулась, и они, точно капли, растворились в стремительном людском потоке, движущемся навстречу буре ликования и цветения.
Глаза Прамниека жадно схватывали неповторимые картины, старались запечатлеть каждое лицо, улыбку, каждое движение. Зеленые стальные гиганты с алыми пятиконечными звездами медленно двигались среди человеческого моря. Всюду видна была зелень, у всех в руках были цветы, охапки цветов. Народ с цветами встречал Красную Армию. Цветы были на шлемах танкистов, на гимнастерках и в руках командиров. Стоило только боевой машине остановиться, как на нее вскарабкивались дети, взбирались на башни, доверчиво держась за руки танкистов. Все говорили отрывистыми, короткими фразами – и все равно понимали друг друга с полуслова, как бывает всегда, когда человек получит, наконец, долгожданную желанную весть и в первые мгновения еще не в силах выразить словами овладевшее им чувство.
Прамниек нетерпеливо дергал за рукав Саусума.
– Видишь? Ты посмотри на все эти лица. Ты еще боишься этой новизны? Разве ты не чувствуешь освежающую, живительную силу этой бури?
Саусум, точно стыдясь своих чувств, старался напустить на себя равнодушный вид.
– Во всяком случае это событие прогрессивного порядка. Да, не хотел бы я быть на месте ульманисовцев. Что же осталось от их хваленого единства? За какой-нибудь час народ изодрал в лохмотья и смел в угол грязную паутину, которую они ткали целых шесть лет.
– Только ли это? – подхватил Прамниек. – А искусственно разжигаемая в течение двадцати лет вражда к Советскому Союзу? Ведь как только народ получил возможность высказать свои подлинные чувства, от нее и следа не осталось. Ты взгляни, Саусум… Так встречают любимого брата, с которым долго были в разлуке, а не врага, не чужого. Только слепые совы из Рижского замка могли вообразить, что они в состоянии навязать народу свою ненависть.
Ветер ерошил густую шевелюру художника. Выпрямившись во весь рост, смотрел он поверх людских голов и улыбался.
В толпе мелькнуло раскрасневшееся лицо Карла Жубура, а рядом с ним еще чье-то, показавшееся Прамниеку знакомым. Да, конечно, это тот самый неразговорчивый рабочий, которого однажды присылал за красками Силениек.
– Жубур! – крикнул Прамниек, махая ему рукой.
Жубур заметил его и что-то сказал соседу. Юрис Рубенис тоже посмотрел на Прамниека, и они оба начали пробираться к нему сквозь толпу. Жубур, как тисками, сжал руку Прамниека и долго не отпускал ее.
– Наконец-то дождались! – громко сказал он. – Наш день наступил, Прамниек. Ведь это и твой день.
Прамниек ответил тихо, но без колебаний:
– Это нашдень, Жубур. Я ждал его целых шесть лет.
Все четверо перезнакомились между собой и еще добрых полчаса вместе шли по улице. Звонко, возбужденно звучали голоса разговаривавших. Такой необычной казалась впервые открывшаяся возможность громко, без опасений, высказывать свои мысли. Больше они не шептались, не понижали голосов, не оглядывались с опаской по сторонам: нет ли поблизости шпика? Теперь пусть он только появится: ему самому придется сторониться людей, прятаться в тень. У змеи были вырваны ядовитые зубы: она могла только шипеть.
На улице показалась открытая машина, в которой обычно Ульманис отправлялся в агитационные поездки по волостям. Он сидел рядом с адъютантом – как-то сразу полинявший, угрюмый, точно воплощение поверженной реакции. Его узнавали, смотрели на него с недоумением. Чего он думал достигнуть своим появлением: омрачить день всеобщего торжества, вогнать клин в ликующую душу народа? Или он домогался мученического венца, чтобы принарядить для истории рушащийся режим насилия?
Напрасно глядел он по сторонам, ожидая приветствия. Он привык ступать по цветам, рассыпаемым перед ним женщинами-айзсаргами и мазпулценами, но сейчас его обрадовал бы пучочек полевых цветов, даже один цветок, который он заметил в руках маленькой девочки, стоявшей на тротуаре.
Ни одна рука не поднялась для приветствия, ни один цветок не упал в машину. Только полицейские, завидев своего кумира, вытягивались и козыряли по привычке. Этого ли он ждал от народа?
– Убирайся в свои Эзерклейши [42]42
Эзерклейши– родовая усадьба Ульманиса.
[Закрыть], кулак! – не утерпев, крикнул Юрис Рубенис, когда с ним поровнялась машина Ульманиса.
Праздник продолжался. Каждый, кто только мог, оставлял в этот день работу и спешил на улицу, на народ. Никто не помнил о еде; несмотря на жаркое июньское солнце, люди не чувствовали жажды. Время как будто остановилось. По сравнению с зрелищем великого события все остальное казалось незначительным, неинтересным.
– Да здравствует Красная Армия! – стихийно вырвался из тысячи грудей возглас любви и дружбы.
Но кое-где выглядывали позеленевшие от злобы лица, – это были люди вчерашнего дня, бывшие люди. Каждый возглас народного ликования отдавался в их сердцах ударами тяжелого молота. И издыхающая змея сделала еще попытку ужалить. Отряд верховых полицейских с перекошенными от ненависти лицами врезался в ряды демонстрантов, со свистом посыпались направо и налево удары нагаек. Раздались крики женщин и детей. В полицейских полетели булыжники. Они только и ждали этого. Послышались выстрелы, и рижская мостовая окрасилась кровью рабочих.
Город не умолкал. Стальные великаны с пятиконечными звездами медленно двигались по улицам. В воздухе стоял гул моторов – это шли самолеты, эскадрилья за эскадрильей. Еле заметными точками возникали они в синеве, превращаясь в стаи больших птиц, и, сделав круг над городом, опускались на аэродромы.
Униженный человекподнял голову.
5
Двадцать первое июня…
В девять часов утра новые министры, члены Народного правительства, приняли от своих предшественников министерства, подписали в толстых книгах акты приема и сдачи и направились в Рижский замок на первое заседание. Заседание должно было начаться в десять часов, как было условлено накануне, после того как члены нового правительства официально представились президенту.
Но к десяти часам президент еще не закончил своего утреннего туалета. Министрам пришлось ждать. Некоторые начали беспокойно посматривать на часы – опоздание Ульманиса грозило срывом намеченного на этот день плана. Вся Рига уже знала, что на первом заседании Народного правительства первым пунктом повестки дня стоит вопрос об освобождении политических заключенных. С самого раннего утра по всем, улицам текли к пересыльной и центральной тюрьмам потоки людей – родные, близкие и друзья заключенных. Через некоторое время показались организованные колонны рабочих от фабрик и заводов, от целых районов. К назначенному часу улицы Риги были полны демонстрантов.
Ульманис знал, почему с таким нетерпением ждут его министры – поэтому он и не спешил. Пока он будет сдавать кабинет председателю совета министров да пока будет говорить прощальную речь, Народное правительство не начнет заседания. А за это время стотысячные массы могут выйти из терпения, среди них будут пущены заранее подготовленные слухи, начнутся эксцессы, и весь мир увидит, что новое правительство не в состоянии установить порядок в стране, тем более что айзсаргам и полиции был дан приказ не показываться на улицах, чтобы не раздражать своим видом народ. «Ну, посмотрим, посмотрим, как вы сегодня обойдетесь без полиции и айзсаргов», – усмехался Ульманис.
Наконец, в половине одиннадцатого он вошел в зал заседаний – розовый, улыбающийся, всем своим видом стараясь продемонстрировать отличное настроение. Поздоровавшись с новыми министрами, он попробовал начать с шуток и разговоров о пустяках, отняв еще с четверть часа драгоценного времени. Потом, словно спохватившись, перешел к делам. Официальная часть речи продолжалась минут десять, после чего Ульманис перешел к неофициальной части. Как обычно, он начал с бекона, масла и искусственных удобрений. Затем указал, что большинство новых министров не имеет опыта, поэтому в первое время им придется туго.
К концу первого получаса этой речи Ульманис достиг вершин демагогии.
– Когда вам что-нибудь покажется неясным, когда надо будет подготовить какой-нибудь важный закон, вы можете смело идти ко мне, а я в любое время готов помочь вам. Как-никак, у меня за горбом двадцатилетний опыт государственной деятельности, и мой совет может весьма пригодиться. Сперва все обсудим и взвесим, а потом решим сообща – по-нашему, по-латышски. Не бойтесь меня беспокоить, я готов с удовольствием…
Министры переглядывались, еле сдерживая смех.
– Далее, об этих заключенных и каторжанах… – ничтоже сумняшеся продолжал Ульманис. – Я не знаю, насколько это будет правильно, если мы выпустим их всех на свободу. Но даже если и выпустим, вряд ли следует давать им доступ к государственной службе. Это уже деградированные люди, с психологией арестантов. В них говорит одна ненависть, все их помыслы будут направлены на мщение. Они могут доставить вам крупные неприятности. Давайте им работенку попроще и поменьше. Арестант остается арестантом, за что бы он ни сидел в тюрьме.
И так далее и так далее…
Сходящий со сцены диктатор до конца остался верен себе: он попросту готовил Народному правительству обструкцию. А колонны демонстрантов, толпы народа, заполнявшие улицы до центральной тюрьмы и до станции Брасла, где находилась пересыльная тюрьма, стали проявлять уже признаки беспокойства, тревоги. Кем-то уже были пущены злопыхательские слухи:
– Новое правительство не собирается освобождать политических заключенных!
– Рано мы вышли встречать их!
Ульманис все говорил и готов был проговорить еще битый час. А там потребовалось бы известное время на написание проекта амнистии, затем председателю совета министров предстояло составить официальный документ и дать его на подпись президенту. Тот не преминул бы порассуждать на тему о правомерности закона, прежде чем подписать его, и дотянул бы до самого вечера. Это ведь и было его целью.
Но гордиев узел был разрублен просто. Около двенадцати часов два министра, не дожидаясь конца речи Ульманиса, покинули зал заседаний и поехали в центральную тюрьму. Там, в кабинете начальника тюрьмы, они за какие-нибудь десять минут составили распоряжение об освобождении политических заключенных. Так распахнулись двери камер, и на свободу вышли те, кто в суровой борьбе добывал ее для всего народа.
То был незабываемый, потрясший все сердца момент. На улицах везде были видны, неизвестно даже откуда появившиеся за одну ночь, знамена, плакаты, лозунги. Скромные маленькие знамена свидетельствовали о больших чувствах, одушевлявших народ; неуклюже написанные лозунги говорили голосом титана, потрясшего прогнившее здание насилия.
Уже несколько часов тысячи людей стояли под палящим солнцем у ворот тюрьмы, в ожидании момента, когда они откроются. Многие шли на Матвеевское кладбище, посидеть на поросших метлицей холмиках, у могил борцов 1905 года. По ту сторону улицы тоже были люди, – их руки гладили белый песок, под которым крепким сном спали тысячи жертв белого террора 1918–1919 годов, цвет латышского народа, тысячи героев-мучеников, чьи голоса прозвучали как смелый зов, обращенный к грядущему. Через могилы, через тюремные стены, через десятилетия их юношеские стремления, их чаяния перекликались с великими свершениями сегодняшнего дня.
Отпечаток торжественной, глубокой мысли лег на все лица. Вот она – на глазах рождается новая жизнь. Правда победила. Не напрасны были борьба и жертвы!
В тюремных коридорах звенели связки ключей. Одна за другой распахивались двери. Опустели общие камеры и одиночки, разжимались когти карцеров, возвращая жизни свои жертвы. Всюду слышался стук деревянных башмаков. Коридоры наполнялись заключенными в полосатых халатах, они спешили к выходу, во двор, навстречу июньскому солнцу. Друг обнимал друга, товарищ – боевого товарища. Груз проведенных в тюрьме лет спадал с их плеч, – выпрямляясь во весь рост, выходили они на свободу, готовые к новой борьбе.
Юрис Рубенис как вихрь носился по всем камерам. Со многими он был знаком, но и те, с кем ему никогда не приходилось встречаться, были для него дороже родных братьев. Он всем пожимал руки, со всеми обнимался и целовался, потом бежал дальше, чтобы проверить каждый тайный уголок тюрьмы, чтобы не оставить ни в одном из «гробов» своего человека.
– Где Жубур? – спросил у него Андрей Силениек, когда освобожденные стали выстраиваться на тюремном дворе в колонну.
– Жубура послали к пересыльной тюрьме. Мы с ним, Андрей, три ночи не спали. Пока обежишь весь город, пока сообщишь всем товарищам… Сам ведь знаешь, телефонов и лимузинов у нас пока еще нет.
– Чертовски славные вы ребята, – улыбнулся Андрей. – У нас здесь тоже никто не спал, как только заслышали гул самолетов. Сразу угадали, что наши.Всем стало ясно, что наступил наш час. Но последняя ночь была тяжела… Ох, как тяжела! По тюрьме поползли тревожные слухи. Начальство готовило какую-то пакость. Вдруг собрались увозить неизвестно куда некоторых товарищей. Вполне можно было ждать от них варфоломеевской ночи.
– Мы тоже об этом думали, Андрей. И они действие тельно к чему-то готовились. Тогда мы договорились с командованием Красной Армии, и танки стали у самых важных пунктов для охраны порядка. Ну, здешние гады и струхнули. Ты знаешь, у тюремных ворот тоже стоит танк.
– Знаем, знаем, Юрис! – крикнул, подходя к ним, Петер Спаре и обнял за плечи Рубениса. – Все слышали, как он ночью подошел. Тогда всем ясно стало, что ничего дурного с нами больше не случится. Как там мои старички поживают? Что с Айей?
– Айя сегодня будет освобождена из пересыльной тюрьмы. Жубур приведет ее к нам.
Наконец, колонна выстроилась к выходу. Стояли по четверо, плечом к плечу. Солнце горячо ласкало непокрытые головы. У стен, сбившись в кучу, с тупым смущением смотрели на них тюремщики. Нелегко было постигнуть им значение совершившегося. Людям, которых они вчера еще могли подвергать унижениям и пыткам, сегодня принадлежит мир. Униженные, осужденные вчерашними законами, сегодня они станут обсуждать и издавать новые законы, вместе со всем народом станут творцами будущего своей страны.
В окнах верхних этажей тюремного корпуса, за железными решетками, видны были испитые, угрюмые лица. То были уголовники – воры, фальшивомонетчики, убийцы, которым наступающий день не принес свободы. Жадным, пристальным взглядом смотрели они вниз. Чего бы они не отдали, чтобы выйти за тюремные ворота, в новую жизнь, встать в почетные ряды этой колонны! Глубокие, похожие на стон вздохи вырывались из их грудей. Казалось, что стонала сама тюрьма, что стены ее дрогнули от этого стона.
Таким потрясающим был этот момент, что у Андрея Силениека выступили слезы на глазах. Он махнул рукой начальнику тюрьмы и сказал сдавленным от волнения голосом:
– Я знаю, что заключенные не имеют права стоять у окон. Но смотрите, чтобы сегодня ни один человек не был оштрафован за это нарушение.
Колонна колыхнулась и медленной, тяжелой поступью двинулась к воротам. Когда они распахнулись, когда народ увидел людей в полосатой одежде, тысячеголосый возглас радости и любви поднялся над городом, над кладбищем и песчаными холмами. С кладбища и холмов устремились навстречу колонне новые толпы. Казалось, что ликующий народ разбудил героев, спящих в братских могилах, что он вернул их к солнцу, как вернул он тех, которые только что вышли из большой страшной могилы, где заживо хоронили людей.
До поздней ночи ликовал город. Неиссякаемые потоки людей текли по улицам. Народ на руках нес своих освобожденных героев. Всюду звучали новые напевы новых песен.
Обыватели выглядывали из-за оконных портьер, замирая от робости перед неизвестным. И каждый раз, когда колонна демонстрантов приближалась к Рижскому замку, бывший полновластный диктатор, весь в холодном поту, подбегал к телефону, звонил во все концы, прося о помощи. Демонстрация была только у театра Драмы, а он уже орал в смертельном страхе:
– Помогите! Толпа ломится в ворота!
Но никто не собирался его трогать. В величавом спокойствии шествовал народ по улицам столицы, празднуя этот солнечный день – первый день свободной Латвии.
Конец первой книги
КНИГА ВТОРАЯ
Глава первая1
Петеру Спаре не спалось первую ночь после освобождения из тюрьмы. Целый день он ходил по улицам в рядах демонстрантов, и все его существо насквозь пропиталось солнцем и воздухом свободы. Знакомые с детства улицы, парки, дома, люди – все, все казалось ему сказкой, и Петер Спаре не знал, где же его настоящее место в этом сказочном мире. После четырех лет тюрьмы он был не в состоянии сразу освоиться с мыслью, что больше никто не вправе унижать его, что он волен идти, куда хочет, говорить полным голосом о том, о чем раньше осмеливался только шептать. Свобода! Вот оно, это великое чудо, щедрое летнее солнце, густолиственные липы, обилие цветов… Но это не вчерашняя свобода – понятие чисто физической возможности. Сегодня свобода стала действительностью, распространившейся на всю родину Петера Спаре, на многие, многие тысячи людей, на весь его народ. Ворота тюрьмы распахнулись и для человеческой души – так распрямись же во весь рост и гордо шествуй навстречу новой жизни!
Да, эти мысли опьяняли гораздо сильнее, чем все ароматы цветов. Петер Спаре улыбался всему миру и каждому встречному, и встречные отвечали ему такой же дружеской, радостной улыбкой, словно знали, кто этот человек и о чем он думает, шагая по улицам города.
– Что я теперь должен делать? – спросил он у Силениека, когда тот собрался уходить с демонстрации на первое заседание Центрального Комитета партии. – С чего мне начинать?
Силениек с улыбкой потрепал его по плечу.
– Начни с отдыха, Петер. По крайней мере с неделю попривыкни к новому положению. Ты честно заслужил это.
– Да я не устал, Андрей, – пытался возражать ему Петер. – Как это сидеть без дела, когда у нас такая уйма работы?
– Ничего, еще наработаешься, друг. Работы хватит. А пока набери побольше воздуху в легкие и готовься к старту. Пробег будет дальний.
То же самое твердили Петеру и другие товарищи – Юрис Рубенис, балагур Ояр Сникер. Завела эту песню и Айя. И если бы Петер не знал, как они любили его, он бы разобиделся на них за эту опеку, решил бы, что его хотят отстранить от дела. Заладили одно: отдохнуть, отдохнуть…
Взглянув на какую-то витрину, Петер увидел в зеркале рядом с другими, румяными, покрытыми густым загаром лицами свое лицо – бледное, осунувшееся. Он понял, почему за него так беспокоились-, и все-таки не мог представить, как это он будет целую неделю слоняться без дела, есть, спать и умирать от скуки, когда только в напряженной ненасытной работе можно одолеть огромное задание, возложенное на его поколение историей.
Домой он вернулся поздно вечером, и тогда в семье Спаре начался праздник. Отец ходил из угла в угол, посасывая трубочку, и прислушивался к разговорам молодежи. Мать не сводила с Петера глаз и поминутно спрашивала, не нужно ли ему чего-нибудь. И несмотря на то, что вечер был теплый, даже душный, Петер покорно надел вязаный свитер, чтобы доставить матери удовольствие, – ведь она так заботилась о нем. Айя, Юрис, Ояр Сникер и Петер подсели к растворенному окну – и полились взволнованные речи: о будущем, обещавшем им столько нового и прекрасного, и о прошлом, о годах разлуки, о жизни в тюрьме. Петер и Ояр рассказывали, как они ухитрялись выполнять партийные задания под носом у тюремной администрации, о карцерах и одиночках, вспоминали они и верных, надежных друзей, вспоминали и малодушных. Этим разговорам не было бы конца, если бы Ояр вдруг в середине рассказа не свернул на одну из своих обычных историй.
– Между прочим, верьте не верьте, а я сегодня встретил на углу Мельничной и улицы Валдемара своего старого шпика, который спровадил меня в тюрьму. Помните, мы его Гориллой прозвали?
– Длиннорукий такой, с тупым взглядом? – кивнул головой Петер.
– Вот-вот. Сразу узнал меня, паршивец, но сам и виду не подал, то ли по излишней застенчивости, то ли еще почему. «Что это вы так заважничали, дорогой Горилла? – говорю я ему. – Не желаете старых друзей узнавать! Постойте минуточку, мне вам надо кое-что сказать». Он и ухом не ведет, знай шагает и все по сторонам косится, нельзя ли проскользнуть в какую-нибудь щелку. Наконец, возле каких-то ворот мне удалось схватить его за лапу и остановить. «На что же это похоже, молодой человек, говорю, чего ради мы несемся по улице, словно наперегонки? Никто нам за это не заплатит, а вы ведь ничего не любите делать даром?» Он еще попробовал оскорбиться, а сам дрожит, как иззябший пес. «Что вам угодно, да я вас не знаю, да оставьте меня в покое, а то я буду вынужден…» и так далее. «На улицу Альберта отведешь? Ладно, веди, веди, я ничего не имею против. Вот не знаю только, скажет ли тебе спасибо Фридрихсон, вряд ли он сейчас обрадуется этому. И вообще, уважаемый Горилла, чем переливать из пустого в порожнее, поговорим лучше начистоту. Скажи откровенно, сколько я должен государству?» – «За что?» – Горилла даже глаза вытаращил. «Вот ведь чудак! Все-то ему растолкуй да объясни, словно маленькому. Сколько тебе за меня заплатили? Сотню-то хоть получил?» Не знаю, как это у него вырвалось, но он прямо бухнул: «Сто двадцать латов». Правда, тут же спохватился, покраснел, хотел дать тягу, но из этого ничего у него не вышло.
«Как же быть теперь? – говорю я ему. – Сам ведь понимаешь, что деньги эти как в воду брошены. Я вот опять на свободе и, если на то пошло, стал еще опаснее, чем прежде. Вашему брату надо ждать от меня больших неприятностей. А те сто двадцать латов, что ты получил, придется возвратить в государственный банк, как ты думаешь?» Шпик мой только трясется, не до разговоров ему. «Вообще, говорю, в прошлый раз произошло явное недоразумение. Почему это идти в клетку, за решетку, должен был я, а не ты? Сам знаешь, что в зверинцах горилл держат за решеткой, а ты почему-то разгуливаешь по улицам, пугаешь честной народ. Никуда это не годится, дорогой Горилла, тебе пора в клетку, старина, и чем раньше, тем лучше. А в четвертом корпусе их достаточно». Через полчаса я его привел прямо в министерство и передал в надежные руки.
Странно было Петеру ложиться в мягкую постель, на чистую, прохладную простыню, после тысячи с лишним ночей, проведенных в тюрьме.
Свежий ароматный воздух вливается в растворенное окно; ни гулкие шаги надзирателя, ни звон связки ключей не доносятся из коридора; нет и дверного глазка, в который заглядывает осточертевшая рожа, проверяя, как ты спишь. Никто больше не осмелится прикрикнуть на тебя. Хочешь – спи, хочешь – мечтай, напевай вполголоса любимую песню, прохаживайся босиком по полутемной комнате. Ты все можешь. Ах, как это прекрасно, как хорошо! Свобода!
Рано утром тихонько приотворяется дверь, и ты вздрагиваешь всем телом, чуть не вскакиваешь с кровати. Нет, это не тюремщик, это твоя мать, тихая, заботливая душа. Ты закрываешь глаза и притворяешься спящим. Осторожно, чтобы не разбудить, она подтыкает одеяло, легко-легко проводит ладонью по твоей стриженой голове, блаженно вздыхает и на цыпочках выходит из комнаты.
Тебе так хорошо, что сердце изнывает от нежности и хочется плакать. Эх, Петер, Петер, разве так можно…
На следующий день он достал из сундука свои вещи: светлый летний костюм, полуботинки, рубашки, галстуки, серый плащ. Мать бережно хранила их все четыре года. Все аккуратно сложено, пересыпано нафталином, остается только проветрить, выгладить и потом… Ну, а потом?
Набродившись вдоволь по улочкам Чиекуркална, наговорившись с друзьями детства и соседями, Петер задумался. Вспомнилась ему последняя весна, проведенная на лесосплаве, апрельское солнце, первая зелень и мерцающие воды. Долгий рабочий день на реке, пахнущие смолой бревна и тихие крестьянские домики на берегу, куда он возвращался по вечерам. И ведь как будто ничего особенного там не было – серые деревянные постройки, фруктовые садики, обнесенные низкими заборами, кругом пашни и покосы, а Петер все вспоминал и вспоминал, – не столько домики, конечно, сколько людей, которые там жили. Была среди них одна… с золотистыми волосами и ясными голубыми глазами. Звали ее Эллой, и Петер обёщал ей приехать в гости к Янову дню. С тех пор прошло четыре Яновых дня, а свое обещание он так и не исполнил.
Там ли она сейчас? Ждет ли? Не напрасно ли вспоминает он те дни, оглядывается назад?
Но Петер уже не мог отвязаться от этих воспоминаний, и когда он подумал, что еще не опоздал к пятому Янову дню, что туда всего час езды по железной дороге, ему страстно захотелось очутиться в тех краях, взглянуть, все ли там по-прежнему.
Двадцать третьего июня он сел на поезд и поехал навестить дорогие по воспоминаниям места. И нигде никто не спрашивал его, куда он едет и почему именно теперь. Он был на свободе.
2
Она казалась скорее растерянной, чем удивленной, и в первые минуты оба не знали, как быть, что делать, о чем говорить.
– Значит, ты опять на свободе? – Элла посмотрела на Петера и покраснела.
«Какая ты прелесть, какая красавица!» – думал Петер, глядя на нее.
Давно, больше четырех лет тому назад, они, так же как сейчас, сидели на гладких валунах, с незапамятных времен лежавших на берегу. Так же струилась мимо река, образуя небольшие водовороты там, где излучина берега мешала течению. Только прибрежный кустарник стал гуще как будто и листва казалась темнее, чем в тот раз. И они сами больше не могли говорить и думать по-прежнему. Протекшие годы унесли с собой что-то из прошлого, но и принесли что-то новое. Петер не мог уже так свободно и непринужденно сесть рядом с Эллой на камень, – он боялся потревожить ее нечаянным прикосновением. Былую близость нужно было приобрести заново.
– Да, я опять на свободе, – ответил он. – Как будто совсем недавно расстались.
– Да, кажется, что совсем не так давно, – согласилась Элла.
– А ты… вспоминала обо мне когда-нибудь? – Голос Петера дрогнул. – Не сердилась, что не приехал к Янову дню?
– Сначала, правда, немного обиделась. Ведь я не знала, что ты арестован. Узнала только следующей весной, когда к нам зашли плотовщики. Мне стало стыдно, что я тогда сердилась. Ты ведь был не виноват. Я думала: тебе не было никакого интереса приезжать. Откуда я могла знать?
– Ну, а теперь?
– Ты ведь еще ничего не сказал.
– Тебе хочется, чтобы я сказал?
– Это тебе виднее…
Он подвинулся к ней ближе; она не отстранилась, когда он взял ее руку, она сидела покорная, ожидающая. Приятно было чувствовать рядом мягкое девичье плечо. Какая она была чистая, спокойная и светлая. В кустах возились птицы, а за рекой край неба горел заревом заката. Поскрипывая уключинами, проплыла мимо них лодка. Парень греб, а девушка, перегнувшись через борт, срывала белые и желтые кувшинки. В дальней усадьбе кто-то несмело затянул «Лиго».
Петер подождал, пока лодка не скрылась за поворотом, и сказал:
– Если захочешь, я скажу.
– Я все время жду, когда ты что-нибудь скажешь.
Нет, не могла она знать, что это значит, когда высокие каменные стены суживают твой мир до таких пределов, что в нем даже взгляду некуда устремиться и он, как выпущенная стрела, расшибается о них. Не могла она знать, что это значит, когда холодной зимней ночью, лежа на нарах, ты не в силах заснуть и вызываешь в памяти далекие прекрасные образы, чтобы не чувствовать холода принудительного одиночества. Сейчас лето, тепло, и перед глазами такой простор, что взором не окинуть, а выношенная в тюремных стенах тоска по любимому человеку еще и сейчас отдается в груди. Жизнь еще не успела отогреть его сердце. Если бы Элла могла знать все это, она бы не молчала так долго, не заставляла бы его говорить о вещах, которые надо угадывать с первого взгляда. Она бы поняла, что его душу надо согреть любовью, ободряющим взглядом и ласковыми словами, идущими от сердца, в котором нет ни расчета, ни ледяного спокойствия. Но Элла всего этого знать не могла, и он ни в чем не упрекнул ее. Наоборот – он был бесконечно благодарен ей уже за одно то, что она не встретила его как чужого и после невольно вырвавшегося от смущения «вы» перешла на дружеское «ты». Нет, ее не в чем было упрекнуть. Если бы Элла знала адрес Петера, она бы, конечно, писала ему. А сам он не решался писать ей то тюрьмы: как знать, не скомпрометирует ли девушку перед соседями такое письмо. Теперь это уже не имело никакого значения.








