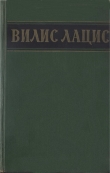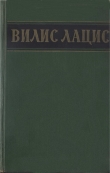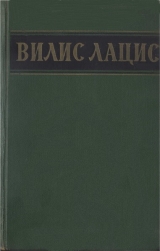
Текст книги "Собрание сочинений. Т.5. Буря. Рассказы"
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
– Я понимаю, – пробормотал Миксит.
Под утро взвод стрелков Юриса Рубениса окружил «зеленую гостиницу». Часовых сняли без шума, но когда Юрис со своими бойцами бросился в большую землянку, их встретили огнем автоматов. Пришлось пустить в ход ручные гранаты. Но даже после этого бандиты продолжали стрелять из последнего укрытия в глубине землянки.
Когда стрелки уже ворвались в это укрытие, бандитская пуля попала в грудь Юрису Рубенису. Он упал без сознания и не видал, как его товарищи очистили «гостиницу»: пять оставшихся в живых бандитов с поднятыми руками вышли из своего убежища и сдались в плен, восьмерых убили в коротком бою. В «гостинице» нашли изрядный запас оружия, боеприпасов и продовольствия.
Один сержант, нагнувшись над раненым командиром, убедился, что сердце еще бьется.
– Может быть, удастся спасти… – угрюмо сказал он. – Ну, а если нет… если капитан Рубенис умрет, – я своими руками расстреляю этих негодяев. Потом пускай судят.
Пленные забеспокоились. Один из них, запинаясь, сказал:
– Я военный фельдшер. Если желаете, могу оказать первую помощь.
– Обойдемся без тебя, выродок… – ответил сержант. – У нас есть свой врач.
Еще через несколько часов арестовали Радзиня и Ницмана.
3
Петер Спаре стоял у ската и смотрел, как бревна одно за другим – ползли вверх, отмеряя путь к лесопильному стану. Буксир только что привел новые плоты, и рабочие проворно двигались среди нагромождения бревен, разбирали их и распределяли по запани. Сын сплавщика, с детства приучавшийся держаться на движущемся по воде скользком бревне, Петер Спаре со знанием дела наблюдал за работой. Седоусые плотовщики, в самой непринужденной позе стоя на плывущих лесинах, так ловко действовали баграми, притягивая, поворачивая в нужном направлении и затем точным, красивым движением пригоняя каждое бревно на место, будто у них под ногами была твердая почва. Молодежь, только что начавшая обучаться ремеслу, без особой охоты покидала маленькие мостки. Иной храбрец уже успел выкупаться, вызвав этим веселый хохот товарищей. Это называлось крестинами, потому что ни один плотовщик не обошелся в свое время без такого купания.
Пилы пели свою бодрую песню, солнце отражалось в гладком зеркале воды. Дымилась древесная пыль, благоухали свежераспиленные доски; собранная в большую кучу, сохла древесная кора.
– Дружище, смотри багор не потеряй! – крикнул Петер молодому рабочему. – Слышишь, как стучит? Прибей покрепче к шесту, а то утопишь.
– Есть прибить, – бойко ответил парень и тотчас стал осматривать багор.
Петер шел дальше. На складской площадке он поговорил с носчиками досок, которые, взяв на плечи по пять-шесть досок, заносили их по наклонным мосткам на штабеля.
– Успеваете уносить, что напилят? – спросил Петер.
– Глядите сами, – ответил старый носчик, – из-за нас заторов не бывает. Товарищ директор, куда идет эта продукция?
– В Экспортную гавань; на строительство пристани. Остальной материал пойдет на суперфосфатный завод. Заказчиков так много, что не успеваем пилить.
– Да, материалу требуется много, – задумчиво сказал рабочий. – Пока все военные прорехи не залатаем. Ну, ничего, сообща как-нибудь. Если раньше для господ успевали, неужели для своей власти сил не хватит?
У сушилки Петер встретил старого Мауриня.
– Как дела, друг?
– Жаловаться не на что, – улыбнулся Мауринь. – Теперь у меня голова не болит. Пускай о заводе думает директор, у него голова умнее, а я со своей сушилкой как-нибудь управлюсь.
– Подожди радоваться раньше времени, Мауринь. Нигде не сказано, что ты надолго освободился от обязанностей директора. Меня ведь только временно сюда командировали, пока завод не достигнет довоенной мощности. После этого – до свидания, Мауринь, становись опять на свое место.
– Ну зачем дразнишь старика? – умоляюще сказал Мауринь.
– Я серьезно. Ты же знаешь, что после демобилизации меня совсем было взяли на другую работу. Рано или поздно, а отсюда уйти придется.
– Разве нельзя подготовить кого-нибудь помоложе?
– Зачем готовить, когда есть готовый? Проверенный на работе, с богатым опытом – наш старый Мауринь… Никто так не любит свой завод, как он.
Разговор прервал сотрудник конторы, который прибежал сказать, что директора просят к телефону: срочный разговор. Петер направился к конторе.
Звонил Ояр Сникер.
– Мне надо с тобой как можно скорей увидеться. Ты еще долго будешь у себя?
– До вечера.
– Тогда через полчаса приеду.
Действительно, через полчаса он был на заводе.
– Ну, что у тебя? – спросил Петер, входя с ним в свой кабинет. – Пиломатериалы, наверно, нужны для «Новой коммуны»? Немного могу подбросить.
– Нет, не то, Петер. Я не за этим…
Петер посмотрел на Ояра и тут только заметил, какое у него серьезное выражение лица.
– Очень плохое известие. Про Юриса… Ты знаешь, что он на днях поехал со своими стрелками в уезд чистить леса от бандитов.
– Ну? – Петер с внезапной тревогой посмотрел на Ояра. – Что с Юрисом?
– Давеча звонили из уезда. Юрис… убит при столкновении с бандитами.
– А Айя знает? Ох, ты понимаешь, Ояр, ведь в ее положении…
– Об этом я и хочу сказать. Хорошо, если бы ты к ней сейчас поехал, пока кто-нибудь случайно не сболтнул.
– Юрис убит… Всю войну ни одна пуля не тронула. Ведь разведчик, самые опасные места излазил. Бессмыслица какая! Ты точно знаешь, это правда?
– Начальнику уездной милиции, кажется, можно верить…
– Он сам был там?
– Ему сообщили…
– Нужно позвонить секретарю уездного комитета партии.
– Я могу позвонить, но ты все равно поезжай скорее к Айе. Все же легче услышать от близкого человека.
– Я сию минуту еду, а ты садись к аппарату и созванивайся с уездным комитетом. Если что узнаешь, звони в райком кАйе. Я до твоего звонка от нее не уеду.
– Ладно, Петер. Ты только поскорее.
Через двадцать минут Петер был в райкоме комсомола. Когда он вошел к Айе, сидевшие у нее второй секретарь и инструктор молча встали и вышли.
Айя испуганно посмотрела на брата.
– Ты про Юриса… – запинаясь, сказала она. – Я уже все знаю. Не бойся, Петер. Я ничего… Я выдержу. Разве Марте Пургайлис легко было услышать такое же вот… известие? Разве ей не больно было? Но нет – пока сама его не увижу… не поверю, не могу поверить.
Но как она ни сдерживалась, губы у нее вздрагивали, глаза блестели.
– Подумай, Петер, какая у нас началась прекрасная жизнь… И у нас, и у тебя, и у всех… – Айя говорила тихо, почти шепотом, подперев лоб рукою. – Мы так ждали ребенка… Только жаль, что он… Жаль…
– Я понимаю тебя, сестренка… – Петер погладил Айю по волосам, потом достал носовой платок и вытер ее влажный от пота лоб. – Ты такая, какой я всегда знал тебя, милая моя, сильная сестра, Айя, родная…
– Я знаю, Петер… хорошо, что ты пришел. С тобой мне легче…
Зазвонил телефон. Петер снял трубку.
– Слушаю. Ты, Ояр? Ну, что? И это проверено?.. Точно?.. – Он повернулся к Айе и громко крикнул: – Айя, ты слышишь, он жив! – Потом опять нагнулся над трубкой и стал слушать. Чувствуя на себе взгляд сестры, он время от времени ободряюще кивал ей. – Молодец, Ояр. Приезжай сейчас же. Все вместе поедем к нему.
Он положил трубку и радостно посмотрел на Айю.
– Все в порядке, сестренка. Юриса привезли сюда, в военный госпиталь. Полчаса тому назад оперировали… пуля извлечена… Да, его ведь в грудь ранили… но врачи уверяют, что опасность больше ему не угрожает.
Айя вдруг стала громко всхлипывать. Теперь она, не стыдясь, дала волю слезам.
4
С середины июля до середины августа Имант гостил в Биргелях. Была самая горячая пора. Не успели кончить уборку сена, как пришло время косить рожь. Имант с Жаном и Ритой каждый день работали в поле, наравне со старшими. В начале августа зашумела молотилка, а в воскресенье утром красный обоз потянулся к пункту Заготзерна.
Что значит для счастливых людей один месяц? Время летит как быстролетная птица, дни с непостижимой быстротой сменяются ночами, горячая работа – мечтаньями при лунном свете, а день отъезда все приближается, и молодым людям становится так грустно, будто подошла уже осень. Конечно, многое стало ясным многое непреложно решено на всю жизнь, но больно щемит сердце при мысли, что скоро потянутся долгие однообразные месяцы, которые придется прожить воспоминаниями о солнечном лете, нежными, заключенными между строками писем намеками, обещаниями и надеждами. Может быть, так и надо, может быть, это и хорошо, и без этого не возникает та большая красота, неизменно проявляющаяся в сближении двух людей на всю жизнь, но им это испытание кажется досадным измышлением неведомых завистливых сил.
Имант вернулся в Ригу загорелый, как цыган, повзрослевший духовно и физически.
Зельма Курмит ласково расспрашивала, как он провел время: она уже успела привязаться к юноше и радовалась его возвращению.
Дней через пять Имант получил письмо от Эльмара Ауныня, который приглашал его на следующее воскресенье в гости. «В городе состоятся легкоатлетические соревнования. Я тоже участвую в них – толкание ядра и прыжки в длину с разбега. Валдис и Занда Сунынь очень зовут тебя. Ты ведь не знаешь: Занда была в Москве и участвовала во Всесоюзном параде физкультурников. Теперь она, кроме как о Москве, ни о чем не говорит. Когда приедешь, услышишь много интересного…»
Имант собрался было поехать, но его задержали два важных события, следовавшие одно за другим в течение нескольких дней.
Как-то вечером к Ансису Курмиту зашел давний его знакомый, Аугуст Диминь, немолодой, очень болезненного вида мужчина, недавно вернувшийся из германского фашистского концлагеря.
Аугуст Диминь до войны жил на улице Пярну в том же доме, что и Селисы, и теперь пришел рассказать об одном событии, свидетелем которого ему пришлось быть.
– Своими глазами видел, что полицию привел дворник Свикул, – рассказывал Диминь. – В ту ночь больше ни одну квартиру не обыскивали, только эту девушку увели. Интересно, что дворник никому не рассказывал об этом случае. Через несколько месяцев, когда арестовали Анну Селис, он перетащил из ее квартиры всю мебель и вещи. И опять поздно вечером. Я тогда об этом не успел рассказать товарищам, меня самого вскоре арестовали и отправили в Саласпилский лагерь. Если у Свикула сделать сейчас обыск, там, наверно, что-нибудь нашли бы.
Курмит позвал Иманта.
– Ты ведь был у вашего дворника Свикула? Не заметил там что-нибудь из своих вещей?
– Ничего. Он мне сказал, что все вещи увезли немцы… И потом, мы все время сидели в кухне, в комнату он меня не повел.
– В комнату и нельзя было вести, – заметил Диминь. – Там ты много чего увидел бы.
Когда Имант узнал о наблюдениях Диминя, он не мог спокойно усидеть на месте.
– Мерзавец… Я этого предателя своими руками убью! Товарищ Курмит, пойдемте сейчас туда. Мы этого подлеца сегодня же…
– Спокойнее, Имант, – строго сказал Курмит. – Никуда он не денется. Все будет сделано законным порядком. Это ведь дело государства, а не наше с тобой только. Сегодня ты никуда не уходи, – можешь понадобиться.
Курмит с Диминем ушли, а Имант ходил взад-назад, из комнаты в комнату, не в силах унять своей ярости.
«Советской власти он сочувствовал… Не мог понять, почему Ингрида не постучалась к нему… Подожди, скоро постучат…»
Под вечер вернулся Курмит и сказал Иманту, что все в порядке.
– Сегодня ночью ты будешь нужен.
Ночью к дворнику Свикулу пришли несколько человек и произвели обыск. С ними были Диминь и Имант.
– Можете вы опознать что-нибудь из своих вещей? – спросил у Иманта сотрудник НКВД.
Имант внимательно осмотрел мебель, вещи. Из имущества Селисов здесь был только комод, все остальное Свикул продал или спрятал у знакомых.
– Посмотрим в платяном шкафу. Может быть, там что-нибудь найдется?
Дворник подбежал к шкафу, загородил своим телом дверцу.
– Шкаф пустой… только так здесь стоит… – торопливо говорил он. – Мы им и не пользуемся, ключ куда-то девался…
– Ничего, мы откроем…
Шкаф открыли. За висевшей в нем одеждой в самом углу, скорчившись в три погибели, сидел бледный от ужаса молодой мужчина, один из тех, кто часто появлялся у Свикула после посещения Эдит.
Его обыскали. Оружия при нем не было. Ознакомившись с его документами, сотрудник НКВД с довольной улыбкой сказал:
– Мы вас давно ждем. Где вы так долго пропадали?
В шкафу Имант увидел купленное матерью перед войной пальто. Из вещей больше ничего не нашли, но не в них было дело: важно было то, что предатель, выдавший Ингриду, нашелся, что восторжествовала справедливость. Свикул вначале все отрицал, но доказательства были слишком неоспоримы, а тут еще спрятанный в шкафу, давно разыскиваемый бандит…
Это было первое событие, удержавшее Иманта от поездки к друзьям. Второе событие было еще важнее, и притом самого радостного свойства.
Однажды утром с прибывшего в Ригу поезда дальнего следования сошла седая, сильно исхудавшая женщина. Вид ее казался настолько необычным, что, когда она шла через центр города, многие прохожие останавливались и сочувственно глядели ей вслед. На обветшавшей кацавейке был нашит черный крест, видневшийся из-под замызганного в долгих странствиях, перекинутого через плечо мешка.
Тихим, усталым шагом брела она по городу. На лице ее запечатлелись следы долгих страданий, но взгляд был успокоенный, светлый. Иногда она останавливалась и приглядывалась к домам, наблюдала за уличным движением; заметив, что на нее смотрят, снова медленно продолжала свой путь. Двое-трое любопытных подростков, проводивших ее за несколько кварталов, видели, как она вошла в один из домов по улице Пярну. Минут через десять женщина вышла и, перейдя Воздушный мост, направилась к Чиекуркалну. Миновав несколько улиц, она добралась до старого двухэтажного дома. У ворот немного отдохнула, отерла ладонью с лица пот и пыль, потом вошла во двор.
Так Анна Селис вернулась на родину. Незнакомая пожилая женщина отворила ей дверь.
– Доброе утро.
– Доброе утро, – ответила Зельма Курмит и, подойдя к кухонному шкафу, достала оттуда ломтик хлеба. Не говоря ни слова, она протянула его вошедшей.
Горькая улыбка появилась на лице Анны.
– Спасибо, добрая хозяюшка… Не за этим я пришла. У вас живет мой сын… Имант Селис?..
Зельма тихо ахнула, глаза у нее наполнились слезами. Она подхватила Анну под руки и, как ребенка, подвела к стулу. Усадила, сняла с плеч мешок.
– Товарищ Селис, – шептала она, гладя руки Анны. – Вернулись, наконец-то вы дома… Имант… я его сейчас позову, он в своей комнате занимается. Может, вы сначала закусите? У меня в духовке каша стоит, – вам можно есть кашу?
– Не беспокойтесь… спасибо вам большое… Мне бы скорее повидать Иманта, остальное потом.
Зельма отворила дверь в комнату и крикнула:
– Выйди на минутку, Имант. Тебя хотят видеть.
Через минуту в кухню вошел стройный, широкоплечий юноша в полосатой тельняшке, с густыми волнистыми волосами, с темным пушком на верхней губе. Его голубые глаза вопросительно и серьезно глядели на гостью.
– Что такое? – спросил он, и Анна не узнала этого голоса, таким он стал звучным, мужественным.
Наконец, он узнал. Не сказав ни слова, большими шагами подошел к матери, обнял ее, прижался щекой к седой голове и закрыл глаза.
Несколько дней Анна прожила у Курмитов. Всегда обо всех заботившаяся, Зельма дала ей кое-что из своего белья и платье. По вечерам, когда возвращался с работы Ансис Курмит, вся семья сходилась в комнате Иманта и Юрки и слушала рассказы Анны про фашистскую каторгу.
То была страшная повесть о голоде, побоях, о непосильном труде и постоянной угрозе смерти, о переполненных бараках и зимних холодах, от которых негде было укрыться ни днем, ни ночью; о переходах из лагеря в лагерь, все дальше на запад. Уставших расстреливали и оставляли на краю дороги. Все ближе и ближе подходила Советская Армия, а по дорогам Германии гнали на запад толпы предназначенных для уничтожения людей, которые вечером не знали, суждено ли им увидеть утром солнце.
Смертельно измученных, больных, освободила их Советская Армия. Месяц лечения в больнице, отдых – и только после этого Анна смогла вернуться на родину.
Раньше времени побелели ее волосы; перенесенные страдания подорвали здоровье, но не могли сломить ее стойкого духа. С гордостью смотрела Анна на своего взрослого сына. Больная и утомленная, она была готова заботиться о нем, поддерживать его в трудную минуту. Вокруг шумел ветер новой жизни, и она уже торопилась работать, занять свое место в строю.
Но этого ей пока не разрешали друзья.
Часто, оставшись вдвоем, мать и сын вели долгие разговоры: мечты о будущем переплетались в них с воспоминаниями о прошедшем, о безвременно погибших Арии и Ингриде.
– Имант, сынок, – говорила Анна. – Ты этого никогда не забудешь! Ведь не забудешь?
– Никогда, мама, – тихо отзывался Имант. – Не забудем и не простим. Я и сам… Я и сам давно про себя решил: жить буду для того, чтобы уничтожать все подлое на свете. Беспощадно бороться, мама!
– Это, сынок, будет трудная борьба. – Анна невольно улыбнулась его полным страсти словам. – Хорошо, что об этом мечтаешь. Помнишь, что «Дядя» говорил – и тебе и мне? Ненавидеть зло, темноту, дикость, бороться с ними всю жизнь… Это и есть самая настоящая любовь к людям.
– Я хочу быть таким, мама, как «Дядя», как Роберт Кирсис.
Через несколько дней, когда Ансис Курмит достал Анне путевку в санаторий, она уехала в Кемери, а Имант переселился в общежитие мореходного училища.
1
По указу Президиума Верховного Совета СССР, летом 1945 года Эрнест Чунда был амнистирован, не отбыв и четверти срока наказания. Понятно, он радовался этому неожиданному событию, но радость его продолжалась до того лишь момента, когда он очутился на свободе. Тут в нем опять проснулась безрассудная злоба на весь свет за прошлые и будущие неприятности. Что ни говори, а биография испорчена. Кто виноват? Виновата была, по его мнению, прежде всего война со своими ужасами, заставившими его уничтожить партбилет и принять различные меры предосторожности; виновата была Рута, уехавшая искать приключений на фронте и у партизан и, наконец, сделавшая своего законного мужа Эрнеста Чунду вдовцом; виноваты были Эмилия Руткасте и Джек Бунте, втянувшие его в сомнительное предприятие, а больше всех виноват был тот одноногий – Капейка или как его там…
Подумать только, что из-за его сектантской принципиальности и тупости, из-за его равнодушия к таким вещам, как деньги и мясо, бросили в тюрьму безукоризненно честного человека!
Страдалец, жертва судьбы… – так чувствовал себя Эрнест Чунда, бродя с унылым лицом по улицам Риги. Беспокоила мысль о квартире, о мебели и разных вещах, так удачно приобретенных прошлой зимой. Осталось там что-нибудь, или Эмилия все пустила по ветру?
«С Эмилией у меня будет крупный разговор, – думал он. – Отвечать тебе все равно придется, уважаемая…»
Настроенный очень воинственно, Чунда направился прямо к Эмилии Руткасте. В тюрьму он вошел во всем зимнем, в том же виде вернулся теперь на свободу. Солнце пекло немилосердно, и от жары и от любопытных глаз, оглядывающих странно одетого человека, Чунда готов был сквозь землю провалиться. Счастье, что не встретился ни один знакомый, а то бы не избежать насмешливых расспросов.
Вот он и дома. Поднявшись по лестнице, Чунда нетерпеливо нажал кнопку звонка.
Эмилия была сконфужена и удивлена.
– Эрнест!.. Вот неожиданность-то!..
– Не ждала? – Чунда злорадно улыбнулся. – Думала, на всю жизнь избавилась? Мало ли что, не всегда получается, как нам хочется. Радуйся, милая, твой возлюбленный опять дома. Чего такая кислая?
– Я так разволновалась… Опомниться не могу… Почему ты не сообщил ничего? Я бы встретила на извозчике.
– Блудный сын всегда пешком возвращается.
Прежде чем раздеться, Чунда прошелся по всем комнатам. Кое-что из мебели стояло еще на месте, но своего рояля он не увидел, не было и шикарного буфета.
– Где мои костюмы, белье? – спросил он.
– Все у меня в гардеробе.
– А остальные вещи?
– Мне же пришлось оплатить счета по твоей квартире и потом штраф, – объяснила Эмилия. – Вот я и продала. А квартиру твою заняли.
– Могла бы и своими деньгами! Как будто эти счета и штраф касались меня одного. Для кого я вез этот товар, будь он проклят? Для твоей же лавочки.
– А попался все-таки ты, – съязвила Эмилия. – Каждый сам расплачивается за свое ротозейство.
– Спасибо за откровенность, – иронически-любезно поклонился Чунда. – В таком случае позвольте уж и мне быть откровенным.
– Сделайте милость.
– Я принял решение впредь не связывать свою судьбу с подозрительным и преступным элементом. Можете считать себя свободной, уважаемая гражданка. Продолжайте спекулировать говяжьими костями, а я от вас ухожу сегодня же. Отдайте только мне мои вещи.
– А если мне нечего отдавать?
– Тогда я буду следить за каждым вашим шагом до тех пор, пока не поймаю на какой-нибудь махинации. Пусть и вас отправят на несколько лет туда, откуда я вернулся.
– Можешь забрать свои вещи и засолить впрок! – взвизгнула Эмилия. – Сокровище какое твои вещи! Обманщик, жулик, обезьяна паршивая! Убирайся к своей первой жене, только не знаю, примет ли она тебя.
– Что ты болтаешь, Эмилия! – оторопело пробормотал Чунда. – Ее давно на свете нет.
– Ничего, воскресла. Могу тебе и адрес дать, если не знаешь.
Она назвала улицу и номер дома.
Чунда от такого неожиданного известия даже присмирел.
– Я вижу, из нас пары не получится… – примирительно начал он. – У меня мятежная душа, а ты женщина практичная. Разойдемся полюбовно и не будем мешать друг другу. Отдай только мои вещи, больше я ничего не прошу.
– Забирай и уходи хоть сейчас, – сказала Эмилия. Она была рада-радешенька отделаться таким способом от Чунды, уж очень ее напугала перспектива слежки.
Трудно сказать, на что рассчитывал Чунда, идя к Руте. Просто не мог до сих пор поверить, что жена всерьез решила оставить его.
Рута была дома одна. С детски-ясным лицом, выражающим непритворное удовольствие, Чунда смотрел на нее и крепко жал руку.
– Сегодня самый счастливый день в моей жизни, дорогая Руточка. Как я рад, что ты жива. Тут уж некоторые давно тебя похоронили; когда я услышал об этом, мне казалось, что свет померк.
– Что тебе надо, Эрнест? – спросила Рута. Она не испытывала ни волнения, ни раздражения, как будто перед ней стоял посторонний человек.
– Пора нам с тобой наладить нашу семейную жизнь. Достаточно мы сердили друг друга. Забудем все неприятности и будем жить по-старому.
– Как, ты опять начинаешь этот разговор? Ведь давно все решено, все сказано. Лучше не теряй попусту времени, – тебе здесь делать нечего.
– Почему? – удивлялся Чунда. – Я ведь тебе муж.
– Ошибаешься. Пока ты отбывал наказание, я развелась с тобой.
– Развелась… Воспользовалась несчастием, чтобы отделаться от меня… А ты знаешь, что это называется предательством!.. Лежачего не бьют. Я упал, а ты в этот тяжелый момент ударила меня. Разве так поступают близкие люди?
Рута нетерпеливо мотнула головой.
– Эгоисты и трусы не могут быть мне близкими. Иди своей дорогой и оставь меня в покое. Устраивай свое счастье, как тебе угодно: я не буду завидовать.
– А если я тебе предложу свою дружбу? – упрямо продолжал Чунда.
Рута ничего не ответила. На минуту водворилась тишина, которую нарушил звонок. Рута выбежала в переднюю, и Чунда услышал тихий взволнованный шепот. Он вскочил со стула, выпятил грудь, чтобы с благородным, независимым видом встретить соперника, – кто же еще мог прийти?
В дверях показался Ояр Сникер – он пришел прямо с работы.
– А, гость? – сказал он. – Добрый вечер, Эрнест.
– Добрый вечер, – буркнул Чунда. Ему все стало ясно.
Ояр протянул Чунде руку, потом стал приглаживать перед зеркалом волосы с таким видом, будто приход Чунды ничуть его не удивил.
– Мне здесь, пожалуй, делать нечего, – нервно сказал Чунда и направился к двери.
Ояр обернулся.
– Погоди, куда ты торопишься? – спокойно и серьезно сказал он. – Садись, поговорим. Я думаю, у нас есть о чем поговорить.
– Не знаю, как у тебя, а мне с тобой говорить не о чем, – резко ответил Чунда.
– Подумай о своем будущем, Эрнест. Свернул ты на кривую дорожку и черт знает кем стал. Одумайся, возьми себя в руки, докажи, что ты способен еще исправиться и стать человеком. Если не сделаешь этого сейчас, то пропадешь окончательно.
– Спасибо, папаша, – огрызнулся Чунда. – Много детей вы воспитали в таких строгих правилах?
– Пойми, что тебе добра желают, – продолжал Ояр, не обращая внимания на его остроты. – Неужели у тебя не хватает мужества признать свои тяжелые ошибки? Ты очень виноват перед народом. Посмотри, куда ты зашел – ведь это же болото, трясина. А возможность исправиться еще есть. Приходи ко мне на завод, я дам тебе работу, помогу тебе…
– Поезжай лучше в Африку миссионером – у тебя к этому способности! – крикнул Чунда и выбежал из комнаты.
Он бежал по улице и чуть зубами не скрипел от душившей его злобы.
Сам он был равнодушен к людям и ни на минуту не поверил в искренность слов Ояра. Желание помочь он принял за лицемерие, насмешку, желание унизить. Да, унизить. Сами обокрали его, а теперь учить лезут. Жалеют, милостыню предлагают!
– Ну вас всех к черту! Жалеть меня нечего!.. Я еще вам покажу! Вы еще увидите, увидите…
2
На станции Упесгале с вечернего поезда сошла женщина лет под тридцать. Ее платье, правда и поношенное и запылившееся в дороге, свидетельствовало о том, что она знавала лучшие времена. Бледное красивое лицо выражало усталость и апатию. Женщина вскинула на плечо довольно тощий мешок и быстро зашагала по перрону, чтобы избежать встречи с несколькими местными жителями, которые ждали поезда. Миновав полуразрушенное здание станции, она очутилась на небольшой мощеной площади, где у длинной коновязи стояло несколько крестьянских подвод. Глядя куда-то в сторону, женщина прошла мимо подвод и направилась к центру волости, до которого было несколько километров.
У исполкома и магазина потребкооперации тоже стояло много подвод; голоса крестьян были далеко слышны в тихом вечернем воздухе. Поровнявшись с подводами, женщина снова отвернулась, опустила глаза. Позади какой-то крестьянин громко сказал:
– Видала? Как две капли воды – дочка Лиепиня…
– Это которая убежала с немецким женихом? – спросил женский голос. – А что ей здесь делать? Ты, наверно, обознался.
– Что же удивительного? Напрыгалась, наголодалась, а теперь, поджав хвост, ползет обратно к неотесанным латышам.
Элла Лиепинь-Спаре-Рейнхард покраснела, как от пощечины, и ускорила шаг.
«Какие люди бессердечные… – думала ома, – только бы порадоваться чужой беде, – больше им ничего не надо. Они знать не хотят, что человек пережил, какие ужасы перенес, с какими чувствами возвращается на родину. Наголодалась, ползет, поджав хвост…» От стыда и злости Элла готова была заплакать, но к чему слезы, если поблизости нет ни одной сочувствующей души.
Меньше года не была она дома, а чего только не пережила за это время. Сколько страху натерпелась, пока ехала на машине крейсландсвирта Рейнхарда по забитым войсками дорогам! Налеты советской авиации… ночевки в лесу под мокрыми от дождя кустами, угрюмые, недружелюбные лица латышских и литовских крестьян… Маленькая темная комнатка в Кенигсберге, окружение, налеты авиации, уход Рейнхарда в армию и тяжелые принудительные работы по рытью укреплений… Потом этот ужасный штурм Кенигсберга, фантастический огонь советской артиллерии, горящие рушащиеся дома и страх, безумный страх… Настоящее светопреставление. Мороз по коже подирает при воспоминании об этом.
Но еще страшнее думать о будущем. Кто оправдает и простит? Что отвечать на вопросы людей? А вопросы будут – трудные, унизительные, – и ей придется на них отвечать.
Одна надежда, что Петера нет в живых. Хоть бы ему не пришлось ничего рассказывать… Расма еще ничего не понимает, а с родителями можно как-нибудь столковаться. Придется некоторое время жить, как в тюрьме, никуда не показываться, пока людям не надоест говорить об Элле Лиепинь, пока новое событие не отвлечет их внимание.
Элла шла нарочно помедленнее, чтобы попасть в Лиепини в сумерки, – тогда соседи не заметят. Но светлы летние вечера, а дорога от станции до усадьбы так коротка… Солнце еще не спряталось за горизонтом, а Элла уже подходила к отцовскому дому. Мелкими, робкими шажками, боясь потревожить собаку, как вор приближается она ко двору. Вот и я, милые родители… не призрак, не образ воспоминаний, а ваша родная дочь, которую вы и не надеялись дождаться…
Отец молча сморкался, мать всхлипывала – и от радости и от навалившихся забот, – только маленькая Расма болтала не переставая и тянула ее посмотреть новые игрушки. Больше всего она гордилась большой куклой с голубыми, как незабудки, глазами, одетой в клетчатый национальный костюм.
– Посмотри, мамуся, это мне папочка прислал. И это ведерко тоже… Правда, красивое ведерко?
А Лиепиниене, будто подтверждая скорбную весть, кивала головой.
– Да, доченька, вернулся. Только раз и приезжал, в самом начале. С тех пор не был.
– А зачем ему приезжать? – вмешался в разговор отец. – Он и Расму, дайте срок, возьмет к себе, сколько вы ни войте…
– Ну, что он, – чуть слышно спросила Элла, говорил что-нибудь?
– А когда он был разговорчивым? Приехал такой задумчивый, посидел немного, помолчал, поиграл с Расмой и ушел… к Закисам. Теперь ведь их водой не разольешь. И я вот что скажу, дочка, если не хочешь упустить его – надо торопиться. Прямо завтра же поезжай в Ригу, повидайся с Петером. Понятно, Закисы ему невесть чего наговорили про тебя, но как ни верти, а ты ему законная жена. Может, он хоть ради ребенка не станет рушить семью. А если долго будешь мудрить, смотри, как бы Аустра не подцепила его, or этой девки всего можно ждать.
– Не выдумывай, старуха, не срамись, – оборвал ее Лиепинь. – Оставьте вы в покое этого человека. Да я бы сам на месте Петера погнал вас поганой метлой.
– И это называется отец! – всплеснув руками, воскликнула мамаша Лиепинь. – Не слушай его, доченька, совсем он ополоумел. Уж кого бы осуждал, а то свое родное детище…
– А, что с глупыми бабами разговаривать. – Лиепинь махнул рукой. – Только вот что я вам скажу: если Петер не примет Эллу обратно, пускай она не думает, что я ей позволю жить здесь барыней. Пускай сама зарабатывает свой хлеб…
После этого мать с дочерью больше не говорили при старике о таких вещах, а уединились в укромный уголок и долго там шушукались.
Несколько дней спустя, отдохнув немного с дороги, Элла нарядилась в лучшее платье, напудрилась, накрасила губы и брови и поехала в Ригу. Поехала не с повинной головой – нет, она уже преисполнилась сознанием своих прав, она спешила получить то, что ей причиталось, – так ее научила многоопытная мать. Элла решила нагрянуть как снег на голову, смело и самоуверенно наступать на Петера: характера он тихого, смирного, у него просто духа не хватит отказать – и их семейный союз будет скреплен большой заплатой, а потом все как-нибудь заживет.